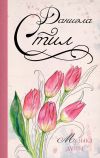Текст книги "Время барса"

Автор книги: Петр Катериничев
Жанр: Боевики: Прочее, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 35 страниц)
Глава 54
Через четверть часа они уже сидели, прислонившись к громадному монолиту скалы. Вернее, это была даже не скала: похожий на каньон почти отвесный обрыв был расчерчен слоями тектонических пород, и человек знающий мог бы прочесть по ним историю земли легче, чем сказку по простой книге… От этого величественного могущества, так близкого к вечности, становилось не по себе. А море… Оно было куда ближе людям, чем подавляющие своей грозной монументальностью камни, оно было живым и понятным. Солнце уже купалось в нем, засыпая; в затухающем пламени заката море перекатывало играющие янтарным светом густо-малиновые волны на гладкие ложа камней и отступало назад, потемневшее, сонное, шурша захваченной с собою горстью земного праха… И так – из года в год, из века в век, всегда.
– Ты знаешь, я подумала… – тихо заговорила Аля. – Здесь, на юге, красиво. Вернее, нет, не то… Это завораживает. И еще – чувствуешь какой-то трепет… Берег, море, мерное чередование волн. И эти скалы… Смотришь, в простом камешке – окаменевшая раковинка… И жила она триста миллионов лет назад и триста миллионов зим, когда никого из людей не было вообще… Здесь красиво. И можно представить, как на этих берегах греки сражались с варварами, как конница скифов сшибалась в смертельной схватке с византийцами, и тела павших воинов лежали брошенными в степи, но очень скоро от них оставались лишь гладкие, выбеленные ветром костяки между темной зеленью горькой полыни и седыми кисточками ковылей…
А сейчас? Города серы и гнусны, там невозможно стать героем. Там невозможно даже погибнуть! Только – откинуться, скопытиться, сгинуть… Сгинуть, чтобы быть зарытым на громадном новом кладбище среди бесконечных бурых или занесенных снегом бугорков… Среди могил людей, которые… Знаешь, почему Наполеон не смог у нас воевать? Под небом Италии или Испании его храбрым солдатам было сладко геройствовать, как под взглядом красавицы, даже погибая!
Здесь… в России они просто дохли – от ран, голода, холодной и слякотной стужи, безымянной пули из темного бора… Французы выиграли и сражение, и войну, чтобы потом сгинуть попусту.
Аля сидела какое-то время молча, напряженно размышляя. Произнесла тихо:
– Наполеон потерял все: и корону, и империю, и жизнь. Все, кроме славы.
– Ты не права, девочка. Война уродлива. И никакая слава не сможет это уродство скрыть.
– Война – это уродство?
– Самое гнусное из тех, что я знаю. Она уродует душу.
– Тогда скорее… война это болезнь. Души, духа, сознания… А у нас давно – эпидемия войны. Кто-то от нее умирает. А кто-то, наверное, и выздоравливает.
– Любопытная мысль…
– Да ничего не любопытная, Влад! Это самая настоящая правда! Спроси у людей из следующего за военным поколения, за что же на самом деле сражались и умирали их отцы, и эти люди не найдут, что ответить! Одни будут повторять дежурные догмы, навязанные им пропагандой, другие – размышлять о какой-нибудь геополитике, но у всех в глазах будут лишь пустота и скука… А ведь были искренние порывы, идеалы, страсть, самопожертвование, все то, что так привлекает идущее за поколением воинов поколение обывателей… И это были войны мировые, значимые, те, в которых решались судьбы стран и народов… А сейчас? Их и называют стыдливо: не войны, а локальные военные конфликты… Локальные конфликты… А ведь у нас… у нас сейчас и не жизнь в стране, а один большой «локальный военный конфликт». Где за деньги одни двуногие убивают других двуногих… Хм… Локальный военный конфликт как способ существования человечества… Забавно?
– Угу. Но не смешно.
– Знаешь… Я тут подумала… Продажная смерть куда хуже продажной любви.
Пауза была на этот раз долгой. Солнце уже ушло, но его свет из-за горизонта, отраженный небом, красил море дивными, совершенно неземными красками… Море засыпало, меняя цвета, становилось то темно-сиреневым, то фиолетовым, лишь кое-где оставаясь расцвеченным оранжевыми и золотыми бликами.
– Аля… А кто тогда я? – нарушил затянувшееся молчание Маэстро.
– Не знаю.
– Твое «не знаю» звучит как приговор.
Девушка ничего не ответила. Возможно, она даже не расслышала слов Маэстро.
Она смотрела на закат. Небо пламенело, меняя цвета от густо-малинового до бледно-алого, пока не становилось сиренево-фиолетовым на востоке. Там зажигались звезды. Аля смотрела долго, будто находясь под неведомым гипнотическим воздействием; вряд ли она понимала, что недавнее затмение подсознательно испугало ее, как и все живое, пробудив мистические страхи о когда-то исчезавшем свете во время казни Спасителя, или страхи эсхатологические – конца света и Страшного суда… Девушка просто смотрела на заходящее солнце, не в силах оторвать взгляд.
– Жаль, что уход человека не столь прекрасен, как закат солнца… И нет в нем ничего от вечности… Наверное, мы очень провинились в этом мире, и нас наказывают, – произнесла Аля тихо и внятно. Потом наклонила голову, закрыла лицо ладонями. – Маэстро, мне страшно, мне очень-очень страшно… Словно я раньше жила в мире, покинула его и не вернусь назад уже никогда… То, что я говорю… порой мне кажется, что это какое-то сумасшествие… Мне вовсе не нужно говорить все это, мне не нужно даже думать над этим всем, мне нужно просто жить, и любить, и быть любимой, а вместо этого… Мне кажется порой, что по-настоящему я живу только в снах. Почему так?
Маэстро пожал плечами:
– Не знаю. А что все-таки тебе снилось? Что-то хорошее? – поспешил добавить он, увидев, что девушка уходит даже не в депрессию – в состояние сумеречной истерии. – Гигантский ящер, похожий на меня… А еще?.. В твоем сне ведь было что-то хорошее?
– Да. Откуда ты знаешь?
– Ты улыбалась, когда спала. Что тебе снилось?
– Сначала – юноша, этакий капитан Грей из книжки про алые паруса… Он предложил мне искупаться с ним… Но я не согласилась.
– Испугалась?
– Н-н-нет. Если правду – я была… поражена. Его совершенством. Это было как наваждение. Поэтому я и испугалась.
– Может быть, так и следовало?
– Может быть. Тем более, море было… плоское и ленивое, будто подсолнечное масло. И еще – было темно. Вернее, стало темно. Вернее… – Девушка задумалась, собрав чистый лоб морщинками:
– Нет, все не так было. Сначала мне снилось море. Но не такое, какое есть, а скользкое, как медуза. Потом снилось, что я уже проснулась, и свет померк. Ну а потом – вот этот вот капитан Грей…
Мне снилось, будто я уже проснулась, а он подошел и сел рядом.
– Приставал?
– Не-а. Молчал. А вообще… Как в песне; «Я сидела у берега моря и смотрела на старый причал… У причала какой-то мальчишка…» Но этот – не плакал. Просто присел рядом и перебирал раковины. Большие такие раковины, красивые, их еще к уху подносят, чтобы услышать море… У него они были в сетке, и он…
Аля замолчала, глядя в одну точку, потом произнесла скорбно и абсолютно серьезно;
– Беззаботности хочу. И беспечности. Притом – я все понимаю и про этот мир, и про войну… Но хочу беззаботности. И счастья. И даже не потому, заслужила я или нет;.. Счастье, как и любовь, вовсе не заслуга, а дар. Вот я и хочу, чтобы мне это подарили. Просто так.
Аля вздохнула, словно уставший от одиночества ребенок.
– И пусть вокруг война, и ночь, и пустые скалы… Я все равно хочу беззаботности. У меня ведь никогда этого не было. Никогда. И наверное, уже не будет. – Аля вздохнула. – Может быть, именно так и уходит юность. Ты понимаешь?
Маэстро с улыбкой покачал головой. Хотя… Когда тебе нет двадцати, жизнь делится не на десятилетия, а на годы. Юность уходит… Сказать ей, что так будет не раз и не два в будущем? Что за жизнь человек только теряет?.. Теряет непосредственность, ясность взгляда, теряет веру в людей, в благородство и справедливость, теряет мечту… А если что и приобретает, то только боль. И ничего, кроме боли.
Маэстро промолчал. Вряд ли все, что он знал для себя, будет для нее утешением. Да и откровение из этого тоже неважное. Если не можешь сказать ничего доброго – молчи. Может быть, это не так честно, зато по совести. Никому не нужна правда, если она не соткана из грез.
– Маэстро, а ты умеешь толковать сны? – спросила Аля чисто по-женски, безо всякого перехода. – К чему снится раковина?
– Вместе с устрицей?
– Нет. Вместе с юношей-атлетом.
– Вот такая? – Маэстро раскрыл сумку и вытащил крупную, красивую раковину рапана, поднес к уху, послушал, молчал с полминуты, довольный произведенным впечатлением, спросил:
– Похожа?
– Да. Где ты ее взял?
– Он лежала рядом с тобой, там, на берегу. Но ты ее почему-то не заметила.
А я – подобрал.
– Может быть, она просто валялась?
– Вряд ли. Таких больших рапанов на берег не вынесет ни одна волна.
Подводники берут их на довольно приличной глубине.
– Так, значит, это был не сон?.. – Искреннее удивление отразилось на Алином лице. – А вообще-то… жаль.
– Себя?
– Маэстро, ты такой непонятливый! Всегда, всегда людям жаль только того, что не сбылось, понял? Жаль отлетающую юность, жаль несостоявшуюся любовь…
Жаль проходящую жизнь! О чем еще жалеть?
– Больше не о чем. Всякая жизнь есть не что иное, как томление по ее краткости.
Аля вряд ли расслышала; она замерла на миг, глядя прямо перед собой, спросила:
– Слушай, Влад… А тьма тоже была… наяву?
– Да. Тьма была наяву. Ты видела солнечное затмение. Девушка замерла, глядя прямо перед собой невидящими глазами:
– «Тьма, пришедшая со стороны Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…» Маэстро, ты загрустил?
– Наверное, виноват закат, – произнес Маэстро. – Красное зарево над черной водой… В таком месте родятся мысли о преисподней.
Аля вздохнула, глянула на мужчину исподволь:
– Влад… Ты извини, если я что-то не так сказала…
– Все так. – Маэстро усмехнулся горько:
– Мне надлежало стать актером.
Возможно, это был бы великий актер. – Он замолчал, на этот раз Але показалось, что пауза тянется долго, бесконечно долго. – Жизнь прошла бездарно, другой не будет. – Маэстро вздохнул, повторил со спокойной обреченностью:
– Жизнь прошла.
– Влад, ты не можешь…
– Подожди, Аля. Каждый человек отвечает за свое прошлое. За все в нем.
Никому никогда не удавалось начать жизнь с чистого листа. И даже у самого добропорядочного обывателя отыщется в памяти несколько таких эпизодов, которые он не рискнет доверить ни бумаге, ни дневнику и сам желал бы забыть навсегда…
Я не был мирным обывателем. У меня не только есть, что забыть, но много того, что нельзя вспоминать никогда и нигде.
– Даже на исповеди?
– На исповеди особенно.
Аля повернула голову, попыталась поймать его взгляд… Ей хотелось понять… Но Маэстро закрыл глаза, помассировал веки и произнес тихо и очень спокойно:
– Мне страшно предстать перед Всевышним, девочка. Страшно.
Глава 55
Ночь легла мгновенно, без сумерек, как бывает на юге, и только кроваво-красное зарево заката светилось над черным морем мерцающими угольями; все прежние цвета исчезли, остались только эти два, могучие и чистые: пламенеющий ровно, будто жар костра, цвет огня и крови и непроницаемый, словно плащ ночи, цвет мрака и преисподней.
Мужчина и девушка снова шли вдоль берега; прибой сонно и почти бесшумно перебирал гальку, море дышало негой и покоем.
Два длинных луча прорезали фиолетовую темень неба, уперлись в ставший мутно-багровым закат и застыли так, будто наткнувшись на непроницаемую преграду, а вслед за тем блуждающий свет фары зашарил по небу неверной трясущейся пятерней, бог весть что выискивая наобум и на ощупь. Сам автомобиль вырисовывался в упавшей тьме неверным силуэтом.
– Мы что, опоздали? – спросила девушка.
– Нет. Это они успели раньше.
– Слушай, Маэстро, а ты, похоже, рад? У тебя даже глаза заблестели.
– Рад? Чему?
– Вот этого я не знаю, – произнесла девушка едва слышно, но Маэстро уловил в ее голосе затаенный страх.
– «Нас уверяют доктора, есть люди, в убийстве находящие приятность…» – продекламировал Маэстро из пушкинского «Скупого рыцаря». – Я не из их числа, девочка, не бойся. Просто появился противник, а значит, пропала неопределенность: некогда больше мудрствовать, нужно действовать.
Маэстро замолчал, с минуту смотрел, как прожекторный луч суматошно рыскает по черному небу, удовлетворенно кивнул:
– Скорее всего, единичный разъезд. – Пояснил:
– Сейчас противник перекрывает возможные пути нашего отхода, все более-менее удобные спуски и съезды к морю. В том, что от моря мы далеко не уходили, они уже убедились. Но где мы точно находимся, не знают.
– Скоро узнают… – в тон ему с мрачноватой иронией сказала девушка.
– Может быть.
– Маэстро… А что они станут делать после того, как перекроют возможные направления нашего бегства? Как вообще принято действовать в подобных случаях?
Должны же быть какие-то общие правила, штатный вариант?
– Чаще побеждают исключения из них. Впрочем, правила для того и создаются, чтобы их нарушать.
– И различать гения и посредственность?
– Ты считаешь, что посредственность работает строго по шаблону, а гений – вне правил и установлении?..
– Да.
– Нет. Гении только тот, кто побеждает. А уж ориентируется он на правила или, наоборот… Важно – побеждать.
– Всегда?
– Всегда.
– Маэстро, тебе не кажется, что мы слишком… того. Раздухарились.
– Да нет. Только в идиотских фильмах герои перед схваткой полны многодумной значимости и тяжкого уныния, будто сейчас им предстоит нести мочу на анализ, каждому – цельное ведро, причем налитое до краев. И расплескивать грустно, и не расплескать нельзя, оттого и тоска вселенская в собачьих взглядах.
«Суровые годы проходя-я-ят…»
– А что, на смерть нужно идти с пляской во взоре?
– Идти следует только на жизнь. Даже если допускаешь, что можешь погибнуть.
– Ложь во спасение?
– Истина.
Девушка взглянула рассеянно, собрала лоб морщинками, сказала, кивнув на стоящий на взгорке автомобиль:
– А все-таки, Маэстро, ты знаешь, как они станут действовать по правилам?
Конкретно?
– Пустят вертолет вдоль берега, на броню «фонарь» подвесят, мощности его хватит, чтобы рассмотреть, есть клешня у мирно проползающего по песочку краба или он калека и бестолочь… А чтобы был полный плезир и благолепие, бережком собачек отправят. С проводниками. Вот этого дожидаться не стоит.
– Ничего у них не получится. Никого они не отправят. Ни берегом, ни буреломами. Вернее… отправить могут, но их ожидает разочарование. Ночью по побережью парочек – как песка.
– Погоню вдоль берега все равно запустят: штатные варианты не дураки придумывали, не получится зверя поймать, так хотя бы шугануть. И – выгнать на номер, к охотничкам.
– Тем, которые в машине? – спросила Аля, кивнув на невидимый во тьме автомобиль, играющий светом фары.
– Нет. Это приманка. Капкан, – Это на кого же – такой «незаметный»? На дураков? Они же своей фарой полнеба расчертили…
– Дураков на деньги ловят. А для усталого и самоуверенного бродяги, вроде меня, такой – в самый раз. – Маэстро вздохнул, но не сокрушенно:
– Машина нам все равно необходима. Нужно ее захватить.
– За-хва-тить. Со стрельбой и дымом. С горкой трупов, маленькой, но своей.
Аля прильнула к скале спиной, закрыла глаза. Сидела так молча минуту-другую, словно собираясь с мыслями. Маэстро не мешал ей. Со стороны моря раздался приглушенный расстоянием шум винтов вертолета. И от берега, кажется, несся еще один. Маэстро тронул Алю за плечо, произнес:
– Пора работать.
– Работать? – Девушка, казалось, с трудом разлепила смеженные веки. Глаза ее лихорадочно блестели.
– Да, – ответил Маэстро, не сразу заметив перемену в ее состоянии.
– Пора работать. Работать пора. – Глядя в одну ведомую ей точку, деревянным голосом произнесла девушка. В ее интонации, казалось, сейчас совершенно отсутствуют обертоны, и поэтому голос казался безжизненно-механическим, словно звук дешевой таиландской игрушки. Но боль, таившаяся глубоко в душе девушки, прорывалась как раз в той нарочитой безличности голоса «механического пианино», который она имитировала не столько старательно, сколько естественно. – Пора претворять планы в жизнь. Сеять смерть.
Работать. Превращать пансионат «Мирный» в погост. В смиренное кладбище. В выгребную яму. Ха-ха-ха. Смешно.
– Аля…
– «В поле трактор дыр-дыр-дыр, мы за працю, мы за мир!»
– Это стихи? – попытался улыбнуться Маэстро.
– Это – стихи. А «праця» – это труд. Мир, труд, май. Вспомнил, из комсомольской юности?
– Аля, пожалуйста… – Маэстро попытался было взять девушку за руку, но она сначала не заметила этого, как не замечала ничего вокруг, сосредоточившись на видимой ей точке… Потом выдернула руку, провела ладонью по волосам, заговорила снова, но так тихо, что Маэстро едва мог ее расслышать:
– Я недавно в поезде ехала. Там на каком-то больном полустанке лозунг по крыше, вдоль всего дома… Когда-то на совесть сработали, теперь убрать – деньги нужны, да и часть пейзажа опять же… Так вот, лозунг… в духе времени…
Раньше было «Слава труду» начертано. А нижняя перекладинка в букве "д" сгнила и отвалилась. И вот представь, что мы теперь читаем… Крупно так, аршинно: «Слава трупу»! Трупу, ты понял? Тому, что всеми нами управляет н тащит ваше упирающееся стадо из разоренного телятника прямо на живодерню!
– Аля…
– Что – Аля?! Знаешь, как мне страшно, когда ты сереешь на глазах и зрачки у тебя становятся пустыми и мертвыми?.. Что ты видишь в той тьме, которая тебя окружает, я не знаю, но я боюсь… Еще немного такой жизни – и та самая тьма настигнет и меня!
Девушка, сидя на корточках, прислонилась к каменной стене, словно хотела с нею слиться, закрыла лицо ладонями; плечи, предплечья, запястья напряглись, словно она пыталась справиться с навалившейся на нее непомерной тяжестью…
Кисти рук побелели от напряжения.
Маэстро наклонился, коснулся ее плеча… Теперь он просто ждал. Так прошла минута, другая… Постепенно напряжение ослабло, плечи девушки обмякли. С усилием и опаской Аля отняла от лица ладони и теперь рассматривала их так, будто это были не ее собственные руки, а ветви деревьев… Наконец вздохнула облегченно, подняла на Маэстро взгляд:
– Кажется, я содеем разучилась плакать. – Аля попыталась улыбнуться, но улыбка вышла у нее совсем невеселой, вымученной, а в глазах плескалась обида, горючая и горькая, как полынь, как те самые невыплаканные еще в детстве слезы. И еще – она словно просила у Маэстро за что-то прощения… То ли за то, что она его почти не любила, то ли за то, что нe за что любить ее саму… – Я сoвсем разучилась плакать. – повторяла Аля.
– Не бойся. Способность плакать – это как любовь, только кажется, что исчезла навсегда… Потом это вернется. Тогда, когда ты будешь готова.
– Я и сейчас готова… Но не могу; Ты же ви-ди-шь.
– Просто сейчас не время.
– Маэстро… ты думаешь… этому будет время?! И я смогу?
– Да.
– Правда?
– Правда.
Ночь легла ровно, как бывает на юге, и только кровавое зарево заката светилось, затухая, над ставшей черной водой мерцающими угольями, да луч беспокойного света желтым бесом плясал в фиолетовом небе свой безумный танец, словно, предвещая кому-то или скорое помешательство, или мучительную кончину.
Глава 56
Бывает, что человек уже сдался. Внешне он еще кажется сильным, отважным, а порой и могущественным, и не только окружающим, но и самому себе. А на самом деле таящаяся и таимая глубоко в душе червоточинка уже разъела пустошь, в которой, как в брошенной избе, поселились чумная нежить и стылая, смертная тоска… Но ни злосчастье, ни лихо не успевают сожрать такого человека: он пропадает, как падает: ровно и красиво, словно подточенный ясень, разом, накрывая зелеными еще ветвями громадное пространство вокруг, и падение величавого исполина кажется окружающим необъяснимым и странным, пока не вскроется пустое, голое чрево, полное гнили и нечистоты… Так бывает.
А бывает – наоборот. И сил уже больше нет ни на что, и отчаяние кажется безмерным, как неизбывная усталость; как серые сумерки будней, сутолочным своим чередованием? способные похоронить не только благие помыслы и святые порывы, но и самого человека превратить в пустую оболочку… Но силы находятся вдруг, без окаянного отчаяния, без надрыва: человек словно собирается внутри себя, и вот он уже стремится, идет вперед и вверх, идет шибко и бойко, будто всегда так хаживал, да что там идет – летит, беззащитный и беспечный в стремительном своем полете!.. И – побеждает.
А вот что творилось теперь с нею, Аля понять не могла. Странная оглушенность томила ее. Уже не нужно было ни переживать несбывшиеся сны, ни мудрствовать посреди безлунной ночи – нужно было действовать. А девушка смотрела на вороненый пистолет, зажатый в кисти, и впервые оружие не давало привычного ощущения защиты, наоборот, ей казалось, как только кусочек этого смертоносного металла снова оказался у нее в руках, она стала особенно уязвимой, и не только для пули, но и… На мгновение ей вдруг показалось, что она стоит у края отвесного обрыва, пропасти, срывающейся прямо у ее ног в бездну; внизу клубится туман, холодный, вязкий и липкий; пряди тумана касались ног девушки, и ей казалось, что это вовсе не туман, а набухшие ядом раздвоенные языки ползучих рептилий; девушка почувствовала, как такая же холодная и скользкая тварь обвила горло… Судорога брезгливости и страха сотрясла все ее тело, девушка рванулась, вскрикнула…
Маэстро одним движением прикрыл ей рот ладонью, свалил наземь, притиснул, прошептал в самое ухо:
– Тс-с-с-с-с-с-с… – Распрямился, замер, прислушиваясь, и стоял какое-то время неподвижно, словно живое изваяние… Мерно-ритмичные выхлопы вахлакских динамиков стереосистемы автомобиля продолжали питать ночной воздух невнятной, томной и пыльной мелодией далеких латиноамериканских бурбудос и компаньерос…
Рокот вертолетов тоже не изменился: машины шли на заданной высоте, их действительно было две, одна – над морем, другая – где-то метрах в трехстах вдоль и по-над берегом. Хм… Если не включают «фонарь», значит, и без того зрячие, ночная оптика хорошая… Маэстро сплюнул в сердцах, но вслух произнес:
– Обошлось. – Снова наклонился к девушке, спросил:
– Ты как?
– Уже лучше.
– Не слышу оптимизма в голосе.
– Ха-ха-ха. Теперь слышишь?
– Да, теперь слышу. Что с тобой было?
– Так. Ничего.
– «Ничего» – это смерть. Что с тобой было, Аля?
– Не знаю. Наверное, галлюцинация. Нервы расстроены. Или сама расклеилась.
Прости.
– Соберись, девочка. Нам нужно выбираться. Времени не осталось совсем.
– Я понимаю…
– Мало понимать! Нужно желать! И – действовать!
– Прости меня, Маэстро. – Девушка поежилась, глянула на него беспомощно и очень растерянно. – Прости. Я боюсь. Ты понимаешь? Мне не просто беспокойно, мне очень-очень страшно! Кажется, мне никогда в жизни не было так страшно! Словно все происходит во сне или в сказке, и никакой возможности убежать… Никакой!
– С этим нужно справиться, девочка. Это просто нервы.
– Да? А я думала – я просто боюсь боли и смерти. Оказывается – нервы.
– Аля…
– Что – Аля? Никакие это не нервы, ты понял, Влад? Это интуиция.
Предчувствие. Я… Мне… мне нехорошо…
Девушка попробовала вздохнуть – и закашлялась, согнулась в три погибели, сжав руками рот и горло; судорога колотила ее худенькое тело так, будто кто-то свирепый и неумолимый беспощадно хлестал девчонку тяжелым, с вплетенной проволокой, ременным кнутом, выбивая остатки жизни… Маэстро наклонился к ней, обхватил поперек живота и держал, пока девушку не вывернуло… Она подняла на него глаза, полные слез, дыша часто, по-собачьи, но мужчина видел, как страх уступает место тупой, безразлично-тупой усталости… Девушка глянула наверх, где застыл автомобиль, по-козьи глазеющий в ночь буркалами противотуманных фар.
– Ты прав, Маэстро, – произнесла Аля сипло, словно жестокая ангина разом обметала горло. – Это ловушка. Тебе нельзя туда ходить. Тебя убьют. А следом убьют и меня. – Потом улыбнулась неуверенно, а глаза снова налились слезами, только теперь это были другие слезы: беспомощно-горючие, как у ребенка. Губы девушки задрожали так, что она подняла руку и обхватила тонкими пальцами нижнюю губу, пытаясь унять ее дрожь, снова улыбнулась сквозь слезы, сказала, будто жалуясь и как бы пытаясь пошутить над собственной слабостью, уверенная притом, что шутки не получилось:
– Ты представляешь, как я испугалась? До блевотины! Я раньше такое только в кино видела… Прости.
– Я же говорил, это нервы, – довольно спокойно произнес Маэстро, оценив состояние девушки. – Ты подыши, только неглубоко, а поверхностно и часто – и все пройдет.
– Пройдет?
– Да. А как только начнем действовать… Умереть все еще боишься?
– Ты знаешь… – Девушка подняла па него глаза, и в них Маэстро прочел искреннее удивление. – Странно, но уже – нет.
Маэстро кивнул, будто доктор, дежуривший всю ночь у постели пациента и убедившийся в том, что кризис действительно миновал; еще раз внимательно посмотрел на девушку, произнес спокойно и буднично, как само собой разумеющееся:
– Война рассеивает беспокойство по поводу смерти. И делает желание жить вожделенным, как любовь, и непереносимым, как счастье.
Аля подняла на Маэстро глаза, долго всматривалась в лицо мужчины, наверное, хотела что-то сказать, но вдруг поняла, что слова, способные это выразить, напрочь отсутствуют в русском языке. Их нет ни в одном языке, и, значит, объяснить это никак нельзя, можно только почувствовать и передать другому, и она пыталась это сделать, вернее… И – ничего не вышло, или юна не смогла, или он не понял… Наверное, поэтому человек и беззащитен, как новорожденный жеребенок, и столь же несуразен – на подрагивающих, подгибающихся длинных ногах, пахнущий молоком и сеном… Все эти ощущения пронеслись даже не вихрем, а словно влекомые ветром обрывки утреннего тумана, пронеслись и исчезли, истаяли на полуденном солнце, рассеялись, растворились, оставив по себе мягкую дымку, колеблющуюся и мнимую, как несостоявшиеся слезы.
Мертвенно-белый свет рухнул с неба разом, как снежная лавина, как всполох луны, вспыхнувшей, и сгоревшей в невесомый серебристый прах. Море сделалось аспидно-черным, оно, переливалось под белым неживым светом, словно маслянисто-млечная ртуть, и даже пена, высвечиваемая люминесцентом на редких волнах у самого берега, казалась сплетенной в беспорядке из жесткой и тонкой проволоки, – Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж…. – неожиданно чисто и красиво пропел Маэстро, при этом лицо его стало положим… Да, наверное, именно так выглядели бродяги-солдаты, берсерки, вечные воины всех времен: запавшие щеки, обтянутые кожей скулы, а презренный и презираемый покой уже дотлевает в расширенных зрачках то ли насмешкой над миром, толп искрой грядущего вселенского разрушения… – Королева играла – в башне замка – Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. – Маэстро обернулся" к Але:
– А что, девочка, чувствуешь сопричастность к гибели мира и смерти богов? Похоже, в серебряных паутинках прошлого века мнилось нечто похожее на рождество. века нынешнего?.. И не смотри на меня так растерянно и жутко: я нормален! И ты – тоже! Разве ты не видишь? Это мир сходит с ума!
Вертолет, из-под брюха которого удал бледный свет, приближался со стороны моря, гоня по воде под собою мелкую чешуйчатую рябь. В проеме снятой дверцы можно было разглядеть пулеметную турель, на ней – длинный хобот грозного крупнокалиберного пулемета, снабженный раструбом пламегасителя.
– Маэстро, мы сейчас умрем:, да? – тихо спросила девочка.
– Мы победим!
– Я в это не верю…
– Заставить победить нельзя, как и заставить жить. Но вот заставить врагов почувствовать вкус собственной крови и набившейся в рот земли мы можем. – Улыбка осветила лицо Маэстро. – То, что они делают, напоминает не спецоперацию, а светопреставление!
– Маэстро, прекрати разговаривать сам с собой!
– А это значит, что нас они не обнаружили. И включили иллюминацию. – Маэстро рассмеялся кашляющим и совсем невеселым смехом. – Очень полезная затея.
Во-первых, нервирует. Во-вторых, деморализует. И в-третьих, что самое противное, светит, но не греет. – Повернулся к девушке, скомандовал, едва шевельнув губами:
– К бою!
Но Аля расслышала. Спокойно и привычно передернула затворы двух длинноствольных «стечкиных», примерила в руках, чуть поморщилась от непомерной для ее узеньких ладошек тяжести пистолетов… Странно, сейчас реальный мир для нее словно перестал существовать; вертолет она видела, вернее даже, ощущала, как некое грохочущее чудовище, сделавшее мир бледно-черным; именно оно преследовало девушку, желало умертвить, превратить в подобие этих вот безмолвных камней…
Нет, хуже – в разлагающийся мусор, воняющий, как панцири догнивающих крабов, занесенных шальной волной за гряду камней и не сумевших вернуться… Вот так и их сейчас гонят – шальной волной, разрезающей мрак мертвенно-белым лучом, словно скальпелем – подопытного покойника на столе препаратора, злобострастного лаборанта.
Спокойствие девушки сделалось тяжелым, земным, как отливающая ртутью, но живая вода моря, как остывающие теплые камни, как напоенный запахом водорослей воздух. И еще Аля знала: она очень хочет жить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.