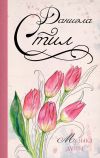Текст книги "Время барса"

Автор книги: Петр Катериничев
Жанр: Боевики: Прочее, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
Глава 65
Дальнейшее Аля запомнила смутно. То, как они прорывались сквозь темные коридоры, как Маэстро чуть не силой тащил ее, полубесчувственную, за собой, как сине-белый огонек пламени расцветал на раструбе ствола бесшумного автомата, рассылая вперед смертоносный свинец и оберегая их этим заградительным огнем, как красиво расчерчивали небо трассирующие пули, как взорвался бензобак громадного, похожего на гигантского жука, «лендровера», как бойцы в масках бежали сквозь ночь и падали, скошенные бесстрастными пулями этой войны. бывшей для всех чужой… Раньше Аля думала, что чужой войны не бывает, теперь… теперь она знала: не бывает чужой смерти. Каждый, умирая, уносит в небытие частичку этого мира, как море – горсть песка. Навсегда.
Маэстро гнал машину на громадной скорости через ночную степь, куда глаза глядят, лишь бы подальше от места схватки. Аля помнила, как они забрались в этот автомобиль под перекрестным огнем ночной перестрелки, как проломили хлипкие жестяные ворота в дальнем углу пансионата, близ хозяйственных построек, как вырвались в затухающую ночь… Погони за ними не было. Когда твое время отсчитывают не стрелки часов, пусть даже и секундные, а проблески пулеметных трасс, перестаешь обращать внимание на несущественные мелочи… Вроде уносящегося в ночь автомобиля.
Неожиданно тяжелый «лендровер» стал забирать в сторону, теряя скорость.
Маэстро упал головой на руль, заваливаясь всем телом на бок… Аля сумела кое-как выправить машину; автомобиль проюзовал по инерции несколько метров, пока не застыл как вкопанный в неглубокой колее усталым распаленным рысаком.
Маэстро был без сознания. Футболка у него на груди стала мокрой от крови.
Аля сначала подумала, что это от множественных ножевых ранений, но когда она начала перетягивать их найденным здесь же, в угнанной машине, бинтом из аптечки, обнаружила, что Маэстро ранен и в спину, причем серьезно: три черных входных отверстия от пуль и ни одного выходного. Одна из ран пузырилась розовой кровяной пеной при каждом хриплом вдохе: пуля засела в легком. Маэстро был жив лишь чудом. Теперь он умирал. Але хотелось расплакаться от безнадежности ситуации и собственной беспомощности, но слез не было. Впервые за последнее время к ней пришло ощущение жестокой, беспощадной решимости… Оно не сумело еще оформиться в какие-то образы, но одно Аля знала точно: то, за что погиб ее отец, а теперь умирал Маэстро, – иллюзия, но такая иллюзия, ради которой не жалко потерять жизнь, ибо без этой иллюзии мир превращается в жалкое стадо, в скопище жующих жвачных, в свору ненавидимых всеми, ненавидящих друг друга существ.
– Где мы? – Маэстро открыл глаза, как только девушка попыталась подвинуть его с водительского места.
– Не знаю. В степи. Потерпи. Пожалуйста, потерпи… Я сейчас… Мы…
Сейчас я сяду за руль.
Аля боялась погони. Те, кто напал на особняк и вступил в бой с людьми Глостера, не были бандитами, это очевидно. Тогда – кто они? Силовые спецподразделения, подчиняющиеся местным властям? Что будет, если они уже выслали погоню и скоро захватят и ее, и тяжелораненого Маэстро? Ни в какую справедливость со стороны любых властей Аля не верила давно; да и поднять вертолеты на охоту за нею и Маэстро тоже вряд ли было возможно без приказа или хотя бы разрешения тех же самых властей. Впрочем… Эти мысли не вызвали у Али никаких эмоций, даже горечи: в наше убогое время люди чести стали такой же редкостью, как и снежные барсы, а потому зеленые банкноты, сложенные пухленькой стопкой, перевешивали любые погоны. Даже золотые.
– Не нужно за руль. Погони не будет еще с час. Им не до нее, – прошептал Маэстро, не раскрывая глаз. – Тебе нужно уходить, как рассветет. Машину брось.
Меня тоже. Уходить будешь через поселок, до него часа полтора пешком, к свету дойдешь, дождешься рейсового… Деньги… Не забудь деньги… Оружие не бери…
Оно станет помехой.
Маэстро не раскрывал глаз, и Але показалось, что он уже бредит.
– Ты не волнуйся, миленький… Мы сейчас поедем… Я договорюсь в больнице… Мы выходим тебя… Я сумею договориться… Ты не сомневайся, я так вытащила Гончарова тогда, помнишь?..
– Погаси свет, я хочу посмотреть на звезды.
– Свет? Какой свет?
– В салоне. Захлопни дверцы.
– Ага. – Аля энергично кивнула. Ей удалось вытащить Маэстро из машины; теперь он полулежал, прислонившись спиной к дверце автомобиля.
Маэстро перевел дух, снова повторил:
– Не бойся, погони не будет. Им сейчас не до погони.
– Кто там воевал?
– Люди Глостера и отряд спецназа морской пехоты.
– Откуда они взялись?
Маэстро улыбнулся одними губами:
– Я нашел в одной из сумок мобильник и позвонил.
– Позвонил? Куда?
– Трудно сказать… Я набрал кодовый шифр десятилетней давности…
Введенный на случай "времени "Ч".
– Что такое "время "Ч"?
– Война. Все остальные коды меняются, коды "времени "Ч" меняются тоже, но есть оперативный дежурный, который реагирует на все вызовы по прежним кодам.
– Оперативный дежурный – где?
– Вот этого я не знаю. Или в Генштабе, или в Главном штабе ВМФ, или еще где… Я дал примерные координаты и назвал свой старый кодовый позывной…
– И – что?
– Как, видишь, группа прибыла в течение часа. Спецназ морской пехоты Черноморского флота… По-видимому запросили Космический центр слежения, те подтвердили: на побережье стрельба и взрывы… В войсках стратегического назначения не любят полагаться на догадки, слишком велик риск, тем более, я назвал и мой личный код допуска. Посмотрели по компьютеру – и поверили. Мой код, хоть и устаревший, был кодом высшего допуска.
Маэстро вздохнул, и Аля увидела на его лице довольную улыбку – насколько может быть довольной улыбка у человека с несколькими тяжелыми пулевыми ранениями.
– Что ты им сказал?
– А это уже не важно… Я сумел… Смог… – Маэстро закрыл глаза, и Аля решила, что он потерял сознание, но это было не так: он просто отдыхал от боли.
Ночь была удивительно теплой и звездной. Уже затихли цикады, тьма сгустилась перед рассветом, и Млечный Путь казался осколками Луны, рассыпавшейся в звездную пыль. Сейчас Маэстро смотрел на это мерцание мириад звезд, и казалось, душа его уже тяготится телом, стремится воспарить туда, в этот ясный, мерцающий свет, но какие-то страшные, черные силы держат и держат его на. земле, пытаясь затянуть еще глубже: в бездну…
– Только не говори мне, что я буду жить, – прошептал Маэстро девушке, улыбнулся, добавил вымученно:
– Я устал от жизни. Если то, чем я занимался, можно назвать жизнью… Но хуже другое: жизнь устала от меня. Время теперь такое. – Маэстро замолчал, сглотнул несколько раз, попросил:
– Дай воды.
Он напился из найденной Алей в салоне пластиковой бутылки, закрыл глаза, дыхание его сделалось частым и неровным. Аля вздохнула про себя: ведь каждому из всех живущих на этой планете людей так немного нужно – чтобы его похвалили и чтобы пожалели. Только и всего. А Маэстро… Его так давно никто не жалел, что… Аля чувствовала, как слезы горячо закипели на глазах, как слезинки катятся по щекам, ощущала на губах их солоноватую влагу…
* * *
Маэстро заговорил. Речь его была хриплой, порой сбивчивой, несколько раз зрачки его расширялись так, словно мир вокруг меркнул, становился черным от боли, и тогда он замолкал, пережидая, пережигая эту боль еще большей, той, которая таилась в его душе и которую он выдавливал из себя, будто застарелый нарыв… А потому он говорил и говорил, теряя силы… Аля даже не пыталась остановить его: девушке показалось, он беседует вовсе не с ней и не у нее ищет сочувствия…
– Время умирать, а мне совсем не страшно… Почти… Я так устал, что хочу только одного: чтобы не трогали… Жизнь покатилась совсем не туда, куда хотелось, и вот теперь… Впрочем, это аксиома… Человек, идущий к цели, не только никогда не достигает того, что хотел, но теряет и то, что имел. Иллюзии.
Когда пропадает последняя, человек умирает. Бывает, что иллюзии остаются, и тогда… тогда человек не умирает… Он перестает быть с нами. Он уходит.
Уходит. Ты никогда не задумывалась над тем, что во всех языках кроме слова «смерть» есть слово «уход», обозначающее как бы то же самое, но… другое?
…Когда-то у меня была собака. Нет, щенок, Лаврик. Белый, толстый и несуразный дворняжка… А еще он был глупый и добрый. И по двору-четырехугольнику из шести хрущевских многоэтажек я с ним даже не гулял: он сам бродил, играя с ребятами… Носился взапуски, только лай слышался из разных концов двора, и уши развевались, как белые платки. А потом Лаврик пропал. Я искал его по всем окрестным дворам, улицам, переулкам, искал до ночи, пока уже мама сама не разыскала меня и не увела домой, уверяя, что это кто-то из ребят взял пса к себе поиграть и завтра он непременно найдется.
…Ночью я решил не спать. Решил ждать утра, чтобы не пропустить рассвет, когда можно было бы пойти по приятелям и отыскать пса. Я то представлял, как он будет махать мне хвостом, улыбаться счастливой перемазанной мордой – собаки ведь улыбаются, ты же знаешь… А то – видел, его продрогшего., одинокого, потерянного, слепо тыкающегося в чужие башмаки и туфли, обнюхивающего прохожих у магазинов с той даже не приниженностью, с той виноватой тоской в глазах, какая только и бывает у брошенных собак и детдомовских детей.
…Лаврик нашелся. Его принесли через два дня к нашим дверям убитого, с мотком железы ой проволоки, намотанной вокруг шеи… С перебитыми лапами…
Потом., через много лет, я узнал: увел его один алкаш, хотел продать каким-то. шорникам-ремеслухам на шапку за бутылку, а то и за стакан, да те, видать, выпивоху послали: мала псинка, не выкроить из нее ни шапки, ни навара. Вот тот алкаш собаку и придушил… А перед тем лапы перебил зачем-то… – Маэстро замолчал, невидяще глядя в звездное небо. – Сколько может зла быть в человеке, а? Не поленился принести потом и бросить во дворе, мертвого, там, где полтора десятка детишек плакали о нем в голос… Об алкаше этом я узнал, когда того уже на этой земле не было: укатался… – Маэстро прищурил глаза, прохрипел едва слышно:
– Скоро, знать, увидимся. В аду. Вот тогда я и расплачусь.
Аля вздрогнула: так жесток и хрипл был голос Маэстро, так лихорадочен и сух взгляд его темных глаз, и не было в них ни покаяния, ни раскаяния.
– Ты спросишь, почему я, убийца, вспоминаю перед смертью о собаке, погибшей много-много лет назад?.. Просто… у меня было счастливое детство. Отца я помню, но не очень, он умер, когда я был ребенком, безотцовщина если и тяготила меня, то лишь иногда – завистью к сверстникам… Ну да, у нас было абсолютно счастливое детство как раз потому, что мы этого не понимали и считали, что так и должно быть и так будет всегда… Смерть щенка, да еще такая, – словно накрыла наш дружный двор темной, не для всех заметной сетью-паутинкой… Ну а для меня… Помнишь слова Йозефа Геббельса? «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак». После смерти Лаврика я был лишен и этой возможности… Я боялся… Я боялся, что существо, которое я полюблю, оставит меня… не по моей воле.
А потом… Я рос, и мир вокруг уже не казался радостным, и я помнил всегда об убитом щенке, и смотрел на людей, и видел, что многих, слишком многих не волнует ничто в этой жизни, кроме собственного брюха… А потом я нашел другой мир. Театр. Там бушевали пусть выдуманные, но настоящие страсти, герои были сильны и благородны, дамы – прекрасны и чисты… В этом мире стоило жить.
…Тогда, двадцать пять лет назад, было другое время. Совсем. И то, что теперь норма, тогда… Я поступил в театральное, успешно… Зеленые скверы, по утрам, вместо завтрака, – газировка за копейку, портвейн из горлышка, ликер бенедиктин, который отдавал неведомыми химикалиями… Тогда я влюбился… в девушку изумительной, редкостной красоты… Я не сомневался: если красоте и суждено спасти мир, его спасет именно такая красота!
…Мы репетировали «Гамлета». Моя избранница была Офелией. Я любил ее. Я был в нее влюблен. Я ее боготворил. Но никак не решался подойти, чтобы… Может быть, тебе смешно это слышать, но мне было восемнадцать, и тогда было другое время… А тем вечером, после репетиции… Я видел, как она пошла в пустую аудиторию, и почему-то решил, что пошла она туда намеренно и ждать станет именно меня…
Маэстро улыбнулся горько, и эта улыбка на бледном, будто усыпанном тальком лице, казалась приклеенной.
– Мне ничего от нее не было нужно: просто видеть и любить. Ничего больше.
Это было все, что я хотел ей сказать. А может быть, я и. теперь лукавлю? Скорее всего, да… Я любил ее, я ее желал, я был счастлив и хотел быть с ней… Я хотел рассказать, как я ее люблю, и тогда, я знал, и без того цветной и солнечный мир взорвется таким сиянием, что… Наверное, у меня тогда было слишком много счастья, а я хотел, чтобы счастьем стал весь мир. Глупо. И очень эгоистично по отношению к тем, которые… Но разве юность знает слово «глупо»?
Этот мир принадлежит юным до тех пор, пока… «Веселись, юноша, во все дни юности твоей, пока не призвали тебя на суд…» – Лицо Маэстро скривилось в горькой улыбке. – Я ждал сияния. Так могло бы быть. Но все вышло по-другому. Как в жизни.
…Я шел к аудитории тихо, словно боялся потревожить мечту… Получалось, что я крался. А когда приотворил дверь, сразу увидел ее… Она стояла на коленях перед мастером курса, нашим златоустом, знаменитостью, импозантным, упитанным господинчиком, и ее голова в короне золотых волос ритмично двигалась…
Наверное, я сразу понял, что там происходит, но не сразу поверил… А жирный седовласый сатир развалившись сидел на стуле, как языческий божок, будто принимая поклонение низшего существа… Должное и успевшее наскучить подношение ему, идолу, кумиру… Тяжелые брыли на упитанном лице плавно тряслись, толстые, чувственные губы были влажны и напоминали двух красных мокрых улиток… Он поглаживал старательную красавицу по волосам, что-то выговаривая хорошо поставленным баритоном, от благородных обертонов которого млели все бальзаковские дамы в тысячах кинотеатров страны… Губы божка кривились в судороге наслаждения и – недовольства; он прихватил девчонку за волосы, повернул так, чтобы видеть ее глаза, что-то сказал ей-и захохотал! Смеялся довольный собой, и хрестоматийный лик штатного благородного отца или оскорбленного трагика казался мне жуткой, скабрезной лубочной маской… Что еще?.. Это смешно, но он еще и покуривал. Неспешно так себе слюнявил дорогущую, бывшую тогда исключительной редкостью американскую сигарету «Мальборо», и ароматный дым другой жизни был слышен в пустом, гулком коридоре, где я замер гостиничным вором, беспризорной дворнягой, никому не нужным паяцем, уже вычеркнутым из этой жизни…
Я был раздавлен. Уничтожен. Растоптан. Наверное, я хотел убить этого человека, ведь я ему верил… Как верил и в то, что искусство… Как он говорил?.. «В искусстве нет места фальши и лжи. Там прибежище гения, истины и Бога». Наверное, это действительно так, вот только «гением, истиной и Богом» наш раскормленный сибарит считал себя. Наверное, я хотел убить его. Но тогда я еще не умел убивать. Я просто ушел из той жизни. В другую. В ту, из которой возврата уже нет.
– Ты говоришь о взрослости?
– Нет. О войне.
Глава 66
Маэстро прикрыл глаза, а когда начал говорить, было видно, с каким трудом ему даются слова.
– Война уродлива. Но парадокс в том, что и тогда, и сейчас пропаганда окружала ее ореолом геройства, удачливости, славы… С таким же успехом ореолом славы можно окружить и чуму. Гнойные язвы, кровавые, в сгустках… И кровь горлом, и скорая смерть – только тем, кому повезло… Война похожа на наркотик: безумная эйфория и долгая, пожизненная мука… Когда с тебя словно живьем сдирают кожу, и терпишь это только потому, что хочешь выжить… А чтобы выжить на войне, необходимо одно: поверить, что твоя жизнь значит куда меньше, чем твое назначение. Барс знал это. А я… – Маэстро вздохнул, дыхание его было сиплым и тяжким, кровь запузырилась розово на губах, он закашлялся было, кое-как, в полвздоха перевел дыхание. – И все же… Тогда для нас, пацанов семидесятых, война была навсегда канувшим прошлым, прошлым пусть страшным, но героическим. – Маэстро пошарил рукой вдоль туловища, попросил:
– Аля, прикури мне сигарету.
Пожалуйста.
Девушка только кивнула, чиркнула кремнем зажигалки, затянулась сама несколько раз. Маэстро прикусил фильтр зубами, и Аля видела, что зубы у него тоже розовые от крови.
– Сейчас… американцы успели наснимать сотни, тысячи фильмов, где статисты-супермены пачками кладут статистов-неудачников… И тем – наплодили целое поколение, для которых убийство – символ удачи, простое движение пальца на спусковом крючке, при которым ты не убийца, ты просто устраняешь препятствие. И реальная война, погребенная под километрами целлулоидной пленки, уже подрумянена и подкрашена, и ее трупный оскал публика все чаще принимает за победную ухмылку хозяина жизни… Как бы не так! Разлагающийся, гниющий труп, который жрут мухи и чьи внутренности выклевывают вонючие, неопрятные птицы с голыми головами, – вот лицо войны, настоящее, уродливое и паскудное, какое и бывает у смерти.
Маэстро выплюнул сгоревший до фильтра окурок, снова показал на пачку, попросил Алю взглядом. Девушка при курила, вставила зажженную сигарету ему между губами; Маэстро затянулся раз, другой, третий… Пока резкий, как шквал, приступ кашля не заставил его согнуться пополам, сплевывая кровавую мокроту.
– Маэстро, пожалуйста, – не выдержала Аля, – тебе нельзя курить, у тебя пуля в легком…
– Не беспокойся, девочка. Сейчас уже нет ничего в этой жизни, что мне было бы нельзя. Странное ощущение, надо тебе признаться.:. Может быть, это и есть полная свобода?.. Тогда я просто везучий, а? – Он подмигнул Але, но она только опустила голову, чтобы Маэстро не смог увидеть ее слез.
– Сначала мне везло. Я отнесся к войне как к сцене. Я не принял ее всерьез. Да и… Полтора года службы в разведбате спецназа ВДВ… Я желал быть первым – и стал им. Афган был потом.
Маэстро отдышался, попил воды из бутылки, заговорил снова, теперь уже не открывая глаз:
– Говорят, для того, чтобы убить человека, нужно преодолеть барьер…
Наверное. Но не на войне. И не тогда, когда тебе едва минуло восемнадцать. Когда ты совершенен, любим Богом и людьми и тем – бессмертен! Когда единственной твоей серьезной печалью является то, что мир пока не разглядел, как ты блестящ и как гениален!
А барьер… Его нельзя преодолеть никогда! Можно просто перестать ощущать каких-то людей равными себе – вот и все преодоление, и вся премудрость! Не станем же мы сетовать по поводу того, что прихлопнули комара? Муху? Моль? Тем более, чаще всего другого способа выжить, кроме как убить врага, у тебя нет.
Истина в том, что на войне убийство становится просто работой. Только и всего.
Но… беда не в этом. Беда в том, что на войне, как и везде, убивают просто так.
Для удовольствия или по глупости. Потому что кто-то другой считается «чужим» и «врагом». Так было и так будет. А жаль.
…А потом они приходят в твои сны. Приходят почему-то не солдатами, не воинами, приходят маленькими беспомощными детьми… И – молчат. Ничего не говорят, ни в чем тебя не обвиняют, и ты начинаешь думать… Ну да, ты убил не только тех, в стеганых ватных халатах, в широких шальварах, в пятнистом камуфляже, ты убил детей… Неродившихся детей. Так сходят с ума. Или просто остаются там, на войне: война, как и чума, редко отпускает свои жертвы.
…А первого я не видел. Но я знаю, что я его убил. Я убил его из засады, когда мы несли боевое охранение. Шел их караван. Далеко, очень далеко, стрелять не имело никакого смысла. Но мой напарник «купил» меня на «слабо». У нас была винтовка безо всякой оптики, и все же я решился: помню, как вжимал приклад в плечо, как выравнивал дыхание, как ловил далекую, едва видимую фигурку на мушку в прорези прицела, а она – расплывалась, и я был уверен, что не смогу попасть, и упорствовал, и задержал дыхание, и взял упреждение, и повел спусковой крючок плавно, стараясь угадать между ударами сердца… Выстрел хлестнул кнутом, далекая фигурка словно запнулась разом и ткнулась в землю, будто перекинутый на дверце крючок… А я – ничего не ощущал, слышал только слова напарника, что-то вроде: «А ты, братка, не трепло…» Мне даже напиться тогда не удалось. Я пытался перебить, разогнать вязкую горечь, засевшую в сердце тупою занозой, но анаша не помогала, только башка кружилась с непривычки, а я продолжал смолить уже третий долбан, пока не вывернуло наизнанку, пока не превратился в бесчувственное бревно… Под утро я уснул, уснул с тяжелой, будто чугунной башкой, ничего не чувствуя и ничего не желая.
Вот первого убитого в рукопашке я запомнил хорошо. И его белые глаза… И раззявленный рот… Он нарвался на меня случайно, выскочил из-за дувала, только успел ухватить рукоять ножа, закричать… А я с маху вогнал ему штык-нож в сердце, пробив грудину. Выдернул, крови на лезвии почти не осталось, но я автоматически отер лезвие о его халат – и побежал дальше. Впереди была работа.
Много работы. Так много, что я почти забыл о нем, помнил только побелевшие от ужаса глаза и кулак, намертво вцепившийся в рукоять ножа… Я даже орнамент на этой рукояти помню. А вот его самого – нет. И-не хочу вспоминать. Впрочем, с этим, вторым, было много легче: мы вернулись без потерь, с двумя легкоранеными, а вечером было много водки. Водка нужна, чтобы ты мог справиться с памятью.
…Сначала война кажется игрой. Обычной детской игрой в войнушку. И так продолжается долго. И в разведбате под Рязанью. И пока чахнешь в лагере в Таджикистане, когда рвота и понос от теплой тухлой воды, мутной от грязи и розовато-приторной от марганцовки, становятся привычными, когда трясешься и деревенеешь от ночного холода, дуреешь от дрянной анаши, пыли, опостылевших дынь, змей и прочего, что еще несколько дней назад казалось экзотикой… И вот – первые двое заболевших увезены, скрюченные желтухой, и ты думаешь про них «не повезло», не понимая еще, что им-то как раз повезло, повезло отчаянно, что пацаны эти остались по эту сторону границы, по эту сторону водораздела, по эту сторону жизни, и не важно, выжили те, что попали под афганское небо, или нет, никто из них не остался прежним. Никто.
…Так продолжается, пока следуешь с караваном, где «брони» больше, чем «мяса»: покой и благолепие. Война для тебя еще не началась. Это только в американских фильмах про Вьетнам гробы везут навстречу новобранцам; у нас тогда, в первые год-два, невзирая на потери, сохраняли мину «мирной помощи братскому народу», и тайны все были не от чужих – от своих… Но и это не важно: ничего не значат чужой «цинк» и чужая смерть, когда тебе девятнадцать, когда ты молод, когда ты бросил любовь и выдуманный мир, чтобы что-то доказать… Ты находишь для себя другую сцену только для того, чтобы блистать. Блистать, и ничего более!
И в свою смерть я не верил, как не верят в душу и ее бессмертие правоверные атеисты: истово и беспрекословно! И пока не верил – был бессмертен! Бессмертен!
…А бессмертие на войне – до первого боя. Как и вера в нее. Судьба берегла меня долго. Когда отправляли «цинк» в соседних подразделениях, это не задевало ни ума, ни сердца. Наши же стояли на постах вдоль шоссе, как на курортах: кашеварили, спали… Или «духи» на тот час дали нам отсрочку, или кто-то сильный, куда выше гор, решил: пусть побудут в горах людьми, не склоняющими головы… Ведь горы красивы, если с них не стреляют. Удивительно красивы. В Афгане – старые горы, нет там снежных шапок, тысячелетних ледников, закутанных в облака седых вершин Но… все равно красиво: коричневые, как охра с прозолотью, горы и – синее-синее, как синее море, глубокое, бесконечное небо… И предвечерний надвигающийся холод, и мрак тени – в тех горах не бывает полутонов, и оседающая, крашенная заходящим солнцем пыль после того, как проедет раскрашенный аляповатый местный автобус… И вот уже ночь, студеная, непроглядная, пугающая и еще – чужая, совсем чужая… И даже не жуть в ней, в той ночи, а неотвязная, как зубная ломота, тоска – нудотная, тянущая, пульсирующая порой остро, до жути. Кажется, что ночь эта не кончится никогда, и никогда не увидишь белого света… И жмешь тогда гашетку ногой, и пулемет пляшет, как бешеный, высылая в черно-фиолетовую пустоту неба, в сутулые силуэты ближних гор оранжево-желтые всполохи трасс, заставляя расцветать склоны разрывами… Твое бессмертие на войне длится до первого боя. До первой потери. И не важно, с чьей она стороны.
…Того афганца убило в ночном бою. Осколком мины раскроило живот, сверху донизу, и мучиться бы ему суток трое с такой гнусной раной, да Аллах помог: другой малюсенький осколочек ткнул тихонько в висок и тем отправил правоверную душу в ихний рай. А бренное тело осталось лежать на взгорке, на ничейной, всеми простреливаемой земле. «Духи», как у них водилось, обобрали покойника догола и так и бросили. Не его одного, еще двое убитых осталось, только этот – будто на сцене лежал, с вывернутым животом… Потом рассвело. Потом появились мухи.
Жирная копошащаяся черная масса насекомых, блестя перламутровыми пузцами, облепила труп. Она двигалась, как единый организм, тяжелела, насыщаясь… Потом прилетели черные медленные птицы. Они спускались к раздувшемуся за полдня бесформенному почерневшему трупу, вырывали черные же куски мяса, вздымая вокруг, будто назойливый тяжкий дым, стаи ленных от сытости мух, отлетали, мотая плешивыми головами, разрывали и сглатывали куски, возвращались к трупу…
Хлопанье их крыльев, противный, визгливый клекот, каким они словно переругивались, как крикливые тетки неведомо какой национальности на всеплеменном базаре, и зудение перламутровых мух-трупоедов – все это было и видно, и слышно на блокпосту, и я до боли зажимал уши ладонями, уткнувшись взглядом в коричнево-серую пыль под ногами… Ни есть, ни пить я не мог уже несколько дней, даже перестал ждать, когда нас сменят; и каждый раз, когда вспоминал о лежащем там, на склоне, судорога сводила пустой желудок острой режущей болью, я хватался за живот руками, и тогда высокий, визгливый клекот птиц бил по перепонкам, и я падал на землю, подтянув колени к подбородку и снова зажав уши так, будто стремился раздавить, расплющить собственную голову.
…А потом был сладковатый дым анаши. И мир становился тупым и серым. И долго, очень долго оставался таким, чтобы к ночи превратиться в туманное забытье, похожее на раннюю московскую осень, прозрачно-дождливую, с ясным небом, с прохладой продуваемой всеми ветрами березовой рощицы на взгорке, с золотыми монетками листьев, с запахом прелой земли и близкого скорого снега… Утром приехали двое сержантов-"дедков". Уж такое было их «негритянское счастье» – сразу после двухмесячной учебки попасть в Афган, прослужить здесь все два года срочной и стать тем, чем стали, – волками этих гор! Первое, что они сделали, это обматерили нашего лейтенантика, потом один из них подошел к пулемету, прицелился и… Крупнокалиберные пули в полминуты превратили разлагающийся труп на склоне в ничто, в пыль. Черные птицы взлетели, заклекотали недовольно, но кружить над блокпостом не стали – тихо и медленно отвалили за гору и исчезли.
Такой была первая смерть, которую я видел на войне близко. С тех пор она не сделалась краше.
Маэстро теперь уже сам выудил из пачки сигарету, чиркнул кремнем, аккуратно прикрыв огонек ладонью, затянулся несколько раз кряду, не выпуская фильтр из губ. Судя по тому, как дрожали его руки, все эти манипуляции стоили ему усилий и боли, но выглядеть слабым он не желал. Затушил сигарету одним движением, произнес едва слышно:
– Мы все, девочка, ты слышишь, все состоим из таких жутких, больных воспоминаний… Но загоняем их далеко-далеко, потому что и жить с ними невмоготу, и умереть без них просто. Вот мы и наваливаем сверху всякий хлам: ненужные сплетни, глупые сериальные переживания, нелепые обиды и ссоры – и таскаем их в усталой памяти беспрестанно, как короб на костлявой спине… Лишь бы не помнить того, что смертны. – Он вздохнул тяжело, воздух с сипением выходил из легких. – К чему я тебе это говорю, девочка? Не повторяй моих ошибок; на войне не скроешься от жизни, как не спрячешься от нее в нудной и монотонной серости будней. Не забывай об этом, девочка… Будь мудрой. Живи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.