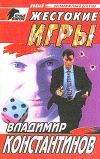Текст книги "Беглый огонь"

Автор книги: Петр Катериничев
Жанр: Боевики: Прочее, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
Дедок тихонечко, шажками, передвигался чуть влево. Зачем – я сообразить не успел; одним движением он выхватил из-под тряпок железную скобу и с придыханием – ух! – маханул острым жалом, зацепив мне руку, рванул, выдирая клок одежды и разрывая мышцы… Сжав до хруста зубы от разом пронзившей боли, я прыгнул вперед, разогнулся пружиной снизу вверх, словно разряд тока разом замкнул все мышцы тела в едином движении… Кулак правой молнией прочертил окружность – снизу вверх – и врезался ему в переносицу, будто пущенный из пращи камень.
На этот раз дедок рухнул на месте. Как бык, получивший кувалдой в лоб. Я опустился на колени, раненая рука повисла плетью. Кусая губы, пошатываясь от боли и слабости, попытался встать на ноги, упал, встал снова. От боли хотелось выть зверем, длинно, тяжко, скаля на луну желтые клыки.
Кое-как двинулся по сараю, заглядывая во все ящички. Ну вот, нашел: некое подобие аптечки. Лейкопластырь имелся: желтый и высохший, как прошлогодний сыр, но лучше, чем никакого. Ибо связать качественно старого батыра веревочными путами одной рукой не удастся. А спеленать его нужно, по меньшей мере руки, да и самого деда-агрессора прикрутить к тому неподъемному стулу, чтобы отвязывался сутки, не меньше.
Отодрал зубами кусок ленты, вернулся, наклонился над бесчувственным телом. Понятно, от такого нокаута он станет отходить минут сорок, но что-то мне показалось… Ну да, живые так не лежат. Я приподнял веко, глянул зрачок. «Финита ля комедия», как говорят иноземцы. Если жизнь, конечно, считать комедией.
Вообще-то, чтобы убить человека таким ударом, вы-звав обширное мозговое кровоизлияние, нужно мо-лотнуть бревном с раскачки. Тараном. Как у меня сие вышло? Я смотрю на труп здорового мужика, который и до восьмидесяти бы пропыхтел без инфаркта и паралича, если бы не алчность… И не ощущаю ничего. Ровным счетом. Ни раскаяния, ни сожаления, ни-че-го. Стылая пустота в том месте, где, по поверью, располагается душа. И если там и вспыхивает временами огонь, то он скорее похож на убийственный грозовой разряд, чем на согревающий костерок. Что, когда и где я потерял?..
Труп я обыскал довольно-таки равнодушно. Денег и оружия при нем не было: видно, пачку баксов дедок сумел заныкать надежно в доме. Оружия, кроме упомянутого ножа, не отыскалось тоже. Одно хорошо: связывать уже никого не требуется; это мертвяки в сказках и жутких повестухах еще проявляют какую-то агрессивную активность по отношению к живым, трупы – никогда.
Пошатываясь, я снова обошел сараюху. На этот раз то, что искал, нашел быстро: полупустую бутылку со спиртом, закрытую притертой резиновой пробкой, сработанной из подошвы башмака. Набрал воздуху, решился и ливанул спирт на рану. Острая боль заставила дернуться судорогой; запах спирта, казалось, заполнил собою весь сарай. Вот теперь – осторожнее с огнем, иначе спалюсь молодым факелом. Залил рану щедрой дозой зеленки, приложил проспиртованной марлечкой, заклеил сверху тем самым грязно-желтым пластырем.
Сел обессиленно на тот самый габсовский стул, глотнул спирта прямо из бутылки и запил водой из большой металлической лейки. Вернее, даже не запил. Я жадно хлебал влагу, пока не почувствовал в желудке тяжесть. Мутным взглядом обозрел сарай. Подошел, прикрыл труп мешковиной. Делать здесь больше было нечего.
Дверь в дом была не заперта, сам дом стоял за доб-ротным забором, на отшибе. Собаки почему-то не было. Я вошел в сени, долгим взглядом посмотрел на бутылку с остатками спирта в руке, вылил в стоявшую тут же, на ведре с водой, кружку, выпил, запил водой, постоял, тупо уставившись в одну точку… Я действовал будто автомат или сомнамбула: закрыл обитую железом дверь, задвинул на засов, прошел в комнату, комом рухнул на оттоманку, прикрылся каким-то ватником и замер то ли во сне, то ли в странном оцепенении, беспомощном, бездонном и чутком, как жало взведенного курка.
Глава 47
Очнулся я с рассветом. Серый сумрак начинающегося пасмурного утра делал серым все: и половики на полу, и старый комод, и большой книжный шкаф, и фотографию в ореховой раме… Кое-как я встал с кушетки; голова была чугунной, волчий голод плескался где-то под ложечкой, а я тупо озирался по сторонам, не в силах вспомнить, где я и как здесь оказался.
Вчерашнее проступало диким, кошмарным видением, и я не вполне был уверен, было ли это вживе или привиделось в пьяном забытьи. Язык казался жестким и шершавым, как наждак. Пошатываясь, я выбрался в сени, приник к ведру с водой, хлебая через край.
Потом умылся. Серый сумрак отступил, но радужных цветов в унылой картинке не прибавилось. Комната качалась, словно в зыбком мареве миража. Я облизал толстые, шершавые губы, чуть поморщился от боли. Рассмотрел себя в темном зеркале на комоде: Квазимодо какой-то! С изуродованным побоями, отекшим и за-плывшим лицом; глаза горячечно блестели, чуть отросшие волосы торчали клоками. Если по-хорошему, то мне бы отлежаться где пару-тройку недель… Но задерживаться здесь было нельзя. Дедок, судя по характеру, был нелюдим, но ведь захаживал к нему кто-то! Да и до теток был охоч; элитных фотомоделей здесь – шаром покати, но две-три молодухи, истомленные пьющими супругами до полного окаянства и отчаяния и охочие оттого до мужеской ласки, аки пчелы до сладкого, наверняка сыщутся. И путь их – сюда, к деду-тиховану, к его тихушному домику. Оставаться нельзя.
То ли из-за температуры, то ли от общего отвратного состояния, еда вызывала отвращение, хотя под ложечкой сосало все больше. Кое-как пошарил в стенном шкапчике в сенях, обнаружив бутылку хорошего коньяка, явно не фальсификата. Заглянул в чуланчик: роскошество! Яйца, солонина, закрытая в стеклянных банках, два здоровенных куса нежирной свинины, видно прикупленные вчера: Игнатьич решил гулевать на радостях.
Покрошил свинину в сковороду, подождал тягостно минут пятнадцать, слушая шипение, махнул рукой – что горячее, то не сырое! – разбил следом десяток яиц, заварил в тщательно оттертой кружке чифир. «Отвинтил голову» коньячной бутылке, наплескал себе две трети стакана и вылакал единым духом, как сивуху: с благородным напитком так бы обращаться негоже, но сейчас он был для меня лишь лекарством «на спирту».
С трапезой управился за полчаса, если, конечно, процесс механического пережевывания и поглощения белков, углеводов и жиров с целью пополнения энергетических запасов организма вообще можно назвать благородным словом «трапеза». Никакой тяжести в желудке я не чувствовал, словно давно перестал быть человеком, а превратился в робота.
Дальше я тоже действовал как механический болванчик. Прошелся по хозяйским комнатам. Нашел крепкий еще камуфлированный ватник: к моему лицу он подходил куда больше, чем кожанка. Щеголять в ней с таким лицом – так никакой служитель закона равнодушным не останется: все-таки с Фролова плеча, и стоила никак не меньше штуки зелени. А дед Игнатьич мужичонка хозяйственный: реквизировав у меня курточку, аккуратно эдак развесил в шкапчик, на «плечики»: ростом я чуть повыше, зато он в плечах был пошире. Никаких угрызений совести по поводу «посмертного ограбления покойного» я не испытывал: он мою судьбину решил уже тогда, когда водочкой с клофелинчиком потчевал, сука!
А ведь зажиточно коптил старый волчара: костюмы, свитеры, все – новье, с иголочки. Недаром с ним молодухи гужевались; видать, не первый я у дедка-душегуба лох залетный, у остальных уж косточки догнивают под хлипкими осинами…
М-да, чтой-то коньячок в голову вступил совсем не с той стороны, или действительно температура? Пошуровать бы у дедка, глядишь, кроме моей зелени еще десяток-другой «косых» нагрести вполне можно. Ха-ха, моей! Круговорот дензнаков в природе или, изъясняясь почти по-ученому, оборот наличного финансового капитала в нынешние времена скор и непредсказуем совершенно и выражается сработанной еще в старой Одессе фразой: «Деньги ваши – будут наши».
Серая тень мышью метнулась вдоль комнаты. Я замер разом. Черт возьми, или примерещилось с пересыпу и недопиву? Я стоял замерев, стараясь не дышать. Скрип досочки на крыльце, еле слышный. Ну да, не померещилось: кто-то рысью метнулся там, за неплотно пришторенным окном, подслеповатое зеркало послушно отобразило это скорое движение, а я заметил его скорее инстинктивно, чем осознанно.
В живых мертвяков я не верю напрочь. Ибо жизнь неоднократно доказывала нам обратное: крупнокалиберная пуля, выпущенная из ствола со скоростью чуть поболее трехсот метров в секунду, любого супермена превращает в кусок дерьма. А практика, как учил нас вождь Вова, – критерий истины! С той оговоркой, что не сама истина. Ну а дед-налетчик вчера был мертвее дохлой рыбы; вряд ли покойник обозлился покражей камуфлированного ватника и вышел вурдалачить после первых петухов. Тогда – кто?
Я стоял посреди комнаты застывшим изваянием. Половица на крыльце снова скрипнула, едва-едва. Кто? То, что не стариковы друганы, – точно. И не пассия-малолетка, пробирающаяся к сладострастному старцу пососать сладенького и заработать на колготки, которые от Парижа до Находки полны орехов с кренделями, съел и – порядок… Менты? С чего? Если только обнаружили стылый и хладный остов в сарае? Но не станут менты скрестись мышами, будут стучать по-хозяйски в двери, а если напуганы допрежь того, вызовут какой-никакой ОМОН, спустят дверь с петель махом да гранатами слезоточивыми закидают!
Ага, коньячок был добрый, раз мысли полетели излетными птахами! Какие в глухомани ОМОН с «черемухой»? То-то.
Тихонечко я двинулся в уголок. Еще загодя заприметил там двустволку. Как и все в доме, оружие дедок-террорист содержал в полном боевом порядке; рядом – патронташ; патроны добросовестно забиты жаканом.
Снова тень метнулась за оконцем, кому-то не терпелось там… И все же… Нет, не менты. Шаг у них не тот: у тех хозяйский, хоть бы они и скрытно подбирались, а когда закон под задницей да «корочки» в кармане, по этой земле ступаешь не в пример тяжелее! А эти… Видно, или посчитаться кто с дедком решил за какие старые грешки, хоть бы и за бабу, или – заметил, как он казну из-за стропила общественного туалета вынимал. А веселых гопстопничков от такой жизни сейчас в любой дыре – с избытком. А может, приберутся подобру? Решат, что хозяин отчалил по личной надобности какой?.. Потянул носом и понял: нетушки, не приберутся. Аппетитный запах шкварчащей еще на сковороде свининки слышно не токмо что на крыльце, а, боюсь, и в славном поселке «Комсомольская вахта»! Под такой аромат не мудрено, если б и самостийный народно-налоговый контроль приперся: на какие, дескать, шиши разговляешься, щучий дед?
Еще был вариант, но о нем и думать даже не хотелось, ибо тогда шансы вырваться из людоедской избушки становились призрачнее первого мужа донны Флор из почти одноименного романа Жоржи Амаду. Это – если меня нагнала-таки какая-то из заинтересованных в моей безвременной кончине сторон. Самое против-ное, что я даже слухом не ведаю, кто бы это мог спроворить. События летят на меня снежной лавиной, а мне бы в избушечке отсидеться да поразмыслить о бренном и вечном… Одно хорошо: если меня хотят убрать, значит, мешаю, а если мешаю, значит, все по учению: верной дорогой идете, товарищ! Но уж очень извилистой.
А те, снаружи, замерли. Но и рваться в запертую дверь и занавешенные узенькие оконца не спешат с треском и хламом. Сидеть в этой осажденной крепости сиднем? Занятие пустое и небезопасное. Да и самая лучшая защита – нападение. Если, конечно, знаешь, на кого нападаешь.
Тихонечко поднимаю ружьецо, загоняю пару патронов в стволы. Человек я не злобный, не с кем и нечего мне делить в этой забытой Богом и отцами-основателями комсомола бессменной вахте, но таковы уж люди: говорить о мире лучше хорошо вооруженным. Не то никакого разговора не получится вовсе.
Выглядываю в оконце и не вижу ничего, кроме куска двора да добротного высокого забора. Одно непонятно: почему такой непростецкий и сторожкий дедок не завел себе зверя-волкодава? Вон и будка обширная имеется, и проволока для цепи во весь двор протянута… Или – был песик, не такой добрый и совестливый, как пожиратель сухого корма, но – был?.. Видать – потравили. М-да, не пользовался Игнатьич в поселке бывших шахтарей уважением и авторитетом, а наоборот вовсе.
Ну что? Пора и на свет Божий? Ибо действие рассеивает беспокойство.
Таиться я перестал. Вышел в сени, покряхтел нечленораздельно, покашлял, закурил самокрутку из дедова табачка, чтобы на улице дух слышен был, погремел ведрами. Если на меня охотка, то эти ухищрения – как кольчужка против сорокапятой пушечки, а если это местные пришли баланс на счета наводить, то еще пободаемся.
Ружьишко я примостил в уголке, готовый при случае быстро ретироваться в сени, если уж фортуна окажется девушкой особо переменчивой. Запахнул камуфляжную телогреечку, в руку взял короткий черенок лопаты: в ближнем скоротечном бою оружие куда более ломовое, чем нож. Да и… Если все ж местные, то не готов я бить их смертно за дедовы грехи!
Снова погремел ведрами, дескать, собрался, замер. Едва слышный скрип: кто-то затаился на крыльце, как дверь распахнется, он в аккурат окажется за ней. Отодвинул засов, толканул дверь и ступил на крыльцо. Даже не услышал, почувствовал, как та дверь тихонько почала притворяться и резко свистнуло в воздухе. Быстро шагнул вниз по крыльцу, накидываемая струнная удавка скользнула по темечку и за спину, а я двинул рукой с зажатым черенком назад, торцом угодив нападавшему в причинное место. Крутнулся на месте и врезал уже с маху другим концом черенка по перекошенной болью физиономии, целя в подбородок. По-пал. Звук получился звонким, как дерево о дерево, и мужик кулем свалился с крыльца. А на меня уже набегал другой с занесенным железным прутом: перехватив черенок двумя руками, подставил под удар. Замах был велик, сопротивление – неожиданным; железный прут вырвался из руки нападавшего и с визгом унесся в пространство. И еще – я увидел в глазах мужика искреннее недоумение, переходящее в потустороннее похмельное изумление… Еще бы, изумишься тут, увидев вместо желаемой стариковской хари – побитую варнакскую рожу!
Но указывать ему на ошибки мне было недосуг. Как и вести душеспасительные беседы. Черенок со свистом рассек воздух и угвоздил мужика в висок. Тот пошатнулся и рухнул.
Я отступил на крыльцо, скрылся в сенях, вышел уже с двустволкой наготове: кто знает, как местные индейцы планируют облавные захваты и прочие провинциальные развлечения? Это как водится, в каждом глухарином уезде – свои традиции проводить свободное от жизни время: одни любят с удочкой посидеть, другие – с ружьишком побродить…
Домик обошел по периметру скоро, но тщательно: никого. Сарай, как закрыл я его вчера на висячий замок да бревнышком припер для верности, так и стоит недотрогой. Выходит, нападавших всего двое, и оба горе-налетчика приперлись сюда пешочком с раннего утречка: променад у них такой.
Мужички признаки жизни уже подавали, но для полного оклема время еще не пришло. Связав каждого веревочкой и взвалив на хрупкие свои плечи, перенес их по одному в дом и расположил, как и положено гостеприимцу, в креслах, прихватив для верности ноги тем самым капроновым шпагатом, чтобы до окончания собеседования у незадачливых, но, возможно, амбициозных разборщиков мысли плохие не возникали. А побеседовать очень хотелось: тянуть за собой еще одну непонятку – просто никаких сил.
Хлебнул сам коньячку, сел на диванчик и замер в ожидании. Искать нашатырь и суетиться – дело хлипкое: от ударов по бестолковке люди отходят, когда пора пришла, и не раньше. Наконец тот, что получил сначала по мужескому достоинству, а потом по «бороде», вскинул голову, уставился на меня налитыми бычьими глазами. Лицо его было в мелких красных жилках – верный признак того, что потреблять горячительное он взялся с самого малолетства и пагубного того занятия не оставлял ни в годы перестройки, ни в прочие судьбоносные. На вид ему было лет сорок.
– Ты кто? – скорее не спросил, а выдохнул он.
– Конь в пальто.
Мужик полупал глазами, вздохнул. Снова разлепил губы:
– Убивать будешь? Или – поизмываешься?
– А есть за что?
– Да все вы, суки, одной масти.
– Да ну?
– Игнатьичев сродник будешь?
– Скорее – кровник.
Невеликий сталинский лобик мужичка собрался морщинками в размышлении: что, дескать, сие означает? Его сомнения я разрешать не спешил: пока человек чувствует угрозу, он словоохотливее. Хотя и не всегда.
Второй подельник тоже кое-как проклюнулся; удар в висок валит мертво, и я порадовался, что сумел-таки придержать руку.
– Чего прибрели спозаранку, болезные? – вопросил уже я. – Дедка за яйца прощупать?
Мужичок молчал. М-да. Разговор не складывался. Видно, подутерял я большое личное обаяние. Да и применять к мужичкам «третью степень устрашения» вовсе не собирался: видно было, что пришли они не по мою душу, а дедову из преисподней им уже не достать.
Но и в молчанку играть с ними было муторновато. Я чувствовал исходящий от них липкий, как налимий пот, страх. Тоже аники-воины!
– Вот что, ребятки. Долго засиживаться с вами мне недосуг. Или исповедуйтесь по-скорому, и ступайте на все четыре, а я на пятую пойду, или – так и оставлю вас тут до прихода Игнатьича, пусть сам разбирается.
Мужик в кресле – здоровенный, взрослый сорокалетний мужик – явственно побледнел, и лицо его обильно оросилось мелким холодным потом. Да, видать, с дедком они встречались накоротке и что это за волчара, знали хорошо… Вот и мне знать надобно: а то вдруг окажется Игнатьич вовсе не ведмедь-шатунок, а Акела – вожак стаи? И за мною, ко всем прочим, еще и бригада ветеранов-пенсионеров спецназа увяжется, бегай от них?!
– Правда отпустишь? – спросил второй.
– А что, сильно похож на душегуба?
Мужик только глазками заморгал: видно, я был похож.
– Я здесь случаем, как пришел, так и уйду.
– А чего в смирновском доме делаешь?
Ага. Вот так и доведется познакомиться посмертно: значит, фамильица покойного – Смирнов.
– Коньячок пью. И мяском закусываю. По стаканчику примете?
Не дожидаясь их особенного согласия, налил каждому по полновесному стакану спиртяги, слегка разбавив водичкой. Мужики косились на мои приготовления так, будто воочию узрели привидение, причем с напрочь съехавшей крышей.
– Не боись, отцы, травить не стану.
Развязал каждому руки, выдал по стакану. Никаких особенных сюрпризов я от них не ждал, тем более со спутанными ногами не очень и распрыгаешься, особенно когда обидчик, то есть я, уже доказал свою рас-порядительность в обращении с колотушкой, теперь покоящейся рядом на диванчике. Ну а для пущей убедительности и ружьишко осталось у меня под рукой. Чего им рыпаться на пулю? Никакого резону, по правде говоря.
Плеснул себе коньяку, поднял посудину.
– Ну что? Как говаривала проститутка в одной комедийке, за наше случайное знакомство! – не без пафоса произнес я. И опрокинул свой коньячок.
Мужики тоже долго ломаться не стали: один за другим маханули семидесятиградусного спиртягу влегкую, привычно, отдышались. Потом один молвил:
– Закурить бы…
– Смолите. Меня зовут Игорь, – соврал я.
– Василий, – произнес тот, что сидел ближе. Добавил с неясным смешком, кивая на напарника с лицом, изрытым когда-то юношескими оспинами: – А этот, покоцаный, Колян.
Мужики повозились по карманам, задымили «примкой». Я тоже полыхнул спичкою, закуривая, и, обозрев как бы со стороны легкую странность ситуации, хмыкнул:
– Хорошо сидим. – Помолчал, добавил: – Вот что, отцы, вы, выражаясь по-ученому, стрелку проиграли вчистую, вам и ответ держать. Слушаю.
Хмель настиг первым Василия.
– Да какой на хер ответ! Не знаю, кто ты деду, а только сволота он. Сука и пидор!
Кто бы спорил, но не я. А Василий уже завелся в пьяном запале:
– Ты можешь жилы из меня тянуть, а Смирнова я достану! За вышку под падлу пойду, но достану!
– Чего так? Насолил шибко?
Василий потупился: говорить не говорить… Тут вступил Колян:
– Да чего там, – маханул он рукой. – Вчера этот потрох сучий девку вот его, – кивнул на напарника, – снасильничал.
– Ну?!
– Вот те и «ну»! Уж не знаю, кто ты, паря, будешь, блатной или бандюган, а тока по всем понятиям – беспредел это! На любой зоне за это старого пердуна раком поставют: девке одиннадцать лет всего!
Папашка Василий сидел такой, что на него смотреть было жалко. А Колян продолжал:
– Гулевал он с чегой-то: накупил в «Америке» всяко-разно, погрузил в свою мотоциклетку… А Олька Васькина как раз с магазина шла. Вот и приманил, старый козел, шоколадкой! Посадил в коляску и – в лесок.
– Так чего ж вы вчера не наехали? Могли бы и с милицией, раз такое дело…
– Да Васька сам седни только узнал. – Колян вздохнул. – Видать, молотило у дедка немаленький, девка болеет, за живот держится… Наська, Василия жена, и пристала к ней седни с ранья, что и как… Ну девка и раскололась: дескать, дед Смирнов шоколадку ей дал, а потом велел трусики снять и с писькой его играться… А уж потом… Тьфу, сволота! – сплюнул Колян. – Удавить такого мало! Детки, они ж до сладкого охочие, вот и польстилась на шоколадку… А зарплату мы год не видали, а от картохи той с души воротит…
Василий слушал другана и не замечал, как слезы катятся одна за другой по лицу. Скверно, когда мужики плачут. Совсем скверно.
– Я предлагал Ваське сразу в ментовку заяву подать, на зоне ему за эти художества очко бы весь срок рвали! Да… – Колян махнул рукой. – Времена нынче – то ли посадют, то ли отмажется, а девку навек ославят. Этот Смирнов не простой дедок… Вот мы и решили сами: прийти втихаря и удавить.
– А чего не явно? Вкатили бы картечи из ружьишка…
– Да? Сидеть за старого тоже охота невелика. А так – придушили бы тишком да дом его подпалили: поди до-казывай! А еще… На дедка не очень-то рогом и попрешь: как-то селивановские на него возбухли, так он шестерых пораскидал, что котят, да еще кому ребро, кому руку поломал… Такого шатуна только засадой и взять можно… – Колян осекся вдруг, глянул на меня жалко, заопасавшись, что слегка разбавленный спиртяга сыграл с ним злую шутку: разболтался он, а теперь этот и сдаст его Игнатьичу с потрохами…
Ладно, мужики – не бойцы, но хоть попытались! А что до Ольки этой, так не задержись дед с ней, не выпутаться бы мне из тонкой капроновой паутины!
– Вот что, мужики. С дедом вам расчеты больше чинить не надо.
– Да? Это по-каковскому же решению?
– Кончил я деда.
– Как – кончил? Убил?
– Можно и так сказать. В ментовку не заложите?
– Да чего нам… Да мы…
– Ну тогда подите гляньте: в сарае, под дерюжкой. – Я кинул мужикам ножик, они мигом освободили ноги. Вышли, покачиваясь, из дома, посеменили к сараю, сняв указанный мною ключ с крючка. Долго возились с замком, скрылись, появились через минуту, озадаченные, притихшие: одно дело – по куражу на дело идти, другое – воочию готового жмурика узреть.
– Остыл уже, – произнес Василий, уточнил: – Холодный.
– Сдох, собака, – произнес Колян. Посмотрел на меня по-новому, с большей даже опаской: – Ты извини… уважаемый… Могли бы угрохать тебя вместо деда.
– Вот это вряд ли, – хмыкнул я.
– Так ты нас это… отпускаешь или как?.. – спросил Колян, продолжая поглядывать на ружьецо.
– Да идите с миром. Только… Вы уж не закладывайте меня, такого хорошего, а?
– Да что мы, басурманы? Ты ж эту суку старую завалил, а мы тебя – заложим? Чай, русские люди, здешние.
– Вот потому и прошу душевно, что здешние, – вздохнул я.
Пора было отрываться. Куда? Мысль об этом была неуместной, ибо бодрости не прибавляла. Зато другая была как нельзя кстати: уверенности, что мужички не проболтаются где случаем, по хвастовству или пьянке, – никакой. Только одно чувство надежно замыкает рот замком – страх. Ну а раз так – выступлю-ка змеем-искусителем. Да и добру – не пропадать.
– Да… Вы вот что, мужики. У Смирнова этого денюжки немалые заныканы в доме. Вы бы пошуровали, глядишь, отыщете.
Оба смотрели на меня странно, по-бараньи, не то чтобы недоверчиво, а скорее просто тупо: с чего, мол, щедрый такой?
Наконец Колян, он был посмелее и посметливей, спросил:
– А самому чего? Карман жмут?
– Недосуг. Идти мне надо. Времени у вас немного, рассвело совсем, не ровен час, заглянет кто. А там у деда – тыщи! Долларов!
Азарт и алчность подстегнули мужиков, как плеткой. Лишь опять тот же Колян на крыльце обернулся, долго и вдумчиво смотрел мне в глаза: не учиню ли чего смертного? – уверился, что не учиню, и – скрылся в доме. Василий тоже запнулся на пороге, чуть помедлил, спросил:
– А ты все ж кто будешь-то?
Кто я? Самому бы узнать, да не у кого.
– Странник.
Зашел в сараюху. Глянул на труп, на убранство сарая. Закурил, бросил спичку на кучу пропитанной соляром ветоши, ногой опрокинул канистру с бензином. Не дожидаясь, пока занявшийся огонек добежит до первой бензиновой лужицы, быстро вышел, миновал ворота и направился к лесу. Уже у опушки услыхал тяжкий взрыв: ухнула канистра, разметав огонь, и сарай занялся сразу. Я усмехнулся невесело: ломать – не строить. Успели мужички казну найти – их счастье, не успели – впору ноги уносить. Сгорела хата – гори и забор!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.