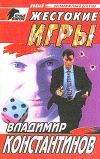Текст книги "Беглый огонь"

Автор книги: Петр Катериничев
Жанр: Боевики: Прочее, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Глава 48
Лес казался бесконечным. Я брел по нему уже который час, ориентируясь по солнышку. Береженого Бог бережет: мне нужно было уйти как можно дальше от мест, где я нарушил все законы и статьи УК, какие только возможно. Мне нужно было где-то отсидеться. Еще лучше – отлежаться. Хотя бы затем, чтобы подумать, что происходит и что мне доґлжно делать. Такое место я знаю, и не одно. Во-первых, Шпицберген. Во-вторых, Каймановы острова. Но ни там, ни там меня, к сожалению, никто не ждет. Как и на всей круглой земле. Прямо как в песне: «Когда я пришел на эту землю – никто меня не ожидал».
Не знаю, сколько я прошел по бездорожью. Лес обступал кругом, лаская красками осени. Небо заволокли тучи и пошел мелкий противный дождь. У меня заломило виски, потом и весь затылок; кое-как нагреб груду опавших листьев, прилег. И провалился в тяжелый удушливый сон.
Проснулся от холода. Вечерело. От нудного моросящего дождя ватник отсырел; сыростью, казалось, пропиталось все вокруг. Попытался привстать, но меня мотнуло в сторону: видимо, температура разыгралась нешуточная. Голова кружилась, во рту было сухо, как в пустыне, губы спеклись, дыхание стало прерывистым и хриплым, и сердце притом колотилось как бешеное, глаза застилал липкий ознобный пот.
Я решил идти. То, что это было плохое решение, я понял скоро, но упорствовал в своих заблуждениях. Пока не запнулся о какой-то корень и не слетел по какому-то косогору вниз, царапая руки и лицо о кусты.
Внизу замер. Тихонько переливался невидимый ручеек. Кое-как горстью натаскав воду в рот, напился; потом – собрался в комочек, словно одичавший пес, стараясь согреться: бесполезно. Дрожь сотрясала тело, и я снова отлетел в беспамятство сна, нудного и усталого.
Мне казалось, что я бродил где-то в ночи, в сыром промозглом холоде, среди сухих остовов обгорелых деревьев и брошенных домов; я пытался заходить то в один дом, то в другой, в надежде найти тепло и ночлег, но меня встречал только писк потревоженных нетопырей, хлопанье незапертых ставень, запах нежити и неустройства. Я пытался выбраться из этой неприветливой, оставленной людьми и живностью деревеньки, но не мог: тропинка петляла, я брел по ней сквозь белесую пелену тумана, пронизанного лунным призрачным светом, и снова и снова утыкался все в те же строения или не в те же, но похожие так, что и не отличить… Где-то на верандах стыли в затянутых патиной старинных вазах засохшие шары осенних цветов, не оставив по себе запаха – один образ бывшей здесь когда-то жизни и живого тепла, исчезнувшего навсегда. Я знал, что попал туда, что в народе называют «гиблое место», что пропаду здесь, если не выберусь; усталость клонила к земле, и я бы упал на нее и уснул, если бы не затхлый могильный холод, что царил здесь везде, чья печать лежала и на строениях, и на предметах, студила дыхание, покрывала липким потом продрогшую спину.
В отрешенном и обреченном бессилии я пытался бежать куда-то, задыхаясь мертвенным холодом, едва переставляя ватные, будто налитые тяжкой ртутью ноги, падал, грыз черные корневища горелых деревьев, бился головой о стылую и неживую, будто гуттаперчевую, землю и мне хотелось выть, выть от тоски и безнадеги. Я заставлял себя подниматься и идти снова, и снова оказывался в той самой деревне, полной пустой нежити, зияющей в жижеве влажного лунного света чер-ными проемами оконных глазниц. Я шел, путаясь в серебряно-седой траве, но шаги мои были беззвучны. Я устал. Пытался вспомнить слова хоть одной молитвы, и не мог: губы оставались немыми, сердце словно замерло в плену холода и дикого, беззвучного страха… Но вот – один горячий толчок, другой… С каждым ударом перепуганного, но оживающего сердца зазвучало покоем: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет Воля Твоя яко на небеси и на земли…»
И тут я разглядел криницу. Махонький ручеек казался единственным живым существом в этом горелом лесу, он играл и переливался влагой, как потоками теплого света… Я подошел и опустил лицо в ключевое оконце…
…Холод ожег, заставил отпрянуть. Я хлебнул-таки воды, и теперь кашлял, озираясь, пытаясь разглядеть, различить в сумраке окружающего утра хоть что-то… Ну да, я лежал почти на дне того самого, поросшего по краям жухлым папоротником оврага; голова по-прежнему была мутной и больной, дыхание – хриплым; но вместо щемящего холода вокруг – живой, подрагивающий ветками лес…
Кое-как я встал, набрал сухих щепочек, надрал коры, вынул из одного кармана пакет – там лежал кус сала, несколько кусков сахара, чай и немного хлеба; из другого извлек кружку и нож, зажигалку. Набрал воды, запалил крохотный костерок, мигом вскипятил воду, забросил туда чай и сахар… С каждым глотком вязкого кипятка ночной стылый холод уходил все дальше и дальше.
Я выкурил отсыревшую до полной безвкусности сигарету, сориентировался и побрел дальше. По моим прикидкам, я был уже в другом районе; теперь мне нужно было выйти на дорогу и подъехать на любой попутке хоть до какого-то железнодорожного узла.
Возможно, мое решение было снова плохим, продиктованным болезненным состоянием. Но другого у меня не было. Я собирался выполнять это. На «железке» забраться в любой товарняк, докандыбать как-то до столицы, а там – по обстоятельствам.
Кое-как отогревшись, снова побрел лесом, превозмогая поминутно возникавшую слабость. Это только в книжках герои-диверсанты – супера с железным здоровьем, нервами-канатами, горячим сердцем и холодными ушами; в кармане – пистоль-самопал, копье-самотык и ручка-самописка, напичканная по самую головку ядом кураре.
А у меня тягомотно болит голова, достает острой иголочной болью сердце, ноют побитые зубы да еще и вдобавок застуженные этой ночью старые раны: плечо и колено. Хорошо хоть, золотухи нет. Я даже не знаю, что это такое. И слава Богу.
Постепенно я разогрелся, вошел в ритм и, изредка сверяясь по редким просветам в череде облаков, шел и шел. Опять же, не в Сибири живем, и если брести прямопехом хоть в какую сторону, на большак выберешься. Ежели леший не закружит.
Дорогу я учуял издали по просветам в деревцах. Вышел на взгорок, разглядел: вьется между невеликими лесными холмиками, то показываясь, то пропадая. Лепота. Благолепие. Почти счастье. Только выйдя на твердую грунтовку, я почувствовал, насколько устал. Теперь оставалось ждать.
То, что мощного автомобильного движения в шесть полос или, как выражаются американцы, «heavy traffic», в расейской глубинке не наблюдается, я знал и ранее. Но полчаса ожидания, когда разгоряченный движе-нием и повышенной температурой органон начал подрагивать даже не крупной дрожью, а крупной рысью, меня озадачили. Словно я оказался на какой-то заброшенно-позабытой трассе времен ГУЛАГа. И сейчас ведущей в никуда.
Сплюнув от очередных идиотских мыслей, выдернул из пятнистой душегрейки кусок сравнительно сухой ваты, скрутил жгутом, набрал водицы из лужицы (козленочком можно стать только от сырой), вскипятил на фитильке, засыпал в кружку остатки чая и сахара, вынул пригретый во внутреннем кармане мерзавчик коньячку, украденный из Игнатьичева шкапчика, влил половину в глотку, половину в чаек и пристроился кайфовать на каком-то бревнышке. Единственное, что мешало полному счастью, – так это мелкий нудный просев дождичка да чугунная голова на деревянной шее. Две последние вещи мои собственные, я с ними един и неделим, как Россия с Шикотаном, а потому сие неудобство собирался терпеть и дальше.
Если температурящее тело и не согрелось полностью, то озябшая душа после мерзавчика «конинки» явно отмякла: я откровенно загрустил, взирая на убогие, но родные дали и веси. Если так пойдет дальше, то боевой настрой и все прочее вскоре канут в Лету, а сам я сделаюсь почтальоном на дальней станции, буду разносить редкие пенсии, попивать синий свекольный самогон, тягуче размышлять о бренном и вечном, копошиться по хозяйству, из родных и близких иметь мохнатого и ворчливого пса размером с теленка и в конце концов помру тихим алкоголиком на мелком пенсионе. Это – славный финал большинства бойцов невидимого фронта, выведенных из нелегальных резидентур, но ни в фильмах, ни в книжках писать об этом не принято. Есть и другой финал, более удачный: автомобильная катастрофа или сердечный приступ. Нет, не все так фатально, бывают генеральские апофеозы по завершении и такой карьеры: это когда, лязгая хорошими протезами, можно на форуме пообщаться с коллегами по профессии с той стороны, пошамкать-погундеть о наболевшем, выпить чуток, прощупывая противника на предмет возможной вербовки (привычка – вторая натура, стано-вящаяся с годами первой), и – разъехаться по тихим, оберегаемым особнякам, где хорошо вышколенная прислуга станет бдительно следить за развитием вашего старческого маразма и вовремя пресекать любые попытки написания мемуаров. Таковы реалии, о которых не пишут в прессе. Такова жизнь.
Первое транспортное средство, нарушившее мое тоск-ливое уединение, оказалось лошадью. Естественно, с телегой на резиновом ходу и вполне упитанным розовощеким хлопцем на козлах. Парниша был одет в изношенную куртку, ватные штаны; на круглой голове чудом держалась давно вышедшая из моды шапочка-петушок. Он лениво погонял животину, которая и без понуканий довольно резво трусила по дороге.
Я вышел из леска на обочину, окликнул возницу, стараясь сделать хрипатый голос смиренным:
– Эй, уважаемый…
Но парень совершенно не озадачился моим избито-грязным видом, смешно вытянул вперед полные губы, промычал «тпру-у-у»; лошадка послушно стала. Повернул ко мне добродушное круглое лицо, спросил:
– Чё, доходяга, к Трофимовне бредешь?
– Да я…
– Понял. Садись, чего уж. Приживешься – примет.
Не особенно вдаваясь в долгие размышления, я за-прыгнул задницей на телегу: раз везет, так и пусть везет. Уж очень не хотелось больше торчать в сыром лесу. А дорога выведет.
Возница смачно чмокнул губами, тронул поводья, и лошадка потрусила быстро и скоро.
– А ты мужик еще не старый, – глянул он на меня. – Глядишь, и приживешься.
Где мне предстоит прижиться, я спрашивать не стал.
– А где морду так распоганили?
– Да по пьянке.
– А-а-а-а… Это завсегда. По пьянке вся бестолочь в этой жизни и происходит. Тока ты смотри: Трофимовна не поглядит, что молоґдый, коли зашибаешь крепко, вышибет на зиму глядя и – кукуй!
Хотя из-за общего состояния и голова у меня соображала туго, вроде что-то я уразумел: Трофимовна, видать, мужичка себе ищет, а сама бабенка пиндитная, уважаемая, вот и подходит ей не абы кто. Словно подтверждая мои мысли, возница продолжил:
– Щас вас, бомжей, к зиме в Ильичевке как грязи соберется, так что, хочешь зазимовать, так смотри… С этим делом строго. – Парень хмыкнул: – У нас щас вроде конкурс, как раньше в институт: пять человек на место. Перебор. И в бараке – сухой закон. Понятно, Трофимовна тоже человек, до трех пьянок или до одной драки: драчунов сразу вышибает со свистом! Чтоб неповадно! Ей работники нужны, а не ухари. А там, глядишь, и к месту приспособишься. Скажем, на центральной-то усадьбе у нас еще пяток бабенок непристроенных есть, вот и в аккурат в хозяйстве мужчины надобны. Ты это, не того?
– В смысле?
– Ну… По бабам – ходок? А то были у нас двое, все промеж себя лизались по углам, тьфу… Так их вышибли мигом, да еще сами мужики и накостыляли! Вот такой вот парадокс получается: правит бал у нас баба, и все начальство наше бабы, как есть, потому и мужик в цене. Наша Трофимовна бает, когдась так на земле было – бабы верховодили, – так ни войн, ни катаклизмов каких… Потому как баба знает: мужика родить и вырастить трудно, а убить – раз плюнуть. Вот и берегут. Называлась даже держава та как-то, вроде что и матерщинно…
– Матриархат.
– Ну. Оно. Трофимовна говорит, как мужики власть забрали, так все враскосяк и пошло.
– И что, не бунтуют против бабьей власти?
– Кому бунтовать-то? У нас ведь те, что натерпелись, бичи да доходяги. А какие работать не хочут или умные шибко, в смысле водки пожрать, – тех, говорю, вышибают в два счета. С подзаборья вышел, под забор подыхать и пойдешь. Такое дело.
– А сам ты – тоже пришлый?
– Не. Я – местный, игнатьевский, – произнес круглолицый с такой важностью, будто был единственным наследным отпрыском Рюрика. – Ты кто по профессии будешь?
– Был солдат. А теперь уже и не знаю.
– Беда. Везде нонче беда. Одно развалили, другое не построили и вроде как не собираются. На шахрайстве только вахлаки жить могут да жиреть. Народу на воровстве не прокормиться, детей не поднять. Как поймут это те, верхние, так и дело пойдет. Власть, что с воровства кормится, захиреет; вот они верховодят, как в чужой стране, а пройдет еще годков десять такой вот разрухи, что останется? Сиро и зябко им будет где хошь: хоть в Москве той, хоть в губернии. Какие вы цари да бояре, коли по миру с протянутой рукой? То-то. И нам – хоть смертью помирай. Беда. – Парень вздохнул: – Ничё, солдат. Не пропадем. И тебя к делу пристроим. Токо ты не дерись и старайся.
Из дальнейших рассуждений возницы, которого звали Федором, выяснилось: был здесь когда-то колхоз «Победа», потом по новым веяниям его взялись превращать в фермерские хозяйства, да чуть не доконали вовсе. Собрались бабы и избрали председателем теперь уже АО Марью Трофимовну Прохорову; она подумала, да и решила: без мужских рук хозяйства не поднять, а без мужской ласки и баба не работник, так, функция одна. И взялась приручать беспутных бобылей, незадачливых мужей, сорванных с места переселенцев. Бомжей тоже не чуралась; и пусть из них оставался один из десяти, а большинство с наступлением тепла подавались к югу, за миражом вольного счастья, но дело пошло: кто-то из баб и замуж повыходил: из истосковавшихся по делу да домашнему уюту шатунов мужья нежданно получались добрые.
– Что, и зарплату платит?
– Ну уж это лишнее. Да и зачем бобылю зарплата? Пропить? Кормежка, одежка, крыша над головой. Поди лучше, чем на помойке рыться да под теплоцентралью ночевать.
– Коммунизм.
– Ну. Коммунизм. А что плохого?
– И на волю никого не тянет?
– Кого тянет, тех не держим. Воля, она с голодом да холодом дружится. А у нас – сыт, одет-обут. Живи.
Глава 49
За два с лишним месяца трудов на сельскохозяйственной ниве правоверным хунвейбином я не стал, но физически окреп совершенно.
Приняли меня спокойно. Марья Трофимовна, крепкая статная женщина лет пятидесяти, всегда одетая в плотно пригнанную кожаную куртку, напоминала суровостью комиссара двадцатых, но взгляд светлых глаз на полном русском лице был добр, строг и мягок одновременно; она не ломала людей и даже вроде не стремилась подчинить, но требовала, и делала это так, что ее требования не могли быть не выполнены. По вверенному ей разбросанному хозяйству она моталась на средних размеров внедорожнике-джипе, сама за рулем, наводя своим появлением даже не трепет, а тоскливое беспокойство на всех возможных тунеядцев и хулиганов.
Отсутствие у меня каких-либо документов хозяйку колхоза-полигона не утягощало совершенно. Еще при знакомстве Трофимовна лишь справилась, не убивец ли я беглый, и, получив отрицательный ответ, сначала пристально глянула мне в глаза, сказала что-то вроде «ну-ну» и произнесла напоследок: «Старайся. А документик мы тебе выправим, коли дело на лад пойдет». С тем и уехала.
Сначала мне было смутно. Виной тому – дожди. Они зависли липкой и нудной паутиной, а я все никак не мог отделаться от ощущения, будто время сделало какой-то жуткий скачок, или… Или вообще минувшее десятилетие нам приснилось? И не было ничего?.. Да и… Когда вторую неделю идет дождь, кажется, он идет по всей земле, и потоки воды давно затопили и Париж, и пагоды Поднебесной, и тихие городки Сицилии, и великие американские равнины… И только статуя Свободы продолжает тупо сжимать потухший факел торчащей из-под воды пролетарской рукой.
Дни потащились нудно, как полуживые клячи. Мне вдруг показалось, что я не вписываюсь не только во время, но и в возраст – мои «слегка за тридцать» затянулись. В этакие года мужики уже набирают «вес». Юношеский запал иссякает, а проблемы остаются и множатся. Теряется гибкость, но приобретается жесткость. А потому мужики после сорока – это бойцы даже не средней весовой категории: полутяжи и тяжеловесы. И проблемы свои и выросших уже детей они решают не мордобоем и не стволами – связями, общественным положением, авторитетом. Авторитет, как ни кинь, вовсе не исключительная принадлежность преступных сообществ. Как мудро замечал Ильич Первый: «Человек не может жить в обществе и быть свободным от общества».
Меня же болтает как неприкаянный флюгер по просторам социума, похоже, без руля и ветрил. Кто я? Одинокий волк или служебная собака, оставшаяся без хозяина? Или птица, обреченная летать? Когда я был маленьким, у меня над столом висела простенькая гравюра: ветви стелются над морем, заходит солнце, и одинокая птица мечется в раннем предвечерии, расчерчивая своим беспокойством пространство… А может, так лучше? Если есть еще силы летать?
От дурных мудрствований отвлекала работа. Как бесхозного, беспаспортного и побитого бомжа меня определили сначала в поля, затем – скотником при молочной ферме: навоз выгребать. Тяжелый физический труд на свежем воздухе при полном отсутствии тяжких мыслей быстро привел меня в норму: вскоре я забыл, что такое апатия или фрустрация, и, намахавшись лопатой да потаскав мешки с картошкой, комбикормом, цементом и прочими нужными в хозяйстве вещами часов эдак шестнадцать, валился в койку и засыпал сном усталого рабочего коня.
Впрочем, не чужд я был и спорту: устраивал почти ежедневно пяти-семикилометровые пробежки по пересеченной местности, понятно, ни в каком не «адидасе», а как был, в сапогах-бахилах, гимнастерке и телогрейке. В тихих лесных чащобах скакал, аки макака перед случкой, отрабатывая полузабытые приемы рукопашки; в жизни и гвоздик пригодится, а в такой, как моя… Как показала практика, она же – критерий истины, чтобы быть всегда готовым, нужно готовиться всегда. После пробежек полоскал гимнастерку в ключевом ручейке, сам – обливался в саду за домом, где нас поселили, дву-мя-тремя шайками слегка подогретой в казане воды… Соседи на мои художества смотрели с ленивой укоризной, но не цеплялись: у каждого в голове свои стаи мух, и все хотят в теплые края, и не как-нибудь, а клином, и никогда-нибудь, а ближе к зиме. Зима же, судя по обилию рябины, обещала быть студеной.
Поселили нашу «великолепную пятеру» бомжей и неприкаянных в двух комнатах деревянного, давешним летом срубленного дома. За перегородкой, уже в пяти комнатах, устроилась семья: бывший шатун-бедолага, женившийся на местной с пригулянным пацанчиком, теперь же они ждали уже своего. Для живущих на «общежитской половине» сие должно было служить вроде как предметом зависти и примером одновременно. А уж служило или нет – судить не берусь. Народ у нас здесь собрался нелюдимый; каждый копался в погремушках собственной души, угрюмо перебирая тягостные воспоминания, но ревниво пресекая любую попытку влезть в эту самую душу, пусть с сочувствием или состраданием; к тому же бригадирша Анна Ивановна старалась загрузить нас работой по самую маковку, абы не бедокурили.
Исключение составлял мужичок лет шестидесяти с небольшим – Владлен Петрович Буркун. На работы он не привлекался, был в доме за кашевара; вернее, в его обязанности входила готовка завтрака и ужина, но и тот и другой ни разносолами, ни гастрономическими изысками не отличались: Владлен Петрович был скорее за домового. Зато чаек готовил исключительной крепости, густоты и совершенства. Исключительность же его собственного положения обуславливалась тем, что он был настоящий доктор наук; в Покровске у него осталась разведенная жена и двое подсевших на наркоту выросших детей. От тоски и бессилия он запил было надолго и влютую, пока не прибился в колхоз. Ему как-то негласно разрешалось «принимать», что он и делал с завидным постоянством, находясь почти круглосуточно подшофе; свекольным самогоном его пользовала тетка Евдокия, что жила в трех домах от нас. Для остальных запрет на винопитие был строгий, и никому из бродяг не хотелось глядя на лютую зиму вылететь на свободу да и замерзнуть там до смерти.
Был Буркун невысок ростом, худ, лыс и очень подвижен; глаза за толстыми линзами очков смотрели всегда весело и чуть насмешливо, и только очень внимательный человек мог бы заметить за их живым блеском тяжкую, неизбывную тоску и горе, которого никто не мог исправить. Приходя с работ, я часто заставал Петровича в грустной задумчивости; увидев меня, он словно оживал: я был хорошим слушателем, а большего ему было и не нужно. После ужина мы частенько засиживались за чайком.
– Знаете, Олег, порой провинцию называют «кладбищем талантов», – раздумчиво произносил он, и тут – словно взрывался: начинал говорить быстро, глотая слова, словно опасаясь, что не успеет сказать: – Да, это кладбище талантов. Но еще – и прибежище бездари! А бездарь – энергична, упряма, злословна, целеустремленна и завистлива! Именно бездарь, обвешиваясь чинами и регалиями, превращает ту самую провинцию в кладбище тех самых талантов! А ведь в этой жизни… В этой жизни можно утвердиться только одним: позитивным, сознательным действием. Но бездарь не способна на действие созидательное, только на разрушение! Потому что по сути своей есть чернь; ту энергию, что тратит она на зависть и интриги, кажется, хватило бы на создание живописных полотен, многотомных научных трудов, великих романов! Как бы не так! Энергию созидания питает лучистое солнечное тепло, дуновение ветра, рокот моря, жизнь; энергию разрушения – бездна. А вниз катиться куда легче и прибыльнее деньгами, чем взбираться в гору! Катиться камнем и – увлекать за собой окружающих.
Он помешивал янтарный напиток, снимал очки, характерным жестом тер переносицу:
– Так и кажется, что тебя обступают ватные стены… Наваливаются, делая пространство уґже и меньше, и вот уже ты загнан в тупик, и не видишь выхода, кроме как подчиниться, смириться, стать таким, как все…
Я только плечами пожимал: расхожие домыслы о таланте и посредственности меня волновали мало; афоризм Льва Николаевича Толстого: «Делай, что должно, и будь, что будет» – слишком долго вел меня по жизни. Ну а учение Льва Николаевича Гумилева довольно внятно разъяснило всем желающим: из рожна конфетку не сделаешь. Обывателя невозможно переделать в пассионария и наоборот: рожденного летать не заставишь ползать. Эти миры существовали всегда, ограничивая или уничтожая непохожих на себя; при господстве пассионариев фаланги, легионы, когорты, орды катились через Ойкумену, подчиняя себе все и уничтожая непокорных; при господстве обывателей пассионариев жгли и вешали, бросали во рвы и скармливали диким зверям… Миры текут, поколения сменяют друг друга, вино превращается в уксус, а уже пенится новое вино из насаженных виноградников, и бондари стучат молоточками, готовя для него пряно пахнущие бочки… Ибо, как сказано, не вливают молодого вина в мехи ветхие.
Петрович вздохнул, переводя дух:
– Самое грустное, Олег, знаете что? От нынешнего времени не останется ничего, кроме ощущения… Даже не смуты, а так, тягомотной и пустой маеты, маеты кровавой, но бесцельной. И потомки вспомнят лишь карикатурный образ нашего старого харизматика и гаранта с его знаменитым: «Дело в том, понимаешь, шта-а-а…» А скорее всего – и это забудут.
Раньше хоть литература оставляла для нас живую прошлую жизнь. Теперь… Да и что сетовать? Маетное время не рождает гениев, они никому не нужны. Чтобы появились великие литературные произведения, нужен широкий круг наследственно обеспеченных граждан, не зависящих от сиюминутного заработка и уверенных в своем положении; из них, из их среды могут выйти писатели, которые неспешно и значимо задумаются о проблемах души человеческой; из той же среды объявятся и читатели, способные эти проблемы понять и разделить. Такой вот грустный вывод: великую культуру может родить только праздность.
Ну, с этим утверждением я согласен не вполне: Шекспир творил во времена смутные и алчные, полные крови и лишений; впрочем, для тогдашней Англии самая горькая, междуусобная кровь уже осталась позади, но нужно было пролить ее еще немало, уже затем, чтобы покорить мир. Одно истинно: гением Шекспира признали двумя столетиями позже люди, сделавшиеся состоятельными и праздными подданными великой Британской империи.
Петрович помолчал, близоруко глядя вдаль:
– А впрочем… Я не жалею о своем времени. Жаль только, что молодость отошла так скоро и так бездарно… Прожить бы еще жизнь, но не так, – ярко, значимо… У нас так и не научились понимать Пушкина… А ведь основное в нем: «Береги честь смолоду». Береги свои мечты, свою верность, свое достоинство… Сам Александр Сергеевич следовал сему немудреному девизу неустанно, вот и остался жив для всех. Да и… В какое бы время мы ни жи-ли, утвердиться в нем, остаться можно только действием. Деянием. Нужно каждый день что-то подвигать и в этом мире, и в себе… Нужно каждый день совершать подвиг.
Буркун снова сник. Даже его эмоциональная шустрость куда-то подевалась, вздохнул, махнул обреченно рукой:
– А впрочем, и это бесполезно. Даже подвиги. Мы не сумели удержаться, нас уложили на обе лопатки и связали крепко-накрепко, как Гулливера. И не дадут подняться. Вы бывали в Покровске, Олег?
– Мельком, – ответил я и не то чтобы очень соврал: события катились так, что действительно были похожи на всполохи блица в кромешной тьме, когда успеваешь выхватывать только фигуры, постоянно меняющиеся выражения лиц, зыбкое расположение предметов, но не больше.
– Ничего не слышали про специализированный цех на «Точприборе»?
Я покачал головой.
– Вот. А я знавал главного инженера этого цеха.
– Разве в отдельном цехе бывает главный ниженер?
– Видите ли, Олег… Это только название, «цех», на самом деле это лаборатория, своего рода мини-завод, жутко засекреченный.
– То-то вы болтаете о нем малознакомому человеку, – хмыкнул я.
– А, бросьте! – махнул рукой Буркун. – Не в Китае живем! И наша дурацкая секретность советских времен… Помню, когда в год возвели завод «Ураган» и чохом за-строили для трудящихся оного микрорайон из сотни многоэтажек… И знаете, что официально выпускала эта громада? Пылесосы домохозяйкам под одноименным названием и плуги для дачников. Кому мозги тума-нили? Горожанам, у каждого из которых брат, сват или собутыльник на этом самом «Урагане» мастерил детали ракетных установок? Или штатовцам с их спутниковой телескопией? Просто «главных секретчиков», гордость организации, надо было на работу пристроить, только и всего! Да и опять же, в те времена болтун был находкой вовсе не для шпиона – в город строго-настрого был запрещен въезд любому иномену, даже насквозь демократическому; а вот для кагэбиста, пожалуй, что и подарок: за разоблаченного и проведенного по всей форме болтуна и звездочку на погон можно было схлопотать, ну а в худшем случае – хоть работу в отчете показать: если не сахар, так хлеб. А нынче всяческие гостайны лучше качать прямо из Совета Безопасности или из Администрации «самого», там хоть проверено, не лабуда…
Я уже было пожалел, что наступил Петровичу на больную мозоль, но он закруглил словоизвержение сам:
– Это я к чему? К тому, что всякая секретность у нас всегда существовала не от шпионов, а от своих, так же, как и госграница: чтобы людишки не разбежались!
Точно, таскали в свое время профессора в Большой Дом; может, он и не так в Покровске прозывается, не в этом суть…
– Да ладно, Петрович, пошутил я.
– Вот в том и беда, что… – начал было он, да видно, утерял нить мысли. Наморщил лоб, близоруко сощурился, забродил взглядом по столу, словно ища что-то… Я знаю, что он искал.
– Я выскочу на секундочку, – произнес профессор, даже слегка покраснев, – по нужде.
Ясное дело, покраснел он не по причине упоминания необходимости свершить естественную потребность – от стыда. Стыдно было Петровичу выпивать тайно и в одиночку, но поделиться привилегией он не мог, не пить – не мог тоже… Ну и шут с ним: должны же быть у него хоть какие-то моральные терзания на предмет горячительного, раз ни жены здесь, ни тещи, чтобы его посовестить… Для некоторых выпивка без моральных терзаний и не в сладость.
Буркун объявился скоро, дыхнул свежим перегаром.
– Так о чем мы беседовали? – спросил он, задорно блеснув толстыми линзами окуляров.
– О вечном.
– Нет-нет. Не сбивайте меня. Я помню. Я хотел рассказать вам про изобретение Кузнецова.
– Первый раз слышу.
– Ну того, из цеха, что на «Точприборе».
– А-а-а…
– Что «а-а-а»? Даже не изобретение – открытие! Или вы не верите?
– Почему же… – промямлил я.
– Потому же, – скорчил гримаску Петрович. – Все потому. Вечно вы считаете, что в вашей Москве гении сотнями родятся, а ведь, если разобраться, все гении только умирают в Москве, а родятся они в провинции!
Я только вздохнул: то, что в каждом расейском граде Уклюпинске живет свой Фарадей-самородок, известно давно. Вот только изобретали всю жизнь эти ньютоны-галилеи в основном велосипеды и прочую домашнюю утварь, давно освоенную промышленным производством забугорных стран. А наши упирались извилинами исключительно по причине отсутствия оной утвари в отечественных магазинах.
– Вы не согласны? – требовательно вопросил Петрович.
– Согласен.
– Так вот. Этот самый Кузнецов Сергей Степанович, вернее, завод-лаборатория под его руководством изобрели… – Петрович выдержал эффектную паузу, – новую систему кибернетической памяти. Это не счетно-вычислительные машины нового поколения, это принципиально новое направление в кибернетике, прорыв, революция, вы понимаете?!
– Смутно.
– Если честно, то и я не яснее, – вздохнул Буркун. – Но если верить рассказу покойного Сергея Степановича…
– Он умер?
– Если бы! Убили! Какие-то хулиганы в его же собственном подъезде! Забрали часы, денег тысяч сто пятьдесят старыми, да ножиком пырнули. Насмерть.
– Может, происки, раз он такой секретный…
– Вы не иронизируйте! В той Америке на него бы дышали, как на антикварную вазу, пылинки сдували! Да поселили бы в охраняемой вилле, да девок из «Плейбоя» прямо на дом привозили, лишь бы головой работал да изобретал свои штуки… А у нас… А… – Петрович махнул в сердцах рукой.
– И претворять разработку в жизнь тоже, я думаю, не собирались…
– Какой там! До того ли… А ведь Сергей Степанович сиднем не сидел: в Москве по старым связям во все сферы проник, дошел до президентской администрации, да там и укатался. Нет, проект оформили в какую-то особую президентскую программу, бумаг исписали тонну, наобещали, с тем и уехал. А как убили его, дело и вовсе заглохло. – Петрович скривил губы. – И ведь не спросишь ни у кого. У нас под завесой этой самой секретности можно любую технологию сгноить. Про людей я не говорю. Так что, совершай подвиг не совершай, а, как учит клятый детерминизм, если опередил свое время, труд твой никому не нужен, и изобретенный тобой паровоз так и сгниет где-нибудь на запасных путях, и Ползунов так и останется в истории чудаком-неудачником, и все будут помнить мастеровитого Эдисона и забудут Попова… Вот такие вот пироги. И всегда так было, а теперь и подавно. Не дадут России подняться. Добьют.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.