Текст книги "Императрицы (сборник)"
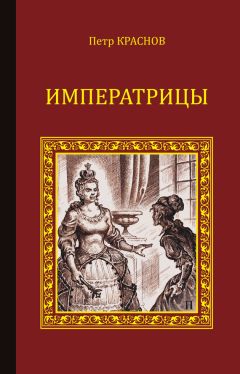
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 52 страниц)
Финч задержался после ужина, и цесаревна волновалась, боясь, что он встретится у нее с маркизом Шетарди.
Она чувствовала, как выспрашивал и выведывал английский посол, далеко ли зашел заговор. Он постоянно возвращался к разговору о Нолькене, ему хотелось вызнать, подписала ли цесаревна какое-нибудь обязательство перед Швецией. Маленькая пуговка его носа зарумянилась от хорошего, старого венгерского, серые, словно оловянные пуговицы, глаза подернулись слезою.
– Votre Altesse, – на грубом французском языке, как говорят англичане, говорил он, – смею вам советовать, не верьте Франции. Вы не можете себе представить, какая это жестокая, неумолимая и подлая в своей политике страна. Она вас не пощадит. Знаете ли вы?.. Я вам скажу под большим секретом то, чего и сам маркиз, как я думаю, не знает. Франция с вами ведет двойную игру. Недавно она устроила союз между Швецией и Турцией. Так же, как это было при вашем отце, – вас берут в тиски с двух сторон. Вашего отца нет. Его сподвижники умерли, другие состарились, и кто теперь будет защищать ваше отечество, если это не вы сами возьмете на себя все бремя правления и не сумеете соответствующими договорами парализовать игру Швеции и Франции? Как вы об этом думаете?.. Разве Россия не стоит маленького письма вашего высочества, и неужели вы такового не написали?..
Финч совсем сморщил свое лицо и стал удивительно похож на красное печеное яблочко. Он маленькими глазками умильно засматривал в глаза цесаревны. Та спокойно выдержала его испытующий взгляд и не проговорилась. Она беспечно и неотразимо засмеялась и сказала совсем равнодушно:
– Но зачем вы мне все сие говорите… Я так далека от большой политической кухни. Вы меня видели сегодня в конской школе… Вот моя сфера.
– Вас так любят солдаты.
Цесаревна улыбнулась не без гордости.
– Пустое. Солдаты послушны своему императору. Я молода… Господь балует меня любовью простых людей… Несчастен тот, кто поверит в любовь народа. Народ непостоянен, как самая ветреная красавица. Несчастна и та страна, которая станет управляться народом.
– Вот как! – кисло сказал Финч. – Разве можно угадать народные настроения? Сегодня у него на уме одно, завтра – другое. Он, как ветер, меняет свое направление, и нужен искусный кормчий, чтобы владеть ветрами.
– Да… может быть… Вы правы… Народ народу рознь… – Народы все одинаковы… Разнятся лишь правители. Притом народ жесток и деспотичен.
– Бывает…
Наконец Финч ушел. Было половина десятого. Цесаревна села играть в ломбер с камергером ее двора, Михаилом Илларионовичем Воронцовым, и Разумовским. Она рассеянно играла. Ее мысли бродили где-то далеко. То, что ей сказал Финч о союзе Швеции и Турции, ее поразило. Франция устраивала этот союз? Это казалось цесаревне ужасным предательством… «Но как может Франция поступать иначе, – думала она, – когда мы готовы любезничать с Фридрихом и одновременно ищем дружбы Австрии и Саксонии?.. Политическая кухня! Скучная и гадкая кухня, но если пустить стряпать в ней Остермана и Антона Ульриха, возомнившего себя с недавних пор тонким политиком, и точно, они вовлекут Россию в тяжелую войну… Не мой ли долг ныне приступить к каким-то действиям?.. К каким?» Она подряд сделала три грубые ошибки.
– Моя мамо, вы невозможны сегодня!
– Да что, Алексей Григорьевич… Ах, да… Ну что же, мы проиграли.
Воронцов выиграл «пулю». Начали снова сдавать карты, но скороход доложил, что пришел французский посланник.
– Проси в маленький кабинет, – сказала цесаревна и прошумела шелковыми юбками нарядной «самары» мимо своих партнеров. У зеркала в гостиной она поправила прическу, тронула нос пудрой и посадила мушку на подбородок. В кабинете, на большом мозаичном столе, где лежала папка с бумагами, сшив номеров «Санкт-Петербургских ведомостей», стояли фарфоровые безделушки, горели две восковые свечи под оранжевыми бумажными колпачками. Свечи освещали только стол. Темным силуэтом в сумраке кабинета вырисовывался стройный маркиз. Он поклонился и был «пожалован к руке».
– Что побудило вас, маркиз, искать свидания со мной?.. – сказала цесаревна, указывая Шетарди стул против себя. – Прошу вас садиться.
– Дела вашей Родины, которую я искренно полюбил и к которой серьезно привязался. Я получил известия, что Швеция готова к войне с Россией. Я пришел предупредить вас об этом.
– Сие очень прискорбно, маркиз… Но почему вы пришли сказать о сем мне. Есть канцлер и есть коллегия иностранных дел, есть правительница и, наконец, есть император.
– Которому, кстати сказать, и года еще не минуло.
– Совершенно верно… Но сие не мешает ему отдавать указы. И думается, что я вам очень мало могу посоветовать в сих печальных для моей Родины обстоятельствах.
– С вами народная любовь… И Швеция верит только вашему слову. Только с вами она готова договориться без всякого напрасного кровопролития.
– Не похоже на сие, маркиз… Швеция заключает союз с исконным врагом православия – Турцией… И оный союз готовите нам вы, французы…
Шетарди не сразу нашелся что ответить. Эта красивая женщина была умна и очень хорошо осведомлена. Шетарди догадался, через кого. Он густо покраснел и нерешительно сказал:
– Принцесса, надо быть справедливым. Швеции очень нелегко в настоящее время… Партия шляп…
Цесаревна перебила маркиза.
– Кстати, об этой партии шляп, – она взяла с угла стола большую оловянную табакерку, к крышке которой был припаян согнутый в виде шляпы шведский талер. – Мне прислали сию штучку… Гораздо в ходу ныне, говорят, в Стекольном сии символы… Расскажите мне, маркиз, вы должны хорошо все сие знать, когда, как и почему образовались колпаки и шляпы?.. По-французски это еще кое-как можно принять… Но по-русски!.. Колпаки!.. Да это просто сказать – дураки или мужья, которым изменяют их жены и которые неспособны к любви… А шляпа!.. Еще хуже!.. Это же – кислый, неловкий, робкий, никчемушный человек. Ныне сии «шляпы» грозят России… Только ли страшна сия угроза?.. Как же могли выйти такие смешные… такие неподобающие названия для почтенных политических партий?
– Ваше Высочество, конечно, знаете, что та война, которую почти двадцать лет вел ваш отец со Швецией, изнурила страну. Там появилась партия людей запуганных, стоящих за мир во что бы то ни стало, считающих войну неповторимым бедствием. Это те, кто живо помнит войну, кто сам ее на своей шкуре испытал… Но после Ништадтского мира прошло уже двадцать лет, и за это время выросло новое поколение, не знающее войны. Молодежь болезненно ощущает унижение Швеции… Ваше Высочество, мы разговариваем с вами на земле, которая так еще недавно была шведской землей. Прекрасную Неву и Финский залив не так просто утерять… Прибавьте к этому – Выборг. Год тому назад в Стокгольме был сейм. На этом сейме много говорилось об унижении Швеции, и молодежь воспламенилась…
– Я слышала, не без участия французских агентов.
Шетарди на этот раз выдержал атаку цесаревны. Он спокойно возразил:
– Возможно, что и так… Другого от политики нельзя и требовать. С некоторых пор Франция не уверена в политике русского кабинета; она принимает только меры предосторожности. Политика всегда эгоистична… После этого сейма в шведское правительство вошли горячие сторонники реванша. Отнять Выборг, выгнать русских из Петербурга – вот какие речи пошли в самом сейме. Вот чем живет шведская военная молодежь в настоящее время.
– Прекрасно… Вполне разделяю ее чувства. Сама на ее месте, вероятно, так же думала и о том же мечтала бы. Но все-таки при чем же тут колпаки и шляпы? Особенно мне нравятся сии… Шляпы!
– Сейчас расскажу. У графини де ля Гарди, – Ваше Высочество, наверно, слыхали про нее, – самый изящный политический салон Стокгольма… Большое общество… Настоящая ассамблея… И было много молодых офицеров, людей нового поколения, готовых идти на рожон. И среди них старые политики, осторожные коммерсанты, знающие, на себе испытавшие, что такое война. И вот один из этих-то умеренных людей стал доказывать преимущество мира, необходимость для Швеции примириться с ее положением и во что бы то ни стало избежать войны. Графиня де ля Гарди оборвала его и резко сказала: «Так рассуждать нельзя!.. Вы настоящие колпаки!..» Поднялся страшный шум. Офицеры повскакали с мест. Раздались крики: «Да!.. Да!.. Вы – колпаки, а мы – шляпы!..»
– Хорошего мало.
– Это разнеслось по городу. Сторонников мира стали называть «колпаками», а сторонников войны – «шляпами». У торговцев появились перстни с изображением шляп и табакерки, какую и вам прислали, надеясь на вас… Вся Швеция раскололась…
– На шляп и колпаков?
– Да, Ваше Высочество…
– И вы хотите, чтобы я была со шляпами?
– Совершенно верно, Ваше Высочество… Ценой маленьких уступок шляпы готовы посадить вас на всероссийский престол.
– При помощи шляп?.. Стать императрицей?.. Что-то не хочется, мой милый маркиз… Не забывайте – во мне течет кровь Петра Великого…
Цесаревна чувствовала, что за ней следят. Антон Ульрих подозревал ее во многом, даже в измене России.
21 июня на куртаге герцог Брауншвейгский сказал цесаревне:
– Шведы нас вызывают все более и более… У меня же пятьдесят полков по два батальона – и то не полных, двадцать девять драгунских полков по пять шквадронов. Лошади и оружие очень плохие… Три кирасирских полка, четыре полка гвардии и конногвардейский полк… Да сорок тысяч рекрут… Где-то еще казаки на походе… Вот и все.
Он кисло улыбнулся и щелкнул пальцами.
Зачем он ей это говорил? Какое ей, цесаревне, дело до государственных вопросов? Ее никуда не допускают, с ней ни о чем не разговаривают и не советуются. Но она все-таки расстроилась. Неужели из-за того, что у нее бывают Нолькен и Шетарди, ее подозревают в сношениях со шведами… Война возможна… Если Швеция чувствует, что она достаточно окрепла и оправилась после войны, то Россия-то оправилась гораздо больше и будет покрепче Швеции.
У цесаревны был, и опять поздно вечером, маркиз Шетарди и пугал ее войной.
– С кем вы пойдете воевать, – говорил он ей, стоя у того же стола, где теперь уже на видном месте красовалась табакерка со шляпой, и похлопывая перчаткой по своей холеной руке. – У вас никого нет. Фельдмаршал Трубецкой – старая баба… Фельдмаршал Миних?.. Хорош… Спору нет – очень хорош… Оч-чень… Это лучший офицер, кого имеет император, храбрый, опытный, научно образованный. Он президент военной коллегии… Он основал у вас школу на тысячу двести кадет – прекрасную школу… Выпущенные ею офицеры сделали бы честь и у нас по своим познаниям и дисциплине… Он начальник инженерного корпуса… Он любит и понимает военную славу… Но он не щадит солдат… В полках его терпеть не могут. Герцог Антон к нему благоволит, зато – Остерман!.. Терпеть его не может Остерман. Он скажет Линару, тот – Юлии… Правительница все более и более забирает вожжи… «Эхи» носятся – в декабре она будет короноваться короной российской… Ваше Высочество, сами того не желая, вы своим бездействием губите Россию…
Цесаревна чувствовала, что игра захватывает ее. Она уже не могла не отвечать на вопросы, не задавать их сама.
– Ласси, – сказала она. – У нас есть еще Ласси.
– Ласси?.. Ласси?.. Он не умен, ваш Ласси, но спокойный и храбрый солдат. Он ничего не делает на авось и бережет солдат. Его любят в армии. Но ему достаточно его былой славы, и он больше всего хочет остаток дней своих провести среди своего семейства. Правительница благоволит к нему. Он скромный и исполнительный человек. Да ведь он, – воскликнул Шетарди, – французской школы. Вы не знали?.. Семь лет он служил у нас в Бервикском полку. Неважно, правда, служил… Так и не мог дослужиться до лейтенанта. Был в Германии… Потом у вас… Герцог Крои дал ему роту… Хороший солдат…
– Генерал Левашов?..
– Что вы, Ваше Высочество!.. Он же – русский!..
– Что из того?
– Он лишен возможности командовать армией… Вы сами изволите видеть, Ваше Высочество, пока вы сами не станете во главе государства, не будет счастия России.
– Что же, думаете вы, для сего надо исполнить?..
– Надо согласиться на шведские предложения. Шведы возьмут Петербург и посадят Ваше Высочество на престол.
Кровь бросилась в лицо цесаревне. Она вскочила с кресла и резко сказала:
– Я не хочу заслужить упреки своего народа!.. Что скажут мои солдаты, если я их принесу в жертву правам, предъявляемым мною на престол?..
– Ваше Высочество, еще так недавно вы говорили с английским послом о народе… Ваш приговор был несколько иной.
– Я говорила о власти народа, о повиновении прихотям народа, но не о долге правителей пещись о благе народном!.. Оставьте меня, маркиз!.. Вы сами не понимаете, как опасна игра, в которую вы меня завлекаете… Я прошу вас… прекратите ваши посещения… По крайней мере на время. – Чтобы смягчить резкость своих слов, цесаревна проводила маркиза до дверей прихожей.
С этого дня она стала избегать маркиза, и, когда встречала его в Летнем саду или на набережной, она переходила на другую сторону. Лето шло. Швеция начала войну с Россией. 23 августа 1741 года фельдмаршал Ласси разгромил шведскую армию, взял в плен генерала Врангеля, много полковников и офицеров. Более четырех тысяч шведских тел осталось на поле брани. Русские войска победоносно вошли в город Вильманстранд. Едва громы Вильманстрандской баталии долетели до Петербурга и отразились салютационной пальбой с верков Петербургской крепости – поздно ночью к цесаревне в ее Смольный дом без приглашения явился маркиз Шетарди.
Цесаревна сидела одна в маленьком салоне подле бюро. Две свечи горели перед ней и освещали большой лист шероховатой, плотной голубой бумаги, на котором каллиграфическим почерком была написана только что сочиненная Ломоносовым ода на первые трофеи императора Иоанна III.
Цесаревна прочла латинский эпиграф.
Звук латинских слов пробуждал в цесаревне героические гордые мысли. «Да здравствуют сильные!.. Маркиз, пожалуй, кстати… втянул шведов в войну… На!.. Получай!..»
Она опустила глаза к бумаге. Длинные ресницы прикрыли их блеск. Она перечитывала звучные стихи, заучивая их наизусть.
Российских войск хвала растет,
Сердца продерзки страх трясет,
Младой орел уж льва терзает,
Преж нежель ждали, слышим вдруг
Победы знак, палящий звук.
Россия вновь трофей вздымает
В другой на финских раз полях.
Свой яд премерзку зависть травит,
В неволе тая, храбрость славит,
В российских зрила что полках…
«Какой, однако, молодец Михайла Васильевич… Ай да архангельский мужик!..»
Цесаревна давно не видала маркиза Шетарди и не хотела его принимать… Но сейчас?.. Очень кстати… Оч-чень!.. «Сердца продерзки страх трясет…» С чем-то к ней придет посланник ее короля?
Цесаревна приказала камер-лакею пригласить Шетарди в маленький салон.
– Маркиз, – сказала она, протягивая Шетарди руку, – вы не думаете о том, что вы сими ночными посещениями меня компрометируете?..
– Ваше Высочество, мне еще вчера мой коллега Финч передавал, что герцог Антон ему сказал: «Я знаю, что французский посланник часто ездит по ночам к принцессе Елизавете, но так как ничто не показывает, что они занимаются любезностями, надо думать, что у них дело идет о политике». За вашим Высочеством установлен слишком хороший надзор.
Цесаревна задумалась. Что было лучше, что хуже, она, по правде сказать, не знала. Прослыть легкомысленной особой, «любезной» маркиза де ля Шетарди, чьей благосклонности добивается столько дам петербургского общества, – ей?.. Ее имя уже трепали с Шубиным, и теперь ее любовь к Разумовскому у всех на устах… На чужой роток не накинешь платок… В конце концов это в нравах петербургского света и двора… Бирон… Линар… пускай думают, что у нее Шетарди. Выбор не плохой. Самый красивый, изящный и тонный кавалер петербургского общества… Посланник короля французского… Пусть лучше это о ней воображают… За любовные утехи не казнят, не стегают плетьми на дыбе, не ссылают в далекие холодные края, где стоит вечная ночь… Тогда как политика?..
– Маркиз, вы не думаете, однако, что вы играете и моей и вашей головами…
– О, Ваше Высочество… Я посол Франции…
– Вы – да… Но я?..
– Ваше Высочество, я ворвался к вам с хорошими вестями. Фельдмаршал шведский Левенгаупт готовит войско, чтобы идти на Петербург, выгнать немцев и посадить вас на престол.
– Не забывайте, маркиз, что против фельдмаршала Левенгаупта стоит фельдмаршал русский Ласси, и наш милый поэт и ученый Ломоносов уже сказал про его дела:
Российских войск хвала растет,
Сердца продерзки страх трясет,
Младой орел уж льва терзает…
Цесаревна произнесла стихи по-русски с силой и уменьем декламировать. Она сейчас же и перевела их по-французски.
– Младой орел, маркиз, – сие есть наш благоверный государь Иоанн Антонович, а лев? Вы, конечно, смекаете, что сие есть?.. Шведский герб имеет льва в себе.
– Ваше Высочество…
– Оставим о сем разговоры, милый маркиз… Через три дня первое сентября, – охотничий праздник. Я не премину справлять его в Петергофе. Милости просим ко мне, как говорит мой Михаил Илларионович – «себя, лошадей, зайцев, людей и собак беспокоить». Сие беспокойство по крайней мере, кроме зайцев, никому существенного вреда не приносит. До свидания. Покойной ночи, маркиз.
На этот раз цесаревна не провожала маркиза. Ей были страшны его посещения, и она, отбыв 30 августа праздник Александра Невского и проследовав с правительницей и двором на барже в монастырь, отстояв там обедню и молебен и откушав в монастырских покоях, в тот же день вечером уехала в Петергоф, чтобы «беспокоить себя, лошадей, зайцев, людей и собак»…
Подальше от политики, от Нолькена и от маркиза де ля Шетарди.
XVIIIНо мысль о том, что она должна стать на защиту России от немцев и шведов, что ей, а не жалкой и глупой Анне Леопольдовне следует править громадной империей, ее не покидала. В длинные осенние вечера, то вдвоем с Разумовским, слушая звон струн бандуры и его мягкий голос, то в шумном обществе приглашенных охотников, – она задумывалась. Не настало ли время, когда и ей, как ее отцу, надо «слабость свою преодолеть рассуждением» и показать «удивительное мужество»?.. Не приближается ли к ней ее Полтава?..
В ноябре она вернулась в Петербург. Она не хотела больше принимать маркиза Шетарди и вести с ним волнующие беседы о том, что она должна сделать для блага России, но отказать ему не могла. Он являлся без зова. Он караулил у ее подъезда, когда она ночью возвращалась из Зимнего дворца, и появлялся перед ней в шубе и черном плаще, как подлинный заговорщик, и, как влюбленный, умолял ее об одной минуте свидания. Она не умела его прогнать.
Рок увлекал ее, как увлекает страстного игрока азарт игры. Через Лестока она передавала Шетарди, что слышала и видела при дворе, она вовлекалась в тонкую и хитрую политическую игру, где уже нельзя было определить, где были интересы Франции и где интересы России. И ей становилось страшно.
22 ноября при дворе был куртаг. Цесаревна после долгого отсутствия появилась официально во дворце. Приглашенных было немного. Правительница не любила многолюдства, шума и танцев. По залам были зажжены люстры, кинкеты и бра и поставлены столы для карточной игры. Анне Леопольдовне нездоровилось. Она была не в духе. Она явилась на куртаг в небрежной прическе, с головой, повязанной белым платком, ее юбка была без китового уса, и фижмы висели на ее бедрах складками, как лепестки поблекшей розы. Ей приготовили для игры отдельный стол, за который сели ее муж Антон Ульрих, министр Венского двора маркиз Ботта, Финч и брат фельдмаршала Миниха. Анна Леопольдовна взяла было карту, но сейчас же бросила ее и сказала:
– Нет… Я не буду играть… Не в авантаже я…
Она пошла бродить по залам. В угловой гостиной цесаревна играла в ломбер. Правительница подошла к ней. Надо было разрешить то, что давно ее тяготило.
– Мне надо поговорить с вами, Ваше Высочество, – сказала она, касаясь плеча цесаревны.
– Я слушаю, Ваше Величество, – сказала цесаревна, кладя карты на стол. – Камрады, прошу простить. Михайла Илларионович, продолжай за меня.
Она встала из-за стола. Правительница обняла цесаревну за талию и повлекла ее по залам дворца. Они прошли ряд комнат, где стояли карточные столы и где были играющие, камер-лакеи и скороходы, и наконец дошли до маленького салона подле спальни ребенка-императора. Здесь никого не было. Как и во всем дворце, здесь по-праздничному горели люстры и кинкеты, и яркий их свет в пустой комнате показался цесаревне ненужным, скучным, тоскливым и холодным, точно предвещающим ей несчастье.
– Садись, – кротко сказала правительница и сама села на небольшой диван.
Цесаревна опустилась рядом с ней. Правительница летом разрешилась от бремени дочерью. Ее плохо подкрашенное лицо было устало. Щеки пожелтели и отвисли, глаза были тусклые. Цесаревна, проведшая всю осень в Петергофе и в отъезжем поле, дышала силой и здоровьем. Загорелая на морозных ветрах, она была румяна без румян. Ее синие глаза смело и открыто смотрели на Анну Леопольдовну.
«Какая ты гадкая, неопрятная и несчастная, – казалось, думала цесаревна. – И ты – императрица!.. Императрица!.. С твоим дурным французским языком, с твоею растерянностью… Господи, да что же сие такое?.. Какая насмешка над Россией!..»
– Что это, матушка, слышала я, будто Ваше Высочество имеете корреспонденцию с армией неприятельской и будто вашего высочества доктор ездит к французскому посланнику и с ним вымышленные факции в той же силе делает, – с пылающим гневом лицом ворчливо сказала Анна Леопольдовна.
– Я с неприятелем отечества моего никаких аллианцев и корреспонденции не имею, – с негодованием отвечала цесаревна, – а когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его спрошу, и как он мне донесет, то я вам объявлю.
– Ваше Высочество имеете случаи слишком часто принимать у себя французского посланника. Сие есть человек, преисполненный низости. Вы изволите знать, что Франция вовлекла нас в войну со Швецией. Я намерение имею посланника французского просить отозвать. Нам он не ко двору пришелся. Я бы давно сие намерение исполнила, да опасение имею, что герцог Ришелье потребует сатисфакции. Что мне тогда ответить? Он ходит к вашему высочеству… Разные о сем «эхи» по городу ходят… Говорят о заговоре…
– Ваше Величество… смею уверить вас, что никакого заговора нет…
– Я вам верю… Но извольте, матушка, сего гадкого и низкого человека не принимать больше.
– Ваше Величество, я уж не раз просила маркиза оставить меня в покое… Я не могу не пустить его, не нарушая приличий. Вчера он пришел ко мне как раз в ту минуту, когда я, выйдя из саней, входила к себе. Не могла же я сказать, что меня дома нет?
– Ваше Высочество, извольте прекратить принимать у себя французского посланника! – упрямо повторила правительница.
– Ваше Величество… Вам сие сделать гораздо проще и легче. Вы правительница и повелительница, прикажите графу Остерману сказать посланнику, чтобы он не ездил ко мне в дом.
– Ваше Высочество, нельзя раздражать таких людей, как французский посланник. Он станет жаловаться… Наше положение не допускает сего…
– Ваше Величество, – с плохо сдерживаемым гневом сказала цесаревна, – если граф Остерман, председатель иностранной коллегии, того не смеет сделать, то как же я-то сие выполнить смогу?.. Ваше Величество, кто я?
– Ваше Высочество, – повысила голос Анна Леопольдовна, – я вам совершенно серьезно сказываю… Ваши интриги…
– Какие интриги, Ваше Величество?
– Политические сношения и переговоры вашего доктора Лестока до добра вас не доведут… Я буду принуждена принять меры…
– Ваше Величество, пусть скажут посланнику, чтобы он не смел являться ко мне. Пусть арестуют Лестока и поступят с ним, как он того заслуживает, если он виноват. Но я?.. Но меня, Ваше Величество, оставьте в покое!.. Оставьте меня жить, как я жила и раньше!.. Более сего я ничего не желаю.
В волнении, страхе и возмущении цесаревна расплакалась и упала на колени перед Анной Леопольдовной, прижимаясь глазами к ее рукам. Правительница нагнулась к ней и старалась поднять цесаревну с пола. Сквозь слезы она говорила:
– Боже!.. Боже!.. Какие мы обе несчастные, что не можем жить, как две сестры, в мире и счастии?.. Любить друг друга, как сестры?..
Цесаревна встала с колен. Анна Леопольдовна обняла ее и сказала:
– Возьмите платок, Ваше Высочество, осушите слезы. Какие прекрасные у вас глаза. Сколько красоты и молодости в вас… Посмотрите на меня, куда пропали моя молодость и моя красота?.. Пожалейте меня…
Цесаревна у зеркала поправляла свой туалет. Она видела в зеркальном стекле, позади себя некрасивую, неизящную Анну Леопольдовну с заплаканными глазами. Чувство жалости боролось в ней с невольным чувством презрения. Она дождалась, когда правительница привела себя в порядок, и вышла за ней продолжать прерванную игру.
В одиннадцать часов вечера, как только правительница «ретировалась во внутренние покои», цесаревна уехала домой. Остаток ночи она провела без сна. Ей вдруг все стало ясно: заговор, созданный вокруг нее, раскрыт. Она невольно, сама того не желая, выдала Лестока. Если добрая герцогиня Брауншвейгская ограничилась слезами – Антон Ульрих и граф Остерман этого так не оставят. Настала пора или немедленно действовать, или уехать куда-нибудь очень далеко, может быть, даже поступить в монастырь, бросив всех на произвол судьбы.
На другой день она узнала, что гвардейским полкам назначен поход в Финляндию и что в полках идет брожение. Цесаревна пригласила к себе к одиннадцати часам вечера генерала Ивана Шувалова, Лестока, Разумовского, Воронцова и адъютанта Преображенского полка Грюнштейна. Перед тем как выйти к собравшимся, она долго и горячо молилась в своей спальне перед отцовскими иконами. С торжественным лицом и строго поджатыми губами она прошла в салон, где ее дожидались приглашенные. Все встали из-за стола, за которым они сидели, разглядывая какие-то карты. Цесаревна приветствовала их кивком головы.
– Я пригласила вас, камрады, – сказала она, – на «малейший консилиум». Вам ведомо, что творится ныне в Петербурге… Война со Швецией затягивается… Гвардию посылают на сию войну… Меня… Вас… обвиняют в сношениях со шведами…
– Государственная измена, Ваше Высочество, – чуть слышно сказал Лесток.
– Что ты сказал, Лесток?.. Ты сказал нечто ужасное, о чем ни я, ни вы никогда не помышляли.
– Ваше Высочество, воззрите на сии картины жизни вашей, мною в ожидании прибытия вашего начертанные… Воззрите милостивым оком. Вы узрите весь наш ответ на консилиуме… Иного не придумаем.
Цесаревна взяла от Лестока карты. На одной была изображена сама цесаревна в монастыре. Она стояла подле алтаря с распущенными волосами, и священник большими ножницами обрезал ей косы. В верхнем углу картины был нарисован Лесток со связанными руками на эшафоте. Палач занес над ним топор.
– Ужасно, – содрогаясь, сказала цесаревна.
На другой карте с искусством была сделана сцена коронации цесаревны. В короне и порфире цесаревна поднималась к алтарю, кругом были народные толпы. Люди с обнаженными головами, видимо, кричали и махали шапками. Цесаревна тяжело вздохнула.
– Все сие надлежит тонким умом рассудить, – медленно и негромко сказала она. – Как ужасно и трепетно со обеих сторон сие. Понеже и там гауптвахта не мала, в чем я опасна. Не были бы римские гистории обновлены…
– Милостивая государыня, подлинно сие дело имеет не малой отважности, которой не сыскать ни в ком, кроме крови Петра Великого, – сказал Воронцов.
Цесаревна кивнула головой и посмотрела на Разумовского. Тот сказал:
– А що, Ваше Высочество… Сия вещь не требует закоснения, но благополучнейшего действия намерением… – Разумовский тяжко вздохнул. – Никто своей доли не шукае, бо ежели продолжится до самого злополучного времени, – он ткнул на картинку, изображавшую постриг цесаревны, – то чувствует дух мой великое смятение не токмо в России, но и во многих государствах по той претензии, отчего сынове российские могут прийти в крайнее разорение и потеряние отечества своего…
– Подлинно так, – тихо сказала цесаревна, и слезы полились из ее прекрасных глаз. – Я не столько себя сожалею, как вас, бедных советников моих, и всех подданных…
– Мамо моя!.. Ты нам повели, а мы все сробим, як нам указувать будешь.
Разумовский поднес платок к глазам. Лесток разрыдался.
– Ваше Высочество, – сквозь рыдания говорил он. – Не могу я… кнут… Я все скажу… скажу под кнутом.
– Нужны деньги, – тихо сказал Воронцов. – Их нет.
– Погоди, Михаил Илларионович, я отдам все мои драгоценности. Заложи их завтра утром, чтобы было чем наградить достойных…
Цесаревна поясным поклоном поклонилась гостям.
– Всех вас полезные мне советы принимаю радостно и не уничтожаю. Когда Бог соизволит на сие, а я по всех тех с радостью последую.
Она еще раз поклонилась и с поднятой головой вышла из кабинета. «Консилиум» был кончен. Это уже был самый настоящий заговор, и цесаревна поняла это и почувствовала. Ее час настал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































