Текст книги "Императрицы (сборник)"
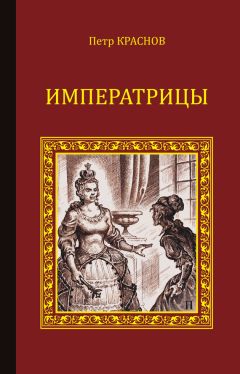
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 52 страниц)
После этих сказочных, колдовских, как девичьи сны, дней приезда для Софии настали скучные будни. Она снова обратилась в прилежную ученицу, взялась за перья, брульоны, тетради, учебники и книги.
Раннее утро. В окна учебной комнаты Софии глядится Москва под снегом. Сады окутаны серебряной дымкой инея. Все бело кругом, и утреннее небо совсем белое. В открытую форточку клубами врывается морозный воздух.
Медная дверка у жарко растопленной кафельной печи звенит и гудит. София подходит к окну и закрывает форточку. Как холодно на улице!.. Она ежится под накинутою на плечи дорогою персидскою шалью и садится за стол.
Первый утренний урок русского языка – Ададурова.
Русский алфавит София, знавшая при своем немецком еще и латинский, осилила легко, но как было трудно учиться складам и ударениям слов. Как казалось дико, что – есть, како, аз, твердо, есть, рцы, иже, ныне, аз, такое длинное и нелепое слово означало – Екатерина!..
София училась прилежно и требовала от русской прислуги, чтобы та говорила с ней по-русски.
Ададурова сменял архимандрит Симон Тодорский.
Во всем радостном, волнующем вихре путешествия и ожидания своего нового положения было одно темное пятно – необходимость, в случае, если то, для чего они ехали, осуществится, – принять православие. Мать, принцесса Иоганна, смотрела на это спокойно. С эгоизмом матери, нашедшей выгодного жениха для дочери, она рассуждала просто: что нужно, то – нужно. В общем, она мало видела разницы между религиями. «Не в этом счастье», – думала она. Но София знала, как болезненно принимал этот вопрос ее отец. Когда он прощался с Софией, он заклинал ее хранить свято заветы лютеранской веры и написал ей по-немецки длинное наставление о том, как должна вести себя София, если ей все-таки придется принять православие.
Из Штеттина, Брауншвейга и Берлина – от лютеранских пасторов, каноников и епископов – София вынесла некоторое пренебрежение к православию. Православные священники казались ей необразованными и грубыми, и самая вера – темной и дикой. Она с трепетом ожидала первого урока Закона Божия. На каком языке ей будут преподавать его?.. Как объяснят ей все тонкости обряда, всю запутанную сложность православного богослужения?..
Когда в классную комнату вошел монах в длинной черной рясе с золотым крестом на груди, София смотрела на него со страхом. Она поклонилась и жестом предложила сесть.
На чистом немецком языке, какому позавидовал бы сам пастор Рэллиг, на каком говорят профессора и академики, спокойно и просто монах начал объяснять Софии смысл, силу и преемственность от апостолов православной веры. Первый урок прошел незаметно в простой и тихой беседе. Монах показал глубокое знание самой философии лютеранства. Когда урок был окончен, София робко спросила монаха, где изучал ее учитель немецкий язык и лютеранскую веру?..
– По окончании Московской духовной академии, – с приятной скромностью ответил Тодорский, – я, не принимая еще пострижения, отправился за границу и в городе Галле четыре года слушал лекции в университете. В эти годы у знаменитого математика Христиана Вольфа, – быть может, и ваша светлость о нем слыхали, – я научился историко-критическому взгляду на богословие.
Эти уроки стали для Софии истинным наслаждением. Симеон Тодорский «прилежал к лютеранскому исповеданию», он умело доказал, что в православии нет той ереси, которой так боялся отец Софии. Вера в Бога и его три ипостаси та же самая, и разница только в обрядах.
С чувством большого облегчения София написала обо всем этом отцу.
Постепенно, быть может, несколько холодно, разумом больше, чем сердцем, София приобщалась к православию.
В эти первые месяцы своего пребывания в Москве София опасно заболела. Длинные тяжелые дни и ночи кошмаров, бреда сменялись проблесками сознания, когда София лежала, оборотясь лицом к стене, и с трогательным вниманием, сама не зная чему, умилялась, рассматривая обои своей спальни. В эти дни мысль работала особенно утонченно. София вскрывала то, чего раньше не понимала. Она с радостным чувством успокоения убеждалась в том, как сильно полюбила ее тетя, не отходившая от ее постели, ее до горькой обиды огорчало отношение к ней матери, и постепенно точно прозревала она, угадывая, что для всех этих людей, которые окружали ее в эти дни, она была не просто больная, страдающая девочка, но объект сложной политической игры. Из намеков придворных, из озлобленных слов матери София узнала, что в дни опасности для жизни были люди, которые ждали ее смерти с радостным удовлетворением, что Бестужев в эти дни готовил Петру Федоровичу в невесты саксонскую принцессу Марию-Анну. Она узнавала в эти дни, что она – девочка София – это только имя, что за нею борются две партии: англо-саксонская – Бестужева и франко-прусская – Мардефельдта, Лестока и Брюммера. Жизнь показывала свое новое лицо, и на нем была отвратительная гримаса политики. Она понимала в эти дни, как хрупка и ее жизнь, и ее счастье, для которого она приехала в Россию.
В эти дни выздоровления тихие беседы, откровенные признания Тодорскому стали для Софии истинной отрадой.
С совершенно особым чувством София, полулежа в кресле у открытого в сад окна, прислушивалась к звону множества колоколов Москвы, и, когда вдруг по залам Головинского дворца раздалось ликующее пение «Христос Воскресе» и крестный ход прошел по залам дворца мимо комнаты Софии, точно новое, никогда еще ею не испытанное чувство охватило ее. В эти часы она поняла, что в православии есть нечто светлое, примиренное, такое, где самая смерть побеждена, чего нет ни в какой другой религии.
В ней начался душевный перелом, но окончательно завершился он лишь летом, когда она с Елизаветой Петровной совершила паломничество в Троице-Сергиеву лавру.
XГосударыня Елизавета Петровна при вступлении на престол дала обет – всякий раз, как она будет в Москве, пешком посещать Троице-Сергиеву обитель.
Первого июня, прохладным, светлым вечером, императрица в сопровождении Великого князя и небольшой свиты «выступила в поход». София из-за болезни оставалась в Москве – ее должны были на лошадях доставить к окончанию похода.
Каждый день от императрицы приезжали конные гонцы, и София знала все подробности шествия.
Второго июня государыня ночевала в Больших Мытищах, где были поставлены для этого шатры. Третьего июня государыня обедала в селе Брестовщине и ночью вернулась лошадьми в Москву, в Анненгофский дворец, где ночевала. Рано утром, четвертого, государыня поехала в экипаже на то самое место, до которого она дошла пешком накануне и продолжала путь до Кащева, где ночевала в шатрах. Через Рахманово, Воздвиженское, Рязанцево государыня дошла до Клементьевой слободы и отсюда прислала офицера лейб-гвардии с приглашением принцессам Цербстским прибыть в экипаже в Клементьевское.
Принцесса Иоганна без большой охоты – ей было жаль расстаться с карточным столом и политическими сплетнями и пересудами, – София в восторженном, приподнятом настроении на рассвете выехали из Москвы. В Клементьевской слободе им была приготовлена изба, где они должны были переодеться и завтракать.
Прекрасный, тихий, июньский вечер незаметно надвигался. Скороход пришел пригласить принцесс занять место в шествии, которое должно было сейчас начаться.
Широкая дорога-аллея между четырьмя рядами старых громадных берез была заполнена празднично одетым народом. Конные драгуны прочищали путь через толпу.
– Пади!.. Пади!.. Посторонись! – раздавалось впереди. Передние раздвигались, но сейчас же толпа смыкалась и вплотную подступала к медленно шедшей, опиравшейся на посох государыне. Женщины подносили ей маленьких детей, старухи-нищие протягивали костлявые черные руки. Государыня брала деньги из мешка, который несли за нею, и наделяла убогих. Мужики становились на колени и кланялись в землю. Вдруг вспыхнет многоголосое, «ура», прогремит весенним громом, понесется по полям и стихнет так же неожиданно, как и началось. И снова слышен плач и крики детей и бормотание множества голосов.
– Матушка царица, дай ребенку поглядеть в твои глазоньки.
– Матушка осударыня, не оставь милостынькой Христа ради убогонькой.
– Пожертвуй, матушка, на построение храма прогоревшего.
Вдруг заглушат это бормотание грозные крики впереди шествия:
– Пади!.. Пади!.. Посторонись, православные!..
София шла за государыней. Она была потрясена до глубины души. Она видела то, чего никогда и нигде еще не видела, она чувствовала прикосновение народа, она душевно сливалась с ним и начинала смутно понимать страшную силу народных масс.
Впереди были невысокие холмы, и на них белые каменные зубчатые стены и множество золотых куполов.
Драгуны отогнали народ. Перед лаврой стояли войска. Богато одетые лейб-кампанцы взяли «на караул», дробно ударили барабаны, трубы затрубили, и в ответ им заколыхались на небе, понеслись в бесконечность плавные торжественные перезвоны колоколов.
В высоких монастырских воротах черным полукругом стояли монахи. Они держали в руках зажженные свечи, и так был тих вечер, что пламя свечей не колыхалось. С «Красной горы» бабахнули пушки, и белый пороховой дым поплыл, расстилаясь над полями. Громкое «ура» ответило пушечному грому.
В лиловой, расшитой золотом длинной мантии, высокий, тощий архимандрит Арсений Могилянский с крестом в руке вышел из сонма монахов и подошел к государыне. Та преклонила колени, поцеловала крест и руку благословлявшего ее монаха. Могилянский стал говорить короткую «предику». Когда он кончил, монахи повернули к воротам, стройно и торжественно запели и медленно стали входить в ограду. За ними пошла императрица и богомольцы.
В соборе чинно и строго, монастырским уставом, служили всенощную. Когда пели «Хвалите», голоса монахов трепетали в ликующих переливах, отражались от пола и радостно звучало единственно понятое Софией – «алли-луиа, аллилуиа, аллилуиа…»
Все уроки Тодорского в эти долгие часы всенощной точно принимали ясность и твердость, и София чувствовала, как лютеранство отпадало от нее и в душу ее торжественно и медленно входило это радостное и светлое православие с его ликующим «аллилуиа»…
Угрызения совести из-за перемены веры отцов уходили от Софии и сменялись радостью приобщиться к этой новой вере, вере ее будущего народа.
Вернувшись в Москву, София сказала Симону Тодорскому, что она совершенно готова восприять православие.
XIВ Москве София постилась и проводила время в своих покоях в беседах с Тодорским. На двадцать восьмое июня было назначено торжественное «принятие исповедания православного греческого закона», на двадцать девятое на день Петра и Павла, – обручение.
Ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое София, утомленная молитвами и постом, спала как убитая. Душа ее отдыхала от пережитых волнений и готовилась к новым, еще большим.
В среду, двадцать восьмого июня, к десяти часам в дворцовую церковь собрался в полном составе святейший Синод, в зале подле церкви поместились менаторы, первые чины двора, сановники и генералы. Офицеры лейб-кампании несли дежурство. Государыня проследовала в церковь раньше Софии. Она была в тяжелой, с громадными фижмами, усеянной многочисленными драгоценными камнями «робе». Когда она заняла свое место, Софии было предложено следовать в церковь.
Одна, очаровательная в смущении, юная и прелестная, она с опущенными глазами проходила через толпы сановников и подошла к ожидавшему ее на амвоне в полном облачении Новгородскому архиепископу Амвросию Юшкевичу.
Опираясь на посох, внимательно и остро глядя ободряющими глазами на Софию, Юшкевич сказал не громким, но четко слышным в наступившей тишине голосом:
– Да благословит тебя, чадо Екатерина, Господь Бог…
Архиепископ сказал короткое слово. София слушала с полным благоговением и ожидала того страшного, как ей казалось, момента, когда ей перед Богом и церковью, перед тетей и всем народом, ее окружавшим, придется громко исповедовать веру. Она чувствовала, как с каждым словом Юшкевича какие-то силы вливались в ее душу. Она приподняла глаза. От Царских врат Спаситель смотрел на нее с образа, и впервые она почувствовала силу иконы. Она посмотрела на образ, еще и еще, и вдруг ощутила, что настало время ей говорить. Неожиданно для самой себя громко, смело и уверенно она произнесла:
– Верую…
Как сквозь какую-то пленку, сосредоточенная в том, что ей надо сказать, София слышала, как с облегчением вздохнула государыня и как, чуть шелестя платьями и шаркая ногами, придвинулись ближе к ней придворные.
Страх прошел. Ясно, твердо, без малейшей запинки, без всякого акцента она продолжала:
– Во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым…
Ее голос звенел в тишине небольшой дворцовой церкви.
– И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки…
Дух Святый помогал ей. Как трудно давалось ей это – «сславима»!.. Ни разу не могла она произнести его правильно, сейчас произнесла не споткнувшись.
На все вопросы архиепископа она отвечала твердо и уверенно. Она помнила уроки детства и не боялась «развалить челюсти», к каждому ответу добавляла «владыко».
– Да, владыко!..
– Да… Нет, владыко!..
Когда София окончила и отошла в сторону, государыня горячо обняла ее и всхлипнула, оросив горячими слезами лицо Софии. Разумовский подле государыни вытирал глаза платком. Какой-то старый генерал качал головою и плакал…
Началась литургия. Диакон рокочущим басом, поднимая руку с орарем, возглашал:
– И о благоверной Великой княжне Екатерине Алексеевне Господу помолимся.
София истово крестилась. Она еще не понимала, не сознавала, что это и есть она, София, отныне княжна Екатерина Алексеевна… Завтра нареченная невеста Великого князя Петра Федоровича, которого поминали сейчас же после государыни.
И точно лаврские колокола звенели в ее сердце, точно трепетало под куполами трепещущее переливами «алли-луиа», что поразило ее в монастырском соборе, точно отдавался грохот пушечной пальбы и точно слышала она народные клики. Она стояла теперь с высоко поднятой головой, сосредоточенная, внимательная, не все еще понимающая, но чувствующая всю важность и красоту службы.
Все ею любовались…
В «Санкт-Петербургских ведомостях» так описывали ее в эти часы: «…невозможно описать, коликое с благочинием соединенное усердие сия достойнейшая принцесса при помянутом торжественном действии оказывала, так что Ее Императорское Величество сама и большая часть бывших при этом знатных особ от радости не могли слез удержать…»
XIIЖизнь перевернула страницу. Уроки Симона Тодорского и Ададурова продолжались по утрам, но приняли иной характер. Учителя стали как бы помощниками и советниками российской Великой княжны.
Пятнадцатого июля, в день празднования мира со Швецией, после церковной службы, Бестужев-Рюмин пригласил Великую княжну в большой дворцовый зал. Там их ожидали несколько молодых людей и барышень в парадных кафтанах и богатых, нарядных «робах». Они встретили Екатерину Алексеевну низкими поклонами и глубокими реверансами.
– Ее Императорскому Величеству, – торжественно сказал Бестужев, подводя Екатерину Алексеевну к придворным, – благоугодно было назначить состоять при Вашем Императорском Высочестве – камергеру Нарышкину.
Нарышкин низко поклонился Великой княжне и поцеловал ее руку.
– Графу Андрею Симоновичу Гендрикову… Графу Ефимовскому… Камер-юнкеру графу Захару Чернышеву, камер-юнкеру графу Петру Бестужеву-Рюмину, камер-юнкеру князю Александру Голицыну…
Бестужев повернулся к дамам:
– Гофмейстериной при Вашем Императорском Высочестве повелено быть графине Румянцевой и камер-фрейлинами княжнам Голицыным и девице Кошелевой.
Представление двора Великой княжне было окончено. Екатерина Алексеевна растерянно стояла среди окружившей ее русской молодежи. Что ей делать с этими людьми?.. Всю жизнь при ней была одна девица Шенк. Екатерина Алексеевна была с детства приучена делать все сама. Русский двор ее окружил, и Великая княжна поняла желание государыни, как можно скорее сделать ее совсем русскою, Гофмейстерина графиня Румянцева сказала, что при Ее Высочестве всегда будет находиться «дежурство» и что все, что Великая княжна прикажет, будет исполнено.
Что же приказывать? До сих пор Екатерина Алексеевна только повиновалась – сначала матери, потом тете, учителям и воспитателям… Она сказала, что подумает, и распутила свой двор.
В этот вечер она писала отцу длинное восторженное письмо. Она описывала, какой у нее теперь двор, гораздо больший, чем у ее матери, как ее все балуют, и окончила свое письмо привычной подписью: «Остаюсь во всю жизнь с глубочайшим почтением, вашей светлости всенижайшая и всепокорнейшая дочь и слуга София А. Ф. принцесса Ангальт-Цербстская»…
Принцесса Иоганна, которой Екатерина Алексеевна показала свое письмо, пришла в негодование.
– Ну вот!.. И когда ты научишься!.. Ну, какая ты теперь София?.. Ты должна подписывать: «Екатерина С. А. Ф. Великая княжна…» У тебя уже свой двор есть. А ты!.. Все пересаливаешь… Как и твой отец слишком уж стал почтителен к тебе… Он тебя иначе, как «Ваше Императорское Высочество» и не именует. Точно ты для него перестала быть прежней девочкой Фике!..
Лицо принцессы Иоганны раскраснелось, непривычные злые искры горели в ее глазах.
«Что это? – подумала София. – Неужели зависть?.. Ревность?.. Мама меня ревнует?.. Завидует мне?.. Как это все странно!…
Но двор Екатерине Алексеевне пригодился. Какое удивительное лето стояло в Москве, какие были долгие дни, и точно не хотело солнце расставаться с землею, все млело по небу алым закатом, волновало загадочными пестрыми облаками, висевшими над дворцовыми садами! Государыня уехала, уроки прекратились, и полная праздность была вокруг Екатерины Алексеевны, эта праздность была бы утомительна и скучна, если бы двор не придумывал непрерывные забавы. То играли в жмурки по залам опустевшего дворца, то выйдут на садовую лужайку, принесут серсо и станут швыряться плавно и красиво летящими тонкими кольцами или станут по краям, возле кустов, и начнется бесконечная игра в мяч, где каждый показывает гибкость и легкость движений, меткость глаза и проворство рук. А когда вдруг набегут, неся прохладу, тучи и пахнет летним дождем, все общество убежит в залы, раздвинут «ломберные» столы, Нарышкин с треском распечатает колоду карт и начнется бесконечная игра в «берлан», а иногда и в «фараон». Играли на деньги, и, к ужасу Екатерины Алексеевны, у нее появились карточные долги своим придворным…
Иногда вечером сидят в маленьком зале, свечей не зажигают, в комнате от садовых кустов стоят зеленые сумерки, младшая княжна Голицына сядет за клавикорды и прообраз русского романса – песня на ломоносовские слова – зазвучит по залу. Поет бархатистым баритоном «Большой Петр» – Бестужев.
…Сокрылись те часы, как ты меня искала,
И вся моя тобой утеха отнята:
Я вижу, что ты мне не верна ныне стала,
Против меня совсем ты стала уж не та…
Кто-нибудь из фрейлин, девица Кошелева чаще всего, вздохнет тяжело. Струны звенят, льется тихая, полная грусти мелодия, Большой Петр продолжает со страстью и упреком:
…Мой стон и грусти люты
Вообрази себе
И вспомни те минуты,
Как был я мил тебе…
Вдруг распахнутся на обе половинки двери, и шумный, крикливый ворвется в залу Великий князь со своими лакеями, собаками и начнет нестерпимо хвастать. Великий князь не красив, но сколько в нем породы! У него маленькая голова и узкие плечи, и говорят, что выражением глаз он напоминает царевича Алексея, который был… казнен Петром Великим. Он все еще ребенок, Великая княжна, напротив, не по годам становится серьезной.
Музыка и пение кончены, меланхоличное, мечтательное настроение сорвано, Великий князь бегает, крутится по залу, щелкает бичом, гоняет собак, те неистово лают, наконец, он садится с размаху в кресло и самодовольно оглядывает Великую княжну и ее двор. Он начинает рассказывать, говорит по-русски, с сильным акцентом, но Великая княжна его понимает лучше, чем своих фрейлин и камер-юнкеров.
– Здесь, на Москве, – ошень спокойно. Ганц штиль. У нас в Голштинии бывали большие опасности. Однажды, я ошень карашо сие помню, подле самого Киля бродили цыгане. Они нападали на граждан и похищали детей. Мой отец послал отряд гвардии, чтобы ловить их. И меня назначили им командовать. Это било ошень опасно. Цыган ошень даже много, у меня ошень маленький отряд. Но знаете – прекрасные голштинские солдаты! Таких нигде нет… Мы шли лесами, переплывали реки и, наконец, окружили цыган. Они нас увидали… Ужасный огонь из мушкетов… Паф… паф… Трр… Мы стреляем, они стреляют. Я обнажил шпагу и бросился на них. Тогда они стали на колени и стали умолять о пощаде. Я им дал пардон и повел к отцу в Киль.
– Ваше Высочество, – тихо говорит Екатерина Алексеевна, – когда же это было?
– Это было… это было… ошень, однако, давно.
– Ваш отец скончался… За сколько же лет до своей смерти он посылал вас в такую опасную экспедицию?..
– Н-ну, года за три… Vielleicht[12]12
Может быть.
[Закрыть], за четыре… Я точно не помню.
– Знаете!.. Каким же молодым вы стали совершать такие подвиги… Вам было тогда – шесть… семь лет… Когда ваш отец умер и вы остались под опекою моего дяди, наследного принца шведского, вам было одиннадцать лет. Как же мог ваш отец послать вас, единственного своего сына, слабого здоровьем, шестилетнего ребенка воевать с разбойниками?
Великий князь покраснел и надулся.
– Ваше Высочество, – высокомерно говорит он, – Вы хотите сказать, что я лжец!.. Вы хотите уронить меня во мнении света!.. Благодарю вас за ваше обличение!
– Ваше Высочество, это не я, но календарь вас изобличает.
Великий князь свистнул собак и вышел из залы.
Долгое неловкое молчание стояло в ней. Тихо играла менуэт младшая Голицына.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































