Текст книги "Императрицы (сборник)"
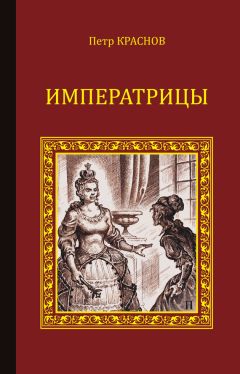
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 51 (всего у книги 52 страниц)
Она сейчас же оправилась. Не первый раз жестоко шутила с нею жизнь. Она верила в судьбу. Она научилась изворотливости. В каюте был стол, и на нем письменный прибор. Силинская написала по-французски письмо адмиралу Грейгу. Она просила объяснить, почему допущено такое насилие, она ведь ни в чем не виновата. Она же явилась на корабль только по настойчивому приглашению графа Орлова.
Она послала с письмом Кальтфингера. Тот сейчас же вернулся с словесным ответом адмирала.
– Их превосходительство приказали передать вам, что вы обязаны повиноваться высшей власти.
– Хорошо… Ступайте… Нет… Постойте. Будьте готовы отнести еще одно письмо его превосходительству.
В каюте и на корбале было тихо. Чуть слышно плескали волны о борта, да мерно поскрипывали цепи в якорных клюзах… Круглый корабельный фонарь бросал на стол уродливую, ползающую черную тень. Было неудобно писать.
Силинская писала Орлову. Ее письмо дышало негодованием. Как могло быть, чтобы он, кого она считала благородным рыцарем, неспособным на предательство, покровителем высокой идеи правды и справедливости, преданным сыном своей родины, позволил поступить с нею так жестоко!.. Почему он покинул ее, когда ее готовились взять под стражу?.. Она требует, чтобы он пришел к ней и утешил ее в ее одиночестве. Что сделала она преступного, когда по его приглашению явилась на корабль? В чем виновата она, бедная, слабая, больная женщина? Она просила верить в неизменность ее чувств даже и тогда, когда она потеряла свободу…
Она отправила письмо. Около часа она дожидалась ответа, сидя в кресле. Потом усталость тревожно проведенного дня, хмель выпитого вина одолели ее. Она позвала горничную и легла в постель.
– Как только будет ответ от графа, вы разбудите меня, когда бы это ни было.
Ответ пришел только утром. На ужасном немецком языке с невероятною орфографиею граф писал:
…«Ach wo seind wier geraten unglick. Bei disen alem mus man geduldich sein. Gott allmechtiger wiert uns nicht verlassen. Ich bien ezunder in dieselben unglicklichen umsstand, wie sie seind, hofe aber durch freidschaft meinen ofizirs meine Freiheit bekomen und will ich eine kleine beschreibung machen der admiral Greick, aus seiner freindschaft zu mier das ich so geschwinde wie möglich insz Land gem sollte…»[92]92
«Ax, какое несчастье. Надо быть терпеливыми. Всемогущий Бог нас не оставит. Я в отчаянии от вашего несчастного положения, однако надеюсь, что дружественные мне мои офицеры меня освободят, я напишу адмиралу Грейгу, чтобы он, по дружбе ко мне, дал бы мне возможность бежать, и я, как только можно быстро, отправлюсь…»
[Закрыть]
Он писал, что адмирал Грейг предупреждал его об опасности и советовал бежать, но что около пристани его окружили лодки и забрали с собою. Он просил своего обожаемого друга успокоиться и беречь свое здоровье – все выяснится, и как только он освободится, он найдет ее где бы то ни было и сумеет ее спасти…
Вместе с письмом он посылал ей «занимательные» книги из библиотеки сэра Джона Дика.
Силинская задумалась. Быть может, все это так и надо. Она шла занимать Русский престол, свергать императрицу Екатерину Алексеевну, узурпировавшую его. Разве знала она, как это делается?.. За нее на Волге старался Пугачев. Поляки и иезуиты, окружавшие ее и вдохновлявшие ее, никогда не говорили, как это надо сделать. Она надеялась на матросов… Но матросы еще не знали ее. Орлов пишет, что у него есть верные офицеры. Может быть, этот арест – неизбежное начало того, что она замыслила? Она не могла пожаловаться – с нею обращались хорошо, как с высокопоставленной особой. С нею, значит, считались. При ней были ее слуги. Она знала, что Чарномский и Доманский были тут же, на корабле.
Надо ждать. Она вспомнила всю свою прежнюю, действительную и воображаемую жизнь. Она была полна приключений. Сколько раз она бегала от воображаемых или действительных врагов, от долгов, от кредиторов. Видно, и опять придется как-то бежать…
Она рассеянно перелистывала присланные книги. Мысли бежали своим чередом. Она не слышала, как наверху, на палубе, раздавались командные крики, свистали боцманские дудки, топотали босыми ногами матросы, скрипели, точно стонали, тяжелые реи. Вдруг нагнулась каюта, и как это бывает при начале плавного корабельного движения, у Силинской закружилась голова. Она встала с койки и подошла к иллюминатору. Вода была близко. Синие волны в искрящихся точках яркого южного солнца быстро бежали мимо, и особенный шелестящий звук раздвигаемой кораблем волны баюкал ее. От буруна, сбивая морские волны, простирался по морю косой след. Слегка нагнувшись, корабль несся в неведомую даль.
Время шло, сонное, в каких-то несвязных грезах, думах, как идет оно на корабле, идущем с несильным ветром по спокойному морю. Не слышно было про избавление. Потом, должно быть, стих ветер. Знойное солнце слепило, играя в спокойной глади моря. Корабль едва шел, отражаясь розовыми парусами в глубинах тихого моря. В каюте стало нестерпимо душно. Силинская тяжело, надрывно кашляла. Появилась горлом кровь. Кальтфингер доложил о состоянии графини адмиралу Грейгу, и тот разрешил пленнице выходить на палубу.
Силинская лежала теперь с утра и до вечера на длинном соломенном кресле, на подушках, усталая, больная, ко всему безразличная. Она читала книги, пустые романы, присланные Орловым, а чаще смотрела в синь бескрайнего моря. Над нею тент бросал на золотую от солнечных лучей палубу густую синюю тень. Вверху тихо полоскали на слабом ветре большие паруса. В стороне от нее матросы караулили ее. На баке, взобравшись наверх к тяжелому бушприту, лежали люди в белых рубахах и тихо и сонно пели. Никто не подходил к Силинской, она была вне корабельной жизни.
Дремота, мечты, полусознание, сон… От горничной она знала, какие места они проходили. На каждой остановке Силинская ожидала письма от Орлова. Когда корабль приближался к берегу, Силинскую запирали в каюте.
Из иллюминатора Силинская наблюдала жизнь в порту. Корабль стоял в Кадиксе. Брали воду и провизию. В окно иллюминатора видна была глубокая изумрудная вода в розовых потеках солнечной игры. Перламутровые медузы колыхались в ней, как какие-то таинственные цветы. Подходили тяжело груженные быками, баранами и зеленью лодки, стукались о корабельный борт. С криками и песнями шла погрузка. Силинская видела полуобнаженные бронзовые тела, жгучие южные глаза, слышала гортанные крики грузчиков.
Лодки отошли, на корабле подняли все паруса. Вдруг показался ярко, празднично освещенный берег. Белые дома, зеленые сады поплыли, удаляясь от Силинской.
В Бискайском заливе сильно качало, и Силинская не выходила из каюты. Она ждала письмо в Англии. Там могли быть ее друзья, друзья Орлова, тот мог дать знать о ней, и ее могли там освободить.
Около суток стояли в Плимуте. На корабле шла починка. Силинская ни на минуту не покидала иллюминатора. Она увидала, как от корабля отвалила шлюпка и в ней – она не могла ошибиться – сидел Христинек без стражи с большим портфелем. Значит, его уже освободили. С трепетом сердечным она отсчитывала минуты. Ждала известий от Орлова, ждала самого Орлова.
По городу зажглись огни, в море стало сумрачно и страшно. Корабль снялся с якоря.
Они были в Немецком море, зеленовато-серые волны били в корабельные борта, когда Франциска принесла Силинской известие: «Корабль идет в Кронштадт…»
– В Кронштадт?.. Что же это такое?.. Из Кронштадта в Москву, по следам Пугачева?! Пошлите сейчас Кальтфингера к адмиралу, скажите ему, что я прошу адмирала немедленно прийти ко мне.
В каюту пришел молодой офицер.
– Мадам, адмирал прислал меня спросить, что вам угодно?
– Вы?.. Вы?.. Кто вы такое?.. Мне вас не угодно, – истерически крикнула Силинская. – Я просила адмирала… Мне нужно не вас, а ад-ми-ра-ла…
– Его превосходительство поручил мне узнать ваши желания.
– Мои желания?.. Смешно говорить о моих желаниях… Почему меня держат под арестом?.. Что я сделала?.. Какой проступок я совершила? Я никогда никому ничего худого не желала… Меня не смеют держать, как пленницу… Я требую, чтобы меня освободили и пустили во Францию.
Она забилась в истерике. Горничная, позванная офицером, уложила ее в постель. Силинская была в глубоком обмороке. Послали за судовым доктором, и тот распорядился, чтобы больную вынесли на палубу.
Силинская лежала в своем кресле с закрытыми глазами, потом приоткрыла глаза, осторожно огляделась, быстро встала, перебежала палубу и вскочила на борт. Матрос схватил ее тогда, когда она уже кидалась в море. Силинская царапалась, кусалась и визжала.
– Оставьте меня!.. Оставьте!.. Вы не смеете мешать мне!.. Пустите меня!
Ее заперли в каюту и до самого Кронштадта не выпускали на палубу.
Одиннадцатого мая, после двух с половиною месячного плавания, корабль бросил якорь на кронштадтском рейде. Адмирал сейчас же послал императрице донесение о благополучном прибытии с пленницей. Государыня была в селе Коломенском под Москвою.
Двадцать четвертого мая вечером к адмиральскому кораблю подошла парусная яхта лейб-гвардии Преображенского полка. Капитан Александр Толстой поднялся на палубу и подал адмиралу Грейгу письмо от государыни.
«Господин контр-адмирал Грейг, с благополучным вашим прибытием с эскадрою в наши порты, о чем я сего числа уведомилась, поздравляю, и весьма вестию сею обрадовалась, – писала государыня. – Что ж касается до известной женщины и до ее свиты, то об них повеления от меня посланы г-ну фельдмаршалу князю Голицыну в С.-Петербург, и он сих вояжиров у вас с рук снимет. Впрочем, будьте уверены, что службы ваши во всегдашней моей памяти и не оставлю вам дать знаки моего к вам доброжелательства. Екатерина. Майя 16-го числа 1775 г. Из села Коломенскаго, в семи верстах от Москвы».
– Могу получить арестантов?.. – спросил Толстой.
Адмирал проверил поданные ему Толстым бумаги, провел рукою по высокому лбу, поправил парик и сказал:
– Берите… берите… Только будьте с нею осторожны… Никогда не исполнял я более тяжелого поручения. Наши бои под Чесмой кажутся мне теперь пустяками. Я должен был оставить английский берег ранее, чем предполагал, потому что приезжавшие на корабль англичане, как я мог заметить, уже пронюхали об арестантке.
– Да, положение… С меня и моих людей взято клятвенное обещание навеки молчать о пленнице. Никто здесь ничего не знает.
– Здесь, никто… Сомневаюсь… За границей всем известно. Граф Чесменский писал мне в Плимут. В Ливорно было большое смятение. Кошачьи концерты графу устраивали. Едва удалось ночью ускользнуть незаметно в Пизу. Тосканский двор весьма и весьма раздражен, что так обманом с их земель оную женщину выкрали. В Пизе пустили слух, что ее умертвили на корабле. Иезуиты шептали всякую небылицу… Кто она – один Господь ведает… Но шум из-за нее большой вышел. Граф опасался, что его отравить могут приверженцы иезуитов… Предупреждаю вас обо всем этом. В Немецком море покушалась выброситься за борт. Как бы на яхте чего не выкинула. Крепче держите.
Арестантку, закутав ей шалью голову, на руках снесли в яхту и посадили в маленькой каюте между двух рослых гренадеров. Офицер поместился у входа в каюту.
– Куда теперь меня везут? – спросила пленница по-французски. – В Москву?..
Никто ей ничего не ответил. Она повторила вопрос по-немецки. Молчание было ей ответом.
По качке и по тому, как шуршала за бортом вода, Силинская могла догадаться, что яхта отвалила от корабля.
В два часа утра двадцать шестого мая главный комендант Петропавловской крепости принял от капитана Толстого арестантов. В призрачном свете белой ночи Силинскую, Чарномского и Доманского с их слугами, окружив солдатами, повели по песчаной дорожке между молодых берез, мимо громадного белого собора и длинных низких казарменных зданий в Алексеевский равелин.
Впереди шла графиня. После долгого плавания, качки на яхте, земля колебалась под ее ногами. Светлая ночь была холодна и казалась страшной и призрачной. Силинская два раза на коротком пути останавливалась: не могла идти, жестокий кашель ее душил.
В узком проходе медленно открылись тяжелые ворота. По каменной лестнице небольшого дома графиню провели во второй этаж.
– Вот ваше помещение, – сказал сопровождающий Силинскую офицер.
Через высокие окна с железными решетками был виден небольшой дворик. Помещение состояло из трех комнат с коридором перед ними. Две предназначались для слуг, в третьей Франциска стала устраивать свою госпожу. Слуги внесли баулы с вещами. Силинская села в простое кресло подле окна. Свет белой ночи ее раздражал. В крепости вдруг заиграли куранты. Дрожащие звуки плыли в воздухе и несли безотрадную печаль. Ни мыслей, ни надежд, ни ожиданий. Одна беспредельная, надрывная тоска.
Настал день – Силинская не сомкнула ни на мгновение глаз, не переменила позы. Франциска ей сказала, что Чарномского, Доманского и Кальтфингера с утра потребовали на допрос, что и ее спросят на допрос. Силинская точно ничего не слыхала. Она не повернула головы и не моргнула глазом.
Около полудня дверь комнаты Силинской распахнулась, и к ней вошел князь Голицын.
Шесть месяцев почти, изо дня в день тянулись допросы. Князь Голицын был вежлив, внимателен к графине Силинской, но и он начинал терять терпение, выходить из себя, видя упорство графини.
Ему было приказано точно выяснить, кто же такая эта пленница?..
Странный вопрос!.. Она сама не знала, кто она. Допрашивавшие ее не могли и не хотели этому верить.
Оставаясь одна, измученная вопросами, она ложилась в постель, закрывала глаза и старалась припомнить свое детство. Ее память обрывалась. Скитания, сказочной красоты сады, фонтаны, розы – да что же это было – правда или все это она сама придумала когда-то?.. Она сознавала только одно: у нее никогда не было ни отца, ни матери. Она их совершенно не знала и не могла сказать, кто они были.
Кто написал ей и подкинул все эти страшные бумаги, за которые ее преследовали? Нужны были бумаги, чтобы выйти замуж за князя Лимбургского, и ей принесли эти бумаги. Ей сказали, что это верные бумаги, и она этому поверила. Дочь императрицы Елизаветы Петровны и Разумовского?.. В ее детстве было так много необычайных приключений, что почему ей было не поверить, что все это было потому, что ее рождение было совсем необычайным? Когда она объявила все это и писала письма, она совсем не думала о последствиях своего шага.
Видя ее упорство, ее брали измором. Тогда она путалась в показаниях. Сегодня рассказывала одну историю своего детства – на завтра все отрицала и говорила новую выдумку. Это считали притворством, умышленною ложью – она не лгала. Всякий раз она сама была уверена, что говорит правду. Что же было ей делать, когда в ее детстве никто, никогда не сказал ей, кто она, и не рассказал ей про ее родителей?.. Ей самой приходилось направлять острый луч воспоминаний в потемки прошлого. Он освещал какие-то углы, но освещал всякий раз по-новому. Князь Голицын изводился и терял самообладание.
– Если вы не знаете, кто вы такая, я вам сам подскажу, вы дочь еврея, пражского трактирщика…
Силинская нехорошо себя чувствовала, она давала показания лежа в постели. Она резко поднялась и села. Худые руки хватились за грудь, косые глаза наполнились слезами, кирпично-красный румянец залил впалые щеки.
– Боже!.. Бо-же мой!.. Чего только про меня не выдумают люди! Никогда, князь, слышите, никогда я не была в Праге! Я готова выцарапать глаза тому, кто осмелился приписать мне такое происхождение… Уверяю вас, князь, я высокого рода… Я это-то точно знаю…
Что Силинская дочь пражского трактирщика Голицыну сказал английский резидент. В Англии были очень заинтересованы самозванкой и производили о ней самостоятельное расследование.
Силинская хорошо говорила по-французски и по-немецки, недурно объяснялась по-английски и по-итальянски. Голицыну сказали, что Силинская говорит по-французски с польским акцентом – Голицын этого не заметил. Поляки же, бывшие при Силинской, сказали Голицыну, что та знает по-польски только несколько слов. Кто же была она?.. Какой национальности?.. Раньше она называла себя Али-Эмете… У нее были узкие косящие глаза. Ей намекнули на то, что она может быть родом с востока. Она сейчас же ухватилась за эту мысль и стала уверять, что она в совершенстве знает персидский и арабский языки.
– Я и писать умею на этих языках, – сказала она.
Ее попросили написать на обоих языках! Она вскочила с постели, вдела ноги в туфли и села к столу. Нахмурив тонкие брови, она покрыла какими-то точками и запятыми два листка бумаги. Голицын сразу увидел, что написанное мало походит на турецкие и арабские письмена, но для верности приказал отправить листки в Академию наук для обследования через знающих эти языки людей. Он получил из Академии ответ: «По предъявлении оной записки сведущим лицам, те нашли, что нарисованные знаки ничего общего не имеют ни с арабскими, ни с персидскими письменами».
Голицын передал это Силинской. Та, по обыкновению, лежала в постели. Она капризно пожала плечами и, кутая узкие тонкие плечи в шаль, сказала:
– Спрошенные вами люди ничего не смыслят в обоих языках.
Повернулась лицом к стене, спиною к Голицыну. В этот день она ничего не отвечала на вопросы князя.
Все это время она писала императрице, домогаясь личного свидания с государыней и объяснения с нею.
Через неделю пребывания в крепости, второго июня, она писала императрице:
«Votre Majesté Impériale, je croie qu’il est à propos que je prévienne Votre Majesté Impérial touchant les histoires qu’on a écrit ici dans la forteresse. Elles ne sont pas suffisantes pour éclaircire Votre Majesté touchant les faux soupçons qu’on à sur mon compte. C’est pourquoi que je prends la resolution de supplier Votre Majesté Impériale de m’entendre elle-même, je suis dans le cas de faire et procurer de grands avantages à votre Empire.
Mes démarches le prouvent. И suffit que je suis en état d’annulétoutes les histoires qu’on a trainées contre moi et a mon insue.
J’attends avec impatience les ordres de Votre Majesté Impériale et je me repose sur sa clémence.
J’ai l’honneur d’etre avec un profond respect de Votre Majesté Impériale.
La très-obéissante et soumise servante.
Elisabeth»[93]93
«Ваше Императорское Величество, я думаю, что нужно, чтобы я предупредила вас о тех историях, которые пишутся здесь в крепости. Они недостаточны, чтобы объяснить Вашему Величеству лживые подозрения на меня. Вот почему я умоляю Ваше Величество выслушать меня лично, я имею случай доставить выгоды вашей империи.
Это доказывают мои попытки. Достаточно, чтобы я была в состоянии опровергнуть все истории, которые без моего ведома про меня выдумали. Я с нетерпением ожидаю приказаний Вашего Императорского Величества и я разсчитываю на ваше милосердие.
Имею честь быть с глубоким уважением Вашего Императорского Величества. Всепокорная и преданная слуга Елизавета…» (Орфография подлинника.)
[Закрыть].
Это письмо возмутило императрицу. Она сейчас же написала князю Голицыну записку:
«Prince! Faites dire à la femme connue que si elle désire alléger son sort, qu’elle cesse la comédie continuée dans les deux lettres à vous adressées et qu’elle a l’audace de signer du nom d’Elisabeth. Ordonnez de lui communiquer, que personne ne doute un instant qu’elle est une aventuriére et que vous lui conseillez de modifier son ton et d’avouer franchement qui lui a conseillé de jouer ce rôle, ou elle est née et depuis quand elle pratiquait ses filouteries. Voyez-la et dites lui sérieusement de finir la comйdie. Voilà une fieffée canaille. L’insolence de sa lettre a moi adressee dépasse tout et je commence à croire qu’elle n’a pas toute sa raison…»[94]94
«Князь! Скажите известной вам женщине, что, если она хочет облегчить свою участь, пусть она оставит играть комедию, которую изображают в двух письмах, вам адресованных, которыя она имеет смелость подписывать именем Елизавета. Прикажите сообщить ей, что никто не сомневается в том, что она авантюристка и что вы советуете ей умерить ея тон и откровенно сознаться, кто посоветовал ей играть эту роль, где она родилась и с какого времени она занимается своими плутнями. Повидайте ее и серьезно скажите ей кончить комедию. Вот отпетая каналья. Нахальство ее письма, адресованного мне, превосходит все, и я начинаю думать, что она не в своем уме…» (Орфография подлинника.)
[Закрыть]
To знойное, душное, то свежее с холодными дождями петербургское лето тяжело отзывалось на хрупком здоровье пленницы. Она сильнее кашляла и больше выделяла крови с мокротой. Она уже целыми сутками лежала, не вставая с постели, кутаясь в одеяла и шали. Иногда вдруг вскакивала, начинала быстро ходить по комнате, потом садилась к столу и писала письма, рвала их, писала снова и опять рвала. Она сама не знала, что писать и как оправдываться.
Князь Голицын сказал ей, что, если она скажет наконец всю правду о своем происхождении, он выпросит у императрицы, чтобы ее отпустили к князю Лимбургскому. Она пожала плечами.
– Что я могу прибавить еще к тому, что я сказала вам, – печально проговорила она. – Я прошу вас… Не мучайте меня расспросами. Я ничего больше не знаю.
Ее считали фальшивой, лживой, злой и бессовестной. Чтобы сделать ее сговорчивее, караул, помещавшийся вне ее квартиры, поставили к ней в комнаты. Теперь она всегда находилась под наблюдением офицера и солдат. Всегда, днем и ночью, кто-нибудь был в ее комнате. Это ее стесняло и мучило. Как испуганный зверек, она лежала, лицом к стене, закутавшись с головою в одеяло.
Позднею осенью в холодный ненастный день, когда днем у нее на столе горела свеча, дрожащею рукою писала она императрице:
«Votre Majesté Impériale!
Enfin a lagonie, je m’arache les bras de la mort, pour exposer mon déplorable sort aux pieds de Votre Majesté Impériale. Bien loing qu’elle me perdra, ce seras votre sacré Majesté qui fera ceser mes peines. Elle veras mon innocence. J’ai rassemblet le pent de forces qui me reste pour faire des notes que j’ai remis au Prince Galitzine, on me dit que cest Votre Majesté que j’ai eu le malheure d’offencer, vu qu’on croy telle chose je suplie a genoux votre sacré Majesté d’entendre elle même toutes choses, elle seras vange’s de ses ennemis et elle sera mon juge.
Ce n’est pas visavis de Votre Majesté Impériale que je me veux justifier. Je connais mon devoir et sa profonde pénétration est trop connue pour que j’aye besoin de lui détailler les diminutifs.
Mon état fait fremire la nature. Je conjure Votre Majesté Impériale au nom d’elle même quelle veuille mentendre et m’accorder sa grâcem Dieu a pitié de nous. Ce n’est pas à moi seule que Votre sacré Majesté refusera sa clémence: que Dieu touche son coeur magnanime à mon égard et le reste de ma vie je la consacrerais à son auguste prospérite et service. Je suis de Votre Majesté Impériale.
La trés-humble et obeissante et soumise dévouee servante…»[95]95
«Ваше Императорское Величество! Уже в агонии, я отрываю от смерти мои руки, чтобы изложить к ногам Вашего Величества мою отчаянную участь. Вы не погубите меня; Ваше священное Величество, прекратите мои муки. Вы увидите мою невинность. Я собираю остатки моих сил, чтобы отвечать князю Голицыну; мне сказали, что я имела несчастие оскорбить Ваше Величество; так как верят в это – я умоляю Ваше священное Величество лично все выслушать. Вы отомстите своим врагам и вы будете моим судьею.
Я не хочу оправдываться перед Вашим Императорским Величеством. Я сознаю мой долг, а ваша глубокая проницательность слишком известна, чтобы нужно было вам смягчать описания.
Мое положение ужасно. Я умоляю Ваше Императорское Величество во имя вас самих выслушать меня и помиловать; Бог милосерд к нам. Не одной же мне Ваше священное Величество отказываете в милосердии: пусть Господь тронет ваше великодушное сердце ко мне, и я посвящу остатки моей жизни Вашему августейшему благоденствию и службе вам. Вашего Императорского величества всенижайшая и послушная и покорная и преданная слуга…» (Орфография подлинника.)
[Закрыть]
Она на этот раз не подписала письма.
В холодное, ноябрьское, темное утро, когда на фигурном столе государыни горели свечи, а бледный сероватый свет шел в окна, князь Голицын докладывал это письмо императрице.
Государыня задумалась.
– Как полагаешь, если отпустить ее теперь к князю Лимбургскому?..
Голицын молчал.
– Или… Ты мне как-то докладывал об этом влюбленном в нее поляке… Доманском?.. Что он?.. Все верен своей страсти?..
– Он еще совсем недавно говорил мне, что за величайшее счастье почтет, если бы разрешили ему жениться на ней и увезти ее к нему в деревню.
– Ну, вот… Так в чем же дело?..
– Поздно, Ваше Величество… Дни ее сочтены.
– У нее были доктора?..
– Были. Болезнь ее неизлечима. Ей нужен уже не доктор, а духовник.
– Что же, пошли ей такового.
– Я не знаю, какого она исповедания.
– Странно?.. В полном смысле неизвестная… Что же она-то не скажет? Спроси ее.
– Боюсь, что и она сама того не знает.
– Прекрасно… Этого только и недоставало… Попытай ее, может быть, перед смертью вспомнит, какой она веры.
Когда спросили Силинскую, та сначала пожелала иметь православного священника, потом сказала, что она должна держаться римско-католической веры, так как обещала это князю Лимбургскому, но что она никогда не причащалась по этому обряду. Князь Голицын допросил Франциску Мешеде, и та сказала, что ее госпожа ходила в католическую церковь, но сколько она ее видала там, она никогда не причащалась.
– Слушайте, мадам, – сказал Силинской Голицын. – Ваши капризы мне надоели. Подумайте о страшном вашем положении. Если вы не скажете мне наконец, какой вы веры, – я вовсе никакого священника к вам не пришлю.
– И не надо, – сказала арестантка и отвернулась от князя.
Тридцатого ноября ей стало очень плохо, и она через доктора просила князя Голицына, чтобы к ней прислали православного священника. К ней был послан священник Казанского собора Петр Андреев, хорошо говоривший по-немецки. Ему было поручено довести арестантку до полного раскаяния и признания своей вины.
Она внимательно выслушала увещание священника и тихим прерывающимся голосом начала свою исповедь.
– Я скажу все, что о себе знаю… Я крещена по обрядам греческой церкви… Так говорили мне в Киле те, кто тогда воспитывал меня и где я жила до девятилетнего возраста… Потом… Это долго и трудно все рассказывать… Я жила в разных странах… В Англии и Франции… В Германии я получила во владение графство Оберштейн. Была в Дубровнике, в Пизе… В Ливорно граф Орлов пригласил меня на корабль, и меня привезли в Петербург… Где я родилась, кто мои родители, говорю вам по чистой совести – я ничего не знаю…
У исповеди и причастия никогда не была, ибо нигде не находила православного священника. О христианском учении знаю из Библии и французских духовных книг, которые иногда читала. Я верю в Бога и Святую Троицу, не сомневаюсь в истине символа веры. Я ничего не злоумышляла против государыни и не знаю, кто и когда мне дал те бумаги, которые мне столько причинили зла и несчастий. Я слаба, святой отец, я ничего больше не знаю. Зачем мне лгать или скрывать что-нибудь на краю могилы… Молитесь за меня. У меня один грех – и в нем я глубоко раскаиваюсь, – с ранней юности жила я в нечистоте телесной и грешна делами, противными заповедям Господним. Я раскаиваюсь от всего сердца, что огорчала Создателя, и умоляю простить мои многие и тяжкие грехи.
По мере того как она говорила, ее голос слабел, все чаще и чаще прерывали ее припадки удушья и кашля. Она с трудом закончила свое покаянное слово.
Весь следующий день, третьего декабря, она пролежала неподвижно в постели и была в полусознании. Жизнь покидала ее.
Четвертого декабря 1775 года в семь часов вечера арестантка умерла, а утром, пятого, солдаты, державшие при ней караул, зарыли ее тело во дворе Алексеевского равелина.
Тринадцатого января 1776 года в тайной экспедиции князем Голицыным и генерал-прокурором Вяземским был поставлен приговор над поляками и прислугой, бывшими с самозванкой. Всех их отпускали на родину с выдачею каждому вспомоществования и со взятием подписки о вечном молчании о преступнице и своем заключении. Если кто из них возвратится в Россию, то без дальнейшего суда подвергнется смертной казни.
Приговор этот был утвержден императрицей, и в январе Франциска, Кальтфингер и слуги-итальянцы были через Ригу отправлены в Италию, а в марте за ними последовали в Польшу Чарномский и Доманский со своими слугами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































