Текст книги "Императрицы (сборник)"
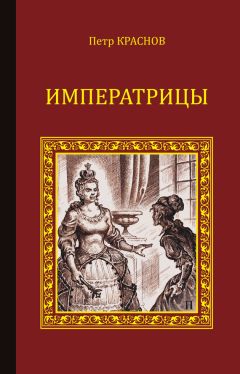
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 41 (всего у книги 52 страниц)
– Видела, пани, как ясно, пэвне и докладне пишет в своем тестаменте императрица Елизавета Петровна… «Княжна Елизавета… Великая княжна… Елизавета, моя дочь… Елизавета вторая… Елизавета, моя единственная дочь… Елизавета Петровна…»
– Кто же это такая, позвольте спросить?.. – воскликнула совсем уж громко Маргарита Сергеевна и встала из-за стола.
Поляк тщательно сложил бумаги, уложил их в портфель и, вставая против Ранцевой и низко ей кланяясь, сказал с силою:
– Чи ж бы пани не знала?.. Чи ж бы не домыслилась?.. Одна из ей выхованэк есть ксенжничка Елизавета Пиотровна Тараканова, дось храбьего Разумовского и цесажовэй Елизаветы Пиотровны – о то, о ким есть мова в тестаменте.
Кровь ударила в утомленное, бледное лицо Маргариты Сергеевны.
– Ах!.. Вот оно что!.. Не первый раз слышу… Но почему она тогда в тестаменте названа Елизаветой Петровной?.. Разумовского звали Алексеем… Алексеем Григорьевичем… И он был православный. Его дочери, буде таковая у него была бы, надлежало бы быть Елизаветой Алексеевной…
Маргарите Сергеевне показалось, что поляк как будто смутился, но он сейчас же нашелся.
– То могла быть помылка… Ошибка переписчика… То не есть важно.
– Нет, сударь, – с громадным достоинством и силою сказала Маргарита Сергеевна. – Мало вы меня знали, что так прямо и явились ко мне со своими льстивыми словами и лживыми документами. Это что же?.. Заговор?.. Заговор против государыни императрицы?.. Тут есть резидент российский, и я завтра же пойду к нему и скажу ему все… Все!.. Я буду искать защиты от злостных происков иностранной державы против нашей государыни… И я найду защиту и правду там, а не у вас, в ваших фальшивых документах…
– Как пани себе желает, – низко кланяясь, сказал поляк.
– Да, я так желаю… Мне так угодно… Я знаю… Вы думали, что можно купить меня… Воспитательница императрицы всероссийской!.. Конечно – ей первое место… Сударь – как жестоко вы ошиблись… Я – Ранцева!.. Я дочь солдата и сестра солдата… Купить меня нельзя… В 1741 году какое могло быть и мое и моего брата положение?.. А я уехала… Совершила все, что считала нужным, и уехала от почестей и почета… Оставьте меня со своими документами в покое, да лучше будет, если и сами вы исчезнете подальше… Я не могу вас сейчас тут же на месте арестовать, но вот скоро, завтра, послезавтра придет сюда эскадра российская, и с нею граф Орлов. Он не задумается поступить с вами так, как это нужно… Не гневайтесь на меня, но долг свой я знаю и исполню его до конца, ничего и никого не боясь…
– Как вельможна пани себе желает, – быстро проговорил поляк, пятясь к дверям от грозно и гневно наступавшей на него Маргариты Сергеевны.
Он открыл дверь и, шагнув через спящую крепким сном Каролину, проворно сбежал с лестницы.
Маргарита Сергеевна не преследовала его. Она подошла к столу, бессильно опустилась в кресло, оперлась на ладони головою и глубоко задумалась…
Открыть окно!.. На весь город закричать «караул»!.. Сказать государево «слово и дело»…
Чужой был город, и не было в нем хожалых, кого могла бы вызвать она своим безумным криком.
Свечи нагорели, и воняло сальным чадом. Тускло светилось синеватое пламя с кривых и длинных черно-красных фитилей.
Маргарита Сергеевна вспоминала тот страшный ноябрьский вечер 1741 года, когда в мороз пришла она с разведки из казарм в низкую горницу цесаревны в ее Летнем доме. Она рассказывала, что в предвидении чего-то страшного тогда по городу «привидения казались»… Рейтары Конного полка отказывались стоять у гробницы Анны Иоанновны – призрак государыни ходил по собору…
Казалось, что и сейчас в тишине кильской ночи в ее комнате таинственные и страшные шепоты раздавались по углам. Потревоженные тени Петра Великого, Екатерины I и Елизаветы Петровны пришли сюда свидетельствовать о чем-то страшном, говорить о залитом многою кровью алтаре отечества Российского…
Прав был Владимирский на Клязьме купец Макар Хрисанфович Разживин – опасен был ее путь… В мерцании свечей стол был в полутьме, и ей казалось, что не ушли, не унесены поляком лукавые тестаменты, но лежат на столе и сами ворочаются, как живые, шелестят, рассказывают о какой-то неведомой страшной воле великих покойников.
Вот она вся перед нею – иностранная политика… Фальшивые документы, чьею-то неискусною рукою сфабрикованные, а за ними многая и большая кровь невинных людей… быть может – ее кровь.
И только достигает Россия покоя и благополучия, только становится на свою широкую дорогу, как тянутся какие-то таинственные иностранные руки, чтобы схватить ее за горло и душить какими угодно заговорами. Ищут самозванцев, берут слепые орудия своей ужасной, жадной, хищнической политики. Прав «патриот без ласкательств», чьи пересмехивания она только что читала… Война – или Катоновы добродетели, или добыча…
До завтра… Завтра задует морской ветер, придут корабли с моря, и она все расскажет вернейшему и лучшему другу и сотруднику императрицы Екатерины Алексеевны.
Маргарита Сергеевна не ложилась до самого утра. Давно погасли свечи, сквозь тонкие щели ставень сочился мутный свет утра, когда Маргарита Сергеевна с надеждою распахнула окно.
Все было серо в раннем весеннем утре. Небо низко опустилось, туман покрыл город, и за ним совсем не было видно моря. Неприметный, мелкий, весенний дождь неслышно падал на землю, и о нем можно было только догадываться потому, что блестели водою камни булыжной мостовой. Кисло, серо, уныло и печально было в природе. Погода вполне отвечала настроению Маргариты Сергеевны.
Утром, пока воспитанницы Маргариты Сергеевны пили кофе и завтракали, Маргарита Сергеевна в своей комнате углубилась в чтение Фенелона – ее ежедневное душеспасительное занятие. Она с тоскою читала:
«Vous devez faire chaque matin une petit meditation; d’abord vous mettre en la presence de Dieu, l’adorer comme present, vous offrir tout entier a Lui, puis invoquer son Saint Esprit pour la grande action que vous allez faire…»[56]56
Каждое утро вы должны отдаться молитвенному размышлению, стать благоговейно; представляя себя перед всевидящим Богом, и обожать его так, как бы Он был действительно перед вами, отдать себя всего Ему, просить Его о ниспослании вам Святого Духа на то великое дело, которое вы собираетесь делать…
[Закрыть]
Ночная тревога покидала ее. Как ни печален и безотраден был серый день – днем все казалось проще. Попытка использовать ее воспитанницу для переворота казалась ей безнадежно глупой. Только иностранцы, ничего не понимающие в русских делах, могли покуситься на такой грубый обман… Ей думалось, что и в Киле она может добиться если и не ареста этих людей, то во всяком случае наблюдения за ними. Да и недолго ждать. Придет Орлов, и все станет ясно и просто. Ему она все скажет и попросит у него защиты. Но к резиденту она все-таки на всякий случай пойдет и покажет ему обеих девиц. Она продолжала читать:
«Mais vous ne sauriez le faire trop simplement. N’allez point chercher avec Dieu de belles pensees ni des attendrissements extraordinaires; parlez Lui simplement, ouvertement, sans grande reflexion, et de la plenitude du coeur, comme a un bon ami…»[57]57
Вы не сумели сделать это просто. Не думайте о том, как обращаться к Богу, ни прекрасных мыслей, ни необычайных умилений – говорите Ему просто, откровенно, без больших размышлений, от полноты своего сердца, как доброму другу…
[Закрыть]
Точно слышала она тихий шелест шелковой рясы католического аббата подле себя и вкрадчивый шепот молитвенных слов на французском языке. Если бы можно было и точно беседовать с Богом открыто и просто, без утайки, как с добрым другом! А вот не могла. Все стеснялась, боялась, не знала, о чем и как просить, не могла доверить всего, не могла найти подходящих слов для выражения своих желаний. Земные мысли, тревоги и заботы снова овладели ею.
Успокоенная лишь до некоторой степени, но усталая после бессонной ночи, не продумав до конца, что же будет она говорить резиденту и как на кого жаловаться, от кого, неизвестного, просить защиты, она в конце одиннадцатого часа вышла со своими воспитанницами. Все так же все было серо кругом, и тот же туман густым покровом покрывал море. С медного изображения льва, висевшего над крыльцом на железном кронштейне, тяжелые капля падали. Воздух был тепел и сыр. Пахло морем и рыбой. Вода в узком канале, где стояли лодки, казалась совсем черной.
Маргарита Сергеевна свернула с набережной в узкую улицу, как и все улицы города, без тротуаров, мощенную булыжником. Длинный ряд пестрых двухэтажных домов с крутыми черепичными крышами тонул в тумане. Печально и протяжно часы на башне били одиннадцать. Пустынна была улица. Только с правой ее стороны, занимая почти всю ее ширину, стояла большая дорожная карета. На мгновение Маргарите Сергеевне показалось страшным проходить между лошадьми и домами. Подозрительной показалась карета, но, разглядев подле нее голштинского драгуна в лосинах и в голубом мундире, державшего в поводу трех лошадей, и двух других солдат подле кареты, она успокоилась. Какое-нибудь местное начальство собиралось в «вояж».
Осторожно, прикрывая собою девиц, Маргарита Сергеевна пошла мимо лошадей и вошла в тесный проход между домами и каретой. Внезапно между нею и драгунами раскрылась дверь кареты, чьи-то сильные руки схватили ее за плечи, драгун подоспел к ней и, охватив поперек, помог втащить Маргариту Сергеевну в карету. Другой драгун втолкнул за нею Августу и Елизавету.
В полутьме кареты Маргарита Сергеевна успела разглядеть людей в черных масках, увидала бледное перепуганное лицо Августы и услышала истеричный картавый крик Елизаветы:
– Ah! Mon Dieu!.. Quelle aventure!.. Mais c’est e’pouvantable!.. Mademoiselle, n’est ce pas?.. On nous a enlevees?[58]58
Ах, Боже мой!.. Какое приключение!.. Это ужасно!.. Мадемуазель, не правда ли?.. Это нас похитили?
[Закрыть]
И сейчас же ей накинули на голову черный шерстяной платок и туго стянули голову, глаза и рот. Руки завязали крепкими ремнями, кто-то грубо надавил ей коленом на грудь, чтобы она не сопротивлялась. Как сквозь кошмарный сон Маргарита Сергеевна услышала, как загрохотали колеса по мостовой, защелкали подковы быстро скачущих лошадей. Вскоре и это стихло, карета мягко покачивалась и вздрагивала на выбоинах. Они ехали по грунтовой дороге, были уже где-то за городом.
Больше никто, никогда не видал и ничего не слыхал про Маргариту Сергеевну Ранцеву.
2. Император Иоанн VI АнтоновичДело с «марьяжем» государыни Екатерины Алексеевны, так неудачно начатое Григорием Орловым и решительно пресеченное Кириллом Разумовским и Алеханом, не заглохло. Переменился только жених. В близких к императрице придворных кругах, где сильнее чувствовалась шаткость престола и где все, от высших чинов до придворных лакеев, боялись перемен и всяческой смуты, родилась мысль вызвать к жизни «арестанта номер один» из Шлиссельбургской крепости – Иоанна Антоновича, провозгласить его императором и обвенчать с императрицей Екатериной Алексеевной.
Мысль дерзновенно смелая, но именно потому показавшаяся интересной. Столько лет заточения, тюрьмы, такой ужасный был отзыв об узнике императора Петра Федоровича, – и этого человека, малообразованного, совсем не воспитанного, – говорят, полусумасшедшего – венчать с прелестной красавицей государыней, бывшей в расцвете своего лета, во всей славе победы и успеха…
Осторожно довели эту мысль до сведения государыни, и она задумалась.
Конечно, она хотела, стремилась и, казалось, достигла: «царствовать одной». Иным престол Российский она себе не представляла. Она знала и понимала, что нет такого человека, с кем могла бы она разделить этот престол и вести Россию к славе и благоденствию. И все-таки сочла своим долгом серьезно отнестись к этому своеобразному плану закрепить престол за нею. Чутким умом своим, своею душою, ставшею совершенно русскою, она понимала, – как это было в русском духе! В народе, где кое-где помнили малютку Иоанна Антоновича, говорили о нем всегда с жалостью и досадой на императрицу Елизавету Петровну. Такая несправедливость!.. Государыня знала, что этот узник был пятном на совести государыни Елизаветы Петровны, и вот освободить его, дать ему хорошую жизнь, вернуть его на принадлежащий ему престол – какая это была бы красивая жертва с ее стороны. Какой подвиг!.. Как укрепило бы это ее положение в глазах всех законоведов и подняло бы ее влияние на народ!
Она решила сама, своими глазами убедиться в том, есть ли какая-нибудь возможность вернуть к настоящей жизни Иоанна Антоновича, и вот она отдает наисекретнейший приказ Никите Ивановичу Панину доставить узника с великою тайною в имение Мурзинку, подле Петербурга.
Два испытанных и верных офицера Ингерманландского пехотного полка, капитан Власьев и поручик Чекин, уже несколько лет состоящие при арестанте, должны привезти с великим бережением в Мурзинку «безымянного колодника Григория».
Арестанта повезли сначала в лодке по Ладожскому озеру, устроив на ялике закрытую конуру, чтобы никто из гребцов не мог его видеть, а потом в наглухо закрытой кибитке, тесными лесными проселочными дорогами, по пескам и верескам, избегая больших сел, повезли в Мурзинку.
Хмурым осенним днем – дождь то и дело косыми струями бил в окна – в простой наемной карете парою лошадей государыня вдвоем с Никитой Ивановичем Паниным поехала в Мурзинку. По плашкоутному мосту, где хлюпали доски и качались плоты на взволнованной Неве, перебрались на шведский берег и широким прибережным трактом поскакали через сосновый лес.
Государыню провели на пустую дачу. Капитан Ингер манландского полка встретил ее рапортом и провел в большую в два окна комнату. Диван и кресла, круглый стол под скатертью, на столе ваза с увядающими жухлыми георгинами – вот и вся обстановка залы. За окнами сад, где мокрые ржавые рябины и береза в золотых листьях роняли печальные капли дождя. В комнате было сумрачно, сыро, и казалась она нежилой, наскоро меблированной и устроенной только для этого свидания.
– Введите ко мне арестанта и оставьте меня одну с ним, – сказала тихим ровным голосом государыня.
Панин вышел в прихожую, государыня села в кресла спиною к свету, у окна. Капитан открыл дверь в глубине зала и строго сказал:
– Иди сюда!.. Да держи себя хорошо… Вишь, государыня смотреть на тебя хочет.
И сейчас же из глубины дачи послышались несмелые, неровные, шаркающие шаги, в дверях показалась высокая, тонкая, нескладная фигура в длинном сером кафтане, суконных панталонах, чулках и башмаках. Вошел человек лет двадцати, с худым, бескровным, бледным арестантскою бледностью лицом, с синяками под глазами и с покорно печальным, неосмысленным выражением узких серо-голубых глаз в красных опухших веках.
Он сделал несколько робких шагов и, не кланяясь, остановился против государыни, расставив ноги. Он внимательно и строго смотрел на милое, красивое лицо, тонко оттененное сероватым цветом ненастного дня, он не то видел его, не то нет. В глазах его то загорался, то потухал желтый огонь. Понимал он, кто сидела против него, сознавал всю прелесть и красоту молодого, прекрасного лица?.. Две долгих минуты прошло в тишине и молчании. Шумел ветер деревьями в саду, со звоном бросал блестящие дождевые капли в стекла окон. Императрица внимательно всматривалась в лицо арестанта. Ее первый супруг был весьма нескладен и после оспы показался ей «монстром», в этом было нечто худшее уродства – он был противен и жалок своим бледным лицом и растерянным видом.
Государыня прервала наконец молчание и спросила твердым и суровым голосом:
– Кто ты?.. За кого ты себя почитаешь?..
Арестант затрясся мелкою дрожью. Нижняя челюсть запрыгала, издавая невнятное мычание. Сильно заикаясь, арестант ответил:
– Я не т-то лицо, за к-ко-т-тор-рое меня п-поч-чит-тают. Т-тот п-принц д-давно во мне ум-мер… Есть д-два л-лица…
Он замолчал. Он подошел до того места своих дум, представлений о себе, созданных долгими тюремными, одинокими ночами, где он сам терялся и не мог себе самому объяснить, как это выходило, что у него было два существования – одно живое, печальное, жуткое, арестантское, с грубыми людьми, которые его не понимают и не могут понять, и другое, давно умершее, пришедшее к нему отголосками каких-то смутных воспоминаний, рассказов, теплоты душевной, холи телесной, что-то совсем особое, будто и бывшее и в то же время такое, какого не могло быть в этой жизни. Все это продумывал он по ночам и никогда до конца не мог продумать, сообразить, тем труднее было ему это изъяснить словами, которых и вообще-то он мало знал. Он замолчал, и государыня поняла, что он уже ничего ей не скажет, хотя бы целый день так простоял против нее.
Она холодно посмотрела на него. То, что хотела она узнать, она узнала. Никакого императора Иоанна VI Антоновича не было – был просто жалкий колодник, и все стало просто и понятно для нее. Она встала с кресла, взглянула милостивым оком, так, как посмотрела бы на всякого другого колодника, и сказала:
– Чего бы ты хотел?.. Проси…
– Я б-бы хот-тел… хот-тел… В-в-в м-м-монастырь.
Глаза императрицы потемнели и стали холодными, строгими, беспощадными.
– Посмотрим, – сказала она и, повышая голос, добавила в комнату с запертой дверью: – Караульный офицер!.. Можешь отправлять арестанта!..
Дорогой, в карете, государыня объясняла Никите Ивановичу, какую инструкцию он должен теперь же составить для содержания арестанта и с надежным человеком отправить немедленно «секретной комиссии» из капитана Власьева и поручика Чекина в Шлиссельбург.
– Вы видели, – говорила государыня по-французски, – c’est formidable! Это просто невозможно. Вина сего не на мне… Но… венчаться?.. Сажать на престол такого человека? Он совершенно больной, и больной неизлечимо. C’est epouventable!..[59]59
Это ужасно!.. Это невероятно!..
[Закрыть] Так напишите, и за своим подписом сегодня же отправьте в Шлиссельбург… Надо во всем идти до конца, а не блуждать в мечтах и пустяками не отвлекаться от главного.
В секретной инструкции для содержания арестанта был такой пункт: «…ежели, паче чаяния, случится, чтобы кто пришел с командою, или один, хотя б то был и комендант, или иной какой офицер, без именного, за собственноручным Ее Императорского Величества подписанием повеления, или без письменнаго от меня приказа, и захотел арестанта у вас взять, то онаго никому не отдавать и почитать все то за подлог или неприятельскую руку. Буде ж так оная сильна будет рука, что опастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать. В случае же возможности, из насильствующих стараться ежели не всех, то хотя некоторых захватить и держать под крепким караулом и о том рапортовать ко мне немедленно через курьера скоропостижнаго…»
В тот же вечер арестанта, закутав ему совершенно голову, чтобы никто и никак не мог разглядеть его лица, посадили в крытую кибитку и повезли лесами к Ладожскому озеру.
Шлюпка с темной конурой вошла в узкий крепостной канал, миновала крепостную башню, часовые окликнули и дали пропуск, и шлюпка причалила у каменных ступеней старинной шведской постройки. Арестанта высадили, сняли с головы платок, и узник увидел Божий свет. Бледный, осенний день, светло-голубое небо с длинными узкими облаками, каменный двор, невысокая серая каменная казарма. Шатающейся походкой человека, усталого долгим, неудобным сидением в кибитке и в лодке с протянутыми ногами, арестант прошел по мокрым камням через двор и подошел к высокой двери с аркой. Поручик Чекин открыл дверь, несколько крутых ступеней поднимались к узкому короткому темному проходу, в конце которого была дверь с окошечком и вправо другая дверь в помещение караула.
Чекин засветил от фитиля в караулке сальную свечу в оловянном шандале и поставил ее на большой грубый стол, сколоченный из неровных толстых досок. Желтое пламя свечи тускло и бедно осветило большую комнату с каменным плитным полом, с широкою белою печью, с постелью у стены и высокими ширмами, за которыми стояли кровати дежурных при арестанте офицеров. Единственное окно было замазано известкой и тускло светилось в глубине покоя. Сырой смрад остававшейся долгое время пустою и непроветренной комнаты встретил арестанта.
– Ну вот ты и опять дома, – сказал Чекин. – Садись… Отдыхай… Когда только ты нас совсем развяжешь?..
Гарнизонный солдат принес корзину с вещами Власьева и Чекина и поставил ее за ширмы. Было слышно, как у наружной двери разводящий ставил часового на пост.
Обед был хороший и обильный, из пяти блюд. К обеду подали бутылку вина, три бутылки полпива и квас. Такое довольствие было установлено для «безымянного колодника» еще императрицей Елизаветой Петровной. С арестантом за один стол сели Власьев и Чекин. Они мало обращали внимания на арестанта, молчали и иногда перекидывались пустыми, ничего не значащими словами.
– Солона что-то сегодня солонина, – скажет Власьев.
– Пей больше пива, – ответит Чекин.
– Да, Лука Матвеевич, вот и мы с тобой ровно как арестанты, который год и безо всякой с нашей стороны вины.
– А на нем, Данила Петрович, нешто есть вина?..
– Про то никому ничего не известно, – вздохнул Власьев и молча стал цедить из глиняного кувшина в оловянную кружку холодное пенное пиво.
От замазанного окна так мало света, что и днем в высоком железном шандале горит свеча. Пахнет обедом, луком, пригорелым салом. На углу стола лежат одна на другой принятые для обеда в сторону книги в тяжелых желтых телячьей кожи переплетах: Евангелие, Апостол, Минея, Пролог, Маргарита и толстая, растрепанная, пожелтевшая бухлая Библия. Арестант косит глазом на книги и молчит. Он ждет ночи, когда уйдут за ширмы его стражи и он останется один со своими странными, ему одному понятными и никогда до конца не додуманными мыслями.
В семь часов вечера подавали такое же обильное «вечернее кушанье», к девяти часам прибрали посуду, стали собираться на ночь. Сквозь окно чуть слышно было, как барабанщик на «габвахте» у караула бил вечернюю «тапту». Потом мертвая тишина наступила в крепости. Еще возились некоторое время, укладываясь за ширмами, офицеры. Чекин скреб ногтями волосатую грудь, и слышно было, как звенели медный крест и иконы на гайтне. Власьев сурово и наставительно прошептал:
– Нельзя так, Лука Матвеич, никак сего не можно. Присягу ведь принимали… По присяжной нашей должности молчать мы должны, вида ничему не показывать.
Чекин ничего не ответил, только глубоко и тяжело вздохнул.
Могильная, жуткая тишина сомкнулась над арестантом. В тазу с водой низкое пламя ночника металось, и от него на темном сводчатом потолке желтый круг ходил.
Арестант лежал на спине и с широко раскрытыми и ничего не видящими глазами слушал тишину. В эти ночные часы шла в нем какая-то неизъяснимо дивная работа мысли, и он вдруг становился действительно принцем. В углу поскреблась мышь и затихла, притаилась. Торопливою, деловитою побежкой прошмыгнула по полу крыса и скрылась в норе. Арестант вспомнил то, что видел так недавно и что было несомненно из его волшебного, преображенного существования. Только было это или опять только приснилось, чтобы навсегда исчезнуть, без возврата?.. Он куда-то ездил – это было несомненно. Он точно и сейчас ощущал мягкое колыхание лодки и точно прохладный шелест раздвигаемой веслами воды. Он слышал топот конских ног и покряхтывание телеги, и у него и посейчас не перестали ныть ноги и руки и болеть спина от напряженного неудобного положения в темной конурке. Он помнит смолистый лесной дух и ночлеги в тесных вонючих избах, где люто ели его клопы. Это было. Но была ли точно эта прекрасная женщина, которая сидела у окна спиною к свету и говорила так, как императрица?.. И властный голос ее в то же время звучал ему как удивительная, полная колдовских чар музыка. Сколько лет – да вот как пришел в возраст – никогда ни одной женщины не видал, и снились они ему только в удивительных, несказанно прекрасных снах под утро. Снились такими, какими читал о них в Библии, смуглыми, темными, прекрасными и страшными. Та женщина, которую он видел, будто боялась его и хотела от него выпытать тайну его раздвоения, и ему так хотелось все ей сказать, и он почему-то не посмел.
«Нас два… – думал он теперь, и все так ясно казалось ему в могильной тишине тюрьмы. – Я – принц… Большой принц… Такой большой и страшный, что и она его боится… Он вовсе не умер, тот принц, это я нарочно только сказал, пожалев ее. Тот принц жуткий – его нельзя трогать. Я сказал ей, что я только Григорий… Я хочу в монастырь…Там все-таки люди и там можно – власть!.. Митрополитом быть… А это власть!»
От мыслей перешел к шепоту и тихо сказал: «Власть…» Точно вдруг увидел то, что видел раз, давно, давно на крайнем севере и что навсегда поразило его. Старика в лиловой мантии в золоте и с жезлом. Шептал, восхищенно, вспоминая и путая слова. «Виждь, Господи, виноград сей… Благослови… И утверди… Его же насади десница Твоя… Десница!..» И в душе невидимый прекрасный хор стройно пропел: «Исполла ети деспота!» Так это было хорошо! Сильно заворочался и громко сказал со страстью – «власть!..».
– Чего ты, – проворчал за ширмами Власьев, засветил свечу и вышел к арестанту.
Арестант закрыл глаза и притворился спящим.
– Духота какая, – сказал Власьев, поставил свечу на стол и прошел в коридор, настежь раскрыв двери на двор. Сырой, осенний воздух, пахнущий водою и прелым листом, потянул со двора. И там была все та же томительная тишина. Точно время остановилось – такой покой был кругом. Вдруг и так неожиданно, что сердце у арестанта мучительно забилось и мурашки побежали по телу, часы на колокольне пробили три удара, и сейчас же раздались тяжелые мерные шаги. Звякнуло точно совсем подле ружье, и кто-то осипшим голосом спросил:
– Что пришел?..
Другой голос ответил как-то успокоительно:
– Тебя с часов сменить.
– Что приказ?..
– Не спать, не дремать, господам офицерам честь отдавать.
– Что под сдачей?..
– Тулуп, да кеньги, да еще колодник безыменный.
– Какова обязанность?..
– Колодника никуда не выпускать и к нему никого не допускать, ниже не показывать его никому сквозь окончину или иным образом.
Голоса людей, которых арестант никогда не видал и видеть не мог, казались не людскими, не здешними, страшными и роковыми.
Брякнули, зазвенев кольцами медных антабок, мушкеты. Чей-то страшный голос скомандовал:
– Смена, ступай!
«Tax, тах», – застучали тяжелые шаги по камням, задвоились эхом и замолкли, умерли, ушли в то же небытие, откуда пришли. Хлопнула дверь, другая, Власьев вошел в камеру и, позабыв о свече, прошел за ширмы. Деревянная кровать под ним заскрипела, и опять – тишина…
Время замерло…
Арестант медленно и осторожно поднимается с постели, ловкими кошачьими, неслышными, крадущимися движениями достает Библию и сейчас же отыскивает в ней то место, что так сладостно мучает его по ночам.
«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь имени тая»…
Сегодня слова эти полны особого смысла. Он видел ту, про кого так написано. Про нее сказали – государыня!.. Именно, точно: «дщерь именитая»… Он видел ее, теперь он, наверно, знает, что видел, что говорил с нею… Зачем стеснялся?.. Ей бы надо было сказать все то, что тут написано и что давно он выучил наизусть.
«Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искуснаго художника. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями, два сосца твои, как два козленка, двойни серны, шея твоя, как столп слоновой кости, глаза твои озерки Есевонския»…
Он тихо гасит свечу и ложится в постель. Сладостный ток бежит по телу, кружится голова, смыкаются глаза, и видения окружают его. То другое «я» просыпается теперь, и уже нет больше жалкого, забитого колодника Григория.
– Чего ты там ерзаешь и пыхтишь, как на чертовке словно ездишь, опять за прежние шалости принимаешься!..
Грубый голос из-за перегородки будит арестанта.
Мутный свет утра через белое окно пробивается. На потолке все так же однообразно и уныло ползает отсвет пламени ночника. Из-за ширмы выходит Чекин, кафтан накинут на опашь на плечи, в зубах трубка сипит и вспыхивает красным огнем. Он потягивается, подтягивает рукою штаны и выходит в коридор.
Арестант поднимается с постели. Он вдевает худые ноги в туфли и встает, опираясь на стол. Маленькая голова на очень тонкой шее гордо поднята, широкий лоб низко спускается к словно детскому лицу, смыкаемому острым подбородком с клочьями давно не бритой рыжеватой бороды. В серых глазах горит злобный огонь. Он вовсе не арестант – он принц, тот принц, про которого говорят, что он умер, но который никогда в нем не умирал. Он резко и сердито кричит:
– Данила Петрович!.. Данила!.. Данила!..
Из-за ширмы появляется заспанная фигура в халате капитана Власьева, и в то же время в коридор с зажженной свечой возвращается Чекин.
– Ну чего ты орешь, скажи на милость? – грубо говорит Власьев.
– Ч-то это?! Ч-то э-э-это? – со слезами негодования на глазах, сильно заикаясь, говорит арестант. – Э-э-эт-тот человек на меня к-к-крич-чал… К-к-как он с-смее-т!..
– Он услышал, что ты не спишь, когда все добрые люди спят… Сколько раз я тебе сказывал, тебе надо быть кротким… Смириться тебе надобно… Гляди – ночь еще, а ты шебаршишь тут… Всех переполошил… Ложись спать.
– Еретик, – сердито рычит арестант и смотрит в упор на Чекина. Потом обращается опять к Власьеву, в его глазах горит огонь, в голосе власть: – Ты знаешь!.. Ты того… Уйми ты мне его… Чтобы он меня вовсе оставил… А то!.. Ты з-з-знаешь!.. Я ведь и могу…
Чекин подступает к арестанту.
– Ну что я тебе сделал?.. Ну, скажи толком, в чем я перед тобою виноват оказался? Зря жалуешься, сам не знаешь на что.
– Он меня портит.
– Э, пошел!.. Опять за свою дурость. Ну, скажи, пожалуй, чем я тебя портить могу?..
– Данила Петрович, как зачну засыпать, а он тотчас зашепчет, зашепчет… Станет дуть на меня… Изо рта огонь и дым… Смрад идет… Н-не м-могу я…
– Э, дурной!.. Это, Данила Петрович, он на меня серчает через то, что я иной раз табаком при нем балуюсь.
– Ты его, Данила Петрович, у-уйми… А то хуже чего не было бы… Уйми ты его мне… А т-то я е-его б-бить как зачну…
– Ну, это мы посмотрим… Какая персона!.. Подумаешь… Арестант.
– Не смеешь ты, с-свинья, так г-говорить.
– Сам видишь, Данила Петрович… Нешто я что делаю. Сам заводит.
– Ну, оставь его… Охота ночью шум поднимать.
– Да кто он у нас такой?.. Арестант… Плюнуть, так и слюней жалко.
– А, так!.. Ты так с-смеешь говорить!.. Я кто?! Я здешней империи п-п-принц… Я г-г-государь ваш.
– Ну что ты вздор городишь, – строго сказал Власьев, – откуда ты такое слыхал?..
– О-о-от р-родителей.
Лютой, неистовой злобой горят глаза арестанта, он сжимает кулаки, выскакивает в одном нижнем белье из-за кровати и бросается на Чекина. Тот спокойно отводит поднятые на него руки и так кидает арестанта, что тот падает на постель.
– Господи, – захлебываясь слезами, кричит арестант, – Господи, да что же это такое делается?.. А будь ты проклят!.. Проклят!.. Последний офицеришка меня толкает!.. Господи… В монахи!.. В монастырь меня скорее… В монастырь!..
– В монасты-ырь, – насмешливо тянет Чекин. – В монастырь?.. Кем ты там, дурной, будешь?..
– Ангельский чин приму… Мит-троп-политом стану.
– Ты?.. Митрополитом?.. Загнул, братец!.. Смеху подобно… Ты имени-то своего подписать не можешь, понеже и имени своего не знаешь… Туда же – митрополитом!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































