Текст книги "Императрицы (сборник)"
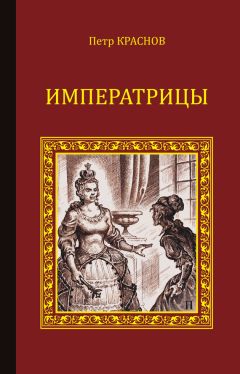
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 52 страниц)
Великая княгиня не настаивала. Она знала упрямство своей горничной. Она лежала на спине. Затылок неловко упирался в жесткие подушки. Пальба продолжалась. Каждый выстрел был новым мучением, и конца, казалось, им не будет. Штора на окне бледнела – новый день наступал. Холодом тянуло от окна. Нога от бедра и до щиколотки ныла от ревматизма и мешала уснуть. За дворцом по улицам и по двору гремели кареты. По Фонтанке лодки шли, и мелодичен был ритмичный всплеск весел. Петербург съезжался ко дворцу принести поздравления с радостным событием. Великая княгиня одна оставалась вне этого события. Ею никто не интересовался. И так прошло три часа. Стал день. Через поднятую Владиславовой штору было видно серое небо и деревья сада с редкими желтыми листьями на черных сучьях.
Гофмейстерина Шувалова в парадной, красной шумящей робе, с громадными фижмами, счастливая, расфуфыренная и, Екатерине Алексеевне показалось, хмельная пожаловала в горницу к роженице. Екатерина Алексеевна пожаловалась ей на все свои неудобства.
– Боже мой, – воскликнула Шувалова, – да вас так могут совсем уморить.
Но и она не решилась что-нибудь предпринять без бабушки. Шурша платьем и задевая фижмами за кровать, она пошла за фон Дершарт. И еще прошло полчаса. Бабушка, разодетая, нарядная, шумящая фалболами и пьяная, явилась к Великой княгине. Она сейчас же стала оправдываться:
– Ах, Ваше Высочество, – по-немецки говорила она. – Ach lieber Gott!.. Я никак не могла раньше прийти к вам. Ее Величество были при ребенке. Я не могла их покинуть. Ganz unmoglichl[23]23
Ах, Боже мой… Совершенно невозможно.
[Закрыть]. Великий князь маленькую пирушку устроил… Помилуйте – такая радость.
И никто, никто не подумал, кто же виновник всей этой радости, никто не побеспокоился устроить виновницу такого торжества поудобнее! Ее забыли.
– Великий князь придет ко мне?.. – спросила Великая княгиня, устраиваясь в постели и принимая из рук Владиславовой кружку с питьем.
– Ach lieber Gott… Ну, натурально, я побегу сказать ему, что теперь это можно.
И опять долгие часы Великая княгиня была в одиночестве. Только шумы дворцового пира доносились до нее. Когда уже стало темнеть и надо было зажигать свечи, прибежал Великий князь. Он был ребячески счастлив, оживлен и сильно пьяный. Да, он был очень рад, безумно счастлив и доволен… Тетя исполнила его заветное желание. У него будут в Ораниенбауме наконец свои солдаты. Свое собственное войско – голштинцы!.. Он сам будет ими командовать, устраивать им парады и маневры.
– Ваше Высочество, это не лакеи!.. Не деревянные солдаты… Вы это понимаете?.. Настоящие солдаты! И я буду их муштровать по-своему… И барабан бьет там-там-там-та-там… Тррр…
Он хотел принести в спальню барабан и показать, как он будет бить в него перед голштинцами.
– Это, Ваше Высочество, не русские какие-нибудь, это голштинцы… Дисциплина и выправка!..
Он, казалось, совсем позабыл, что у его жены только что родился сын, что это его сын и что это его милая, прелестная жена, только что оправившаяся от мучений родов, лежит перед ним. Он об этом не думал…
VIIИ потянулись дни выздоровления, полные оскорблений и унижений. Великая княгиня так и не видела сына. Государыня как завладела ребенком, как унесла его в свои покои, так и не приносила его к матери. И уже дошли, через милых фрейлин, конечно, петербургские «эхи», распространяемые в посланнической среде иностранцев, падких на всякую скверную для России выдумку, что будто бы подменили ребенка, что родила не Великая княгиня, но сама государыня от Разумовского… Потому-то государыня теперь и держит ребенка у себя, не отдавая его Великой княгине…
Было очень скучно в эти осенние дни. Великая княгиня хотела видеть друзей, и прежде всего Салтыкова, – их к ней не пускали. Наконец пришел граф Захар Григорьевич Чернышев и по секрету сказал, что по высочайшему повелению Салтыкова отправляют в Швецию с известием о рождении Великого князя Павла Петровича и что ему невозможно прийти к Великой княгине.
«Но этим только усугубляют неосновательность сплетни и подозрения», – подумала Великая княгиня, но ничего не сказала Чернышеву. Она улыбнулась ему, и много тихой грусти было в ее улыбке. Кирилл Григорьевич Разумовский, как только его допустили, явился с большой игрушкой – «девизом» – мохнатым зайчиком над барабаном, и Великая княгиня невольно подумала, уж не намек ли то на ее супруга?
Двадцать пятого сентября были торжественные крестины ребенка. Восприемницею от купели была означена Мария-Терезия – австро-венгерская императрица и королева. Но самым мучительным днем для Великой княгини было первое ноября, когда было назначено принесение поздравлений иностранных послов. Если и были какие-нибудь раньше надежды – ну, хотя бы просто на чудо, на то, что Великая княгиня когда-нибудь будет царствовать одна – в этот день в каждой речи, в каждом поздравительном слове эти надежды разбивались, рассеивались и уничтожались.
Все было, как всегда, когда принимали иностранцев, очень парадно и торжественно. В этот день Великая княгиня наконец увидала своего сына, виновника того, что рушились ее «воздушные замки». Ребенка поместили подле нее в золоченой колыбели, в кружевах и лентах. Он был прелестен. Великая княгиня искренно восхищалась им, но восхищение ее было не материнское, материнского чувства она к нему не испытала.
В парадном алом шлафроке из атласа, выкладенном белыми брабантскими кружевами, в широком собольем палантине, причесанная и завитая, с длинными локонами, спускающимися мимо ушей, надушенная, необыкновенно похорошевшая после родов, с бриллиантовой малой короной в волосах, Великая княгиня поместилась несколько позади колыбели в широком золоченом кресле. За нею стали ее камер-юнкеры Нарышкин и Дараган. Они должны были отвечать за Великую княгиню на приносимые поздравления.
В первом часу в покои «шествием» в сопровождении чинов двора проследовала государыня и села в кресло рядом с Великой княгиней. Церемониймейстер пошел приглашать послов и посланников «чинить» поздравления.
Первым от имени крестной матери, Ее Императорского и Королевского Величества на немецком языке говорил речь римско-императорский камергер и директориальный надворный советник граф Цинцендорф.
– Милостивейшая государыня, – напыщенно и красно говорил он. – Рождением России принца исполнили вы желания подданных ее народов и Августейшей их Самодержице подали причину к несказанной радости. Ваше Императорское Высочество взошли ныне на верх благополучия своего, в котором союзные державы одна перед другою с большим усердием соучастною себя показать стараются. Но между всеми, кои о славе и благосостоянии сей империи усердствуют, никто столь искренно и по обязательствам только сходного взаимной пользе союза, вам, Милостивейшая государыня, не предан, как Их Величества Римский император и Императрица-Королева!
Он говорил о том, что «их Величества усерднейше желают, дабы Всевышний сохранил сей первый общего благополучия залог и притом уповают, что вы, Милостивейшая государыня, умножите оное произведением на свет еще и других Августейшему сея державы престолу подпор…»
Великая княгиня слушала все это, с трудом удерживая на своем лице официальную благосклонную улыбку. Ее сердце разрывалось от всех этих слов и пожеланий на части. Ей казалось, что она обманута. Не на то она училась, не на то она так страстно полюбила эту громадную Россию, чтобы производить все новые и новые подпоры престолу, который сама она хотела занять.
Дараган смело и уверенно говорил сзади нее по-немецки:
– Государыня Великая княгиня с крайнею благодарностью уведомилась о благосклонных Их Величеств императора и императрицы римских сентиментах по случаю рождения Великого князя Павла Петровича. Ее Императорское Высочество не может сомневаться, чтобы сей принц, когда придет в совершенный возраст, не вступил в степени предков своих и паче всего, исполняя намерения и повеления императрицы, своей Самодержицы, не употребил всевозможное старание к всегдашнему утверждению счастливого обеих империй союза…
Граф Цинцендорф говорил приветственное слово государыне, и на него за государыню отвечал Бестужев-Рюмин. Потом говорилась речь Великому князю, на эту речь отвечал Нарышкин.
Косые, осенние, золотые солнечные лучи низали комнату и казались Великой княгине печальными. Рядом с залой звенели посудой. И когда уже на французском языке прозвучала – и все на ту же тему, что Великая княгиня исполнила свой главный и единственный долг перед Россией и родила сына, – последняя речь, в зало вошли вереницей придворные лакеи и стали обносить гостей шампанским в хрустальных бокалах и устанавливать на серебряных подносах чашки китайского «порцелина» с чаем.
Стоя пили шампанское. Из соседней комнаты доносилась сладкая и нежная музыка – играл итальянский квартет.
Недавно прибывший к Русскому двору английский резидент Вильямс, маленький, толстый, с красным носом-пуговкой, в алом, шитом золотом кафтане, в белых панталонах и чулках, бесцеремонно громко, так, что Великая княгиня могла слышать, на грубом французском языке говорил французскому послу:
– Elle est superbe!..[24]24
Она восхитительна!..
[Закрыть] З-зам-мечательна!.. Какая тонкая красота! Какие очаровательные манеры! Она сделает честь любому трону. Совсем европейское воспитание. Мне говорили, она со дня своего приезда в Россию старалась заслужить любовь народа…
– Теперь ей это более не нужно. Она сыграла свою роль.
– Н-ну!.. Кто знает. Мне говорили, что она старательно применялась ко всем странным и грубым обычаям страны и изучала русский язык. Мне даже сказали, что она на нем говорит.
– О да!.. В совершенстве.
– Положительно у нее талант царствовать.
– Теперь – кончено… В наследниках государыне недостатка нет.
– Вы думаете?..
– Какой очаровательный малютка…
– О, yes!..[25]25
О да!..
[Закрыть]
По утрам Екатерина Алексеевна оставалась одна. Это были часы раздумья, планов, писем, чтения. Переписка у нее была большая – с Гриммом, Вольтером, Дидеротом.
Из Франции ей писали о свободе… Она должна освободить крестьян. Она читала эти письма и задумывалась. Картины недавнего прошлого вставали в ее памяти. Десять полков малороссийских казаков на поле у Есмани. Голос точно сонный, чуть в нос, поющий что-то, чего она не понимает и чему весело и заразительно смеется государыня. Золотое облако высокой пыли над бесконечными колоннами конных казаков. Кочевья, шатры, степь и бездна услуг какого-то «простого» народа, без которых не проживешь и дня в этих прекрасных и жутких степях. Вольтеры и Дидероты этого не знают. Если тех освободить, на кого обопрется она?.. Жалость… Ни жалости, ни чувства. Жалость и чувства не нужны государю. Нужно быть – как герои древности.
Она перелистывала «Всеобщую историю» Вольтера, она изучала, делая выписки, «Дух законов» Монтескье, хваталась за «Летопись» Тацита во французском переводе… Она проникалась духом истории.
Им дать свободу? Государыня Елизавета Петровна могла это сделать – ей никого не было нужно, кроме солдат. Она сама была цесаревна, дочь Петра Великого, русская до мозга костей, обожаемая всеми простыми людьми… Великой княгине нельзя этого. Народ ее не знает. Для народа она – немка. Она чужая ему. Она опирается совсем на других людей, и для этих других людей она должна пожертвовать свободой простого народа. Надо уметь различать главное от не главного, надо найти таких людей, кто поймет ее и, поняв, вознесет.
Надеяться на государыню было нельзя. Не та государыня стала. Она по-прежнему не любит своего племянника, «чертушка», «урод» – не сходит у ней с языка, но наследник Павел Петрович – Пуничка – все для нее. Он затмил, вытеснил из сердца государыни Великую княгиню-мать. Екатерина Алексеевна вспоминала то, что было, когда она только что приехала в Россию, как со смехом и шутками русские девушки, по повелению государыни, в Риге закутали ее в драгоценную соболью шубу, как, когда она уезжала из Москвы, сама государыня накинула ей на плечи дорогой горностаевый палантин, сняв его со своего плеча. Екатерине Алексеевне никогда не забыть той доброй и милой усмешки, какая была тогда на лице разрумянившейся от мороза императрицы. А какие подарки она получила в день своей свадьбы! Ей совестно было получить все эти драгоценности – она их тогда не заслужила… Теперь, когда она исполнила все то, чего желала от нее государыня, она получила такое колье, какое ей стыдно было бы подарить своей горничной. Государыня разлучила ее с сыном, точно недостойной считает мать растить наследника Российского престола. Когда встречается государыня с Великой княгиней, голубой огонь любви и ласки не горит больше в ее прекрасных глазах. Смотрит государыня хмуро, подозрительно, точно говорит со свойственной откровенной грубоватостью: «Теперь ты нам больше не нужна… Зачем ты еще здесь?..» А в серо-синих глазах Великой княгини, после родов ставших особенно прекрасными, так и горит задорный пламень: «Нет… Здесь я буду царствовать одна… Одна!.. Одна!..» И точно читает государыня самые сокровенные мысли своей племянницы, хмурит соболиные брови, сердито молчит, и сквозь молчание это Великая княгиня слышит упрямый и гневный голос государыни: «Не будешь!.. Не будешь!.. Не будешь!.. Кто ты?.. Ты – немка, а он – правнук Петра Великого – Павел Петрович! Не будешь… Народ тебя не допустит…»
Бестужева и Алексея Разумовского нет больше при государыне, при ней другие люди – Шуваловы и Панины, они не друзья Великой княгини, и им нельзя довериться.
Надо снова искать людей и опираться на тех, кто недоволен. Нет, при таких временах разве можно думать об освобождении рабов… Рабы нужны господам, а господа нужны ей… Ей не на кого больше опереться, как на тех людей, кого она сама себе сделает друзьями…
День проходит в придворной сутолоке. Каждый день что-нибудь да есть: куртаги, карусели, приемы посланников, балы и обеды, хочешь не хочешь, а появляться на них надо, это ее долг, долг Великой княгини. Но вечера с тех пор, как стала прихварывать государыня, у Великой княгини свободны. На половине Молодого двора собираются «свои» люди.
В маленькой голубой гостиной на ломберном столе горят две свечи по углам. В гостиной полумрак. На столе мелки, щеточки с перламутровой выкладкой и карты. Голоса тихи и точно ленивы.
– Ваше Высочество, вам сдавать.
Приятно скользки и холодны свежие карты. Синий и розовый крап веерами ложится на зеленом сукне.
– Так-то, Ваше Высочество.
– Да, так, Алексей Петрович…
Кто там вздыхает в темном углу?.. Чьи темные маслянистые глаза не сводят упорного взгляда с оранжево-освещенного свечою прелестного лица Великой княгини?..
– Что это, Кирилл Григорьевич?.. Вы там, что ли?..
– Я, Ваше Высочество. Простите, вошел без доклада. Увидал, вы сели за карты, не хотел вас беспокоить.
Они каждый день. Они не выдадут. Они думают то же, что и она. Вот среди кого ей надо искать тех, кто поможет ей осуществить намечающиеся планы. Этим людям нужны рабы. Без рабов они ничто. Как же освободить рабов? Вольтер, быть может, и очень умный человек, во всяком случае никто так не умеет льстить, как он. По-французски тонко. Но он, как француз, ничего не понимает и понять не может в русских делах.
– Я – пас, Алексей Григорьевич…
Ясновельможный малороссийский гетман и президент Академии наук Кирилл Григорьевич Разумовский должен сопровождать Великую княгиню на научное заседание.
В нарядной «адриене», темной, изящной, прекрасно сидящей на Великой княгине, прелестная, очаровательная, сопровождаемая академиками в париках, Великая княгиня проходит в первый ряд и садится посередине между Разумовским и великобританским послом.
Когда кончилась конференция, Великая княгиня подошла к академику Миллеру и сказала ему по-русски:
– Премного благодарствую вам, сударь, за великое ума наслаждение, мною ныне испытанное.
Академики окружили Великую княгиню. По обычаю, в этот день Разумовский «трактовал» в академии знатных персон и всех членов и профессоров академии.
Через музейные залы посланник Уильямс повел под руку Великую княгиню.
– Ваше Высочество, – по-французски за обедом говорил Уильямс, – в такой необычной обстановке я имел случай видеть вас сегодня. Ныне я понял слова канцлера о вас: ни у кого нет столько твердости и решимости, как у вас, Princesse.
Великая княгиня внимательно и строго посмотрела в глаза посланника. Намек?.. Испытание?.. Выпытывание?.. У посланника бесцветные глаза, точно оловянные пуговицы, и нос покраснел от темной и густой испанской малаги.
– Экселенц, я вас не понимаю.
– О вашем уме и воле, Princesse, говорят везде. Даже ваш августейший супруг мне совсем недавно говорил: «Я не понимаю дел голштинских, моя жена отлично во всем разбирается». Сейчас я любовался вами на этом ученейшем заседании.
– Это мой долг.
– Ваше Высочество, я давно наблюдаю вас. Мне так понятно все то, что вы должны переживать теперь. Печаль – украшение жертв.
– Но я совсем не печальна. – Великая княгиня подняла брови и насторожилась. – Никто меня не назовет грустной.
– Вы умеете владеть собою. Но, Ваше Высочество, позвольте мне сказать вам, как вашему другу и как другу вашей прекрасной страны: тайные интриги и затаенное огорчение не достойны ни вашего положения, ни светлого вашего ума. Кругом вас, к сожалению, слабые люди. На их фоне характеры решительные всегда внушают уважение. Princesse, вам ли стесняться?.. Громко назовите тех, кому вы оказываете расположение и доверие, покажите всем, что вы почтете за личное оскорбление, если что-нибудь предпримут против вас, – и вы увидите, как все покорится вам и пойдет за вами.
– Эксцеленц, я вас не понимаю. Изъяснитесь яснее.
– Извольте, Princesse. Государыня больна… Она очень больна и только из женского тщеславия не хочет этого видеть… При таких обстоятельствах зачем вы отталкиваете графа Станислава Понятовского?.. Он без меры предан вам. Он может быть вам полезен.
– Оставьте, пожалуйста… – Екатерина Алексеевна вспыхнула, и голос ее дрожал. – Не забывайте, что я жена моего мужа. Граф Понятовский иногда позволяет себе забывать об этом.
Великая княгиня отвернулась от английского посла и заговорила по-немецки с академиком Миллером. За бойкою беседою на философскую тему она не могла прогнать досадной мысли: «Ужели эти люди не только ищут альковных сплетен, но умеют заглядывать и в тайники ее души, читают ее сокровенные мысли?»
Граф Кирилл Григорьевич ловким маневром отправил гофмейстерину Великой княгини на вельботе английского посла, саму же Великую княгиню усадил на голубые подушки своего атаманского катера.
– Уф, Ваше Высочество!.. Ну и испытание!.. Томительное заседание… И как было душно!.. Все латынь!.. Ни слова по-русски – русская академия!
– Везде так, Кирилл Григорьевич, – с кротостью сказала Великая княгиня, – латынь – язык ученых. А вот нехорошо, что вы спать изволили во время заседания.
– Да разве, Ваше Высочество, то было приметно? Я со стыда сгораю. Это я речь свою обдумывал, и как-то было трудно.
– Но почему?
– Позвольте изъяснить вам это последним стишком нашего досточтимого Михаила Васильевича Ломоносова.
– Каким еще стишком? На вас не похоже стихами изъясняться.
– Стишком – «Разговор с Анакреоном».
– Eh bien[26]26
Ну.
[Закрыть].
– Вы разрешите?
Мне нет было о Трое,
О Кадме мне бы петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть.
Я гусли со струнами
Вчера переменил
И славными делами
Алкида возносил.
Да гусли поневоле
Любовь мне петь велят,
О вас, герои, боле —
Прощайте – не хотят…
В голосе Кирилла Григорьевича звучали неподдельная любовь и тоска.
– Вы меня поняли, Ваше Высочество? Не легко мне было говорить льстивые и лестные слова немцам академикам, когда Ваше Высочество персонально здесь быть изволили.
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть.
– И все-таки вы будете по своему обыкновению молчать.
– Да, Ваше Высочество, буду молчать, ибо как смею я сказать то, что так давно хороню в самой глубине своего сердца?
Катер мягко взлетает на невские волны. Шипит под носом волна, гнутся длинные распашные весла в руках у сильных гребцов. За кормою шелестит по ветру великокняжеский штандарт и полощет концом по крутящей, будто кипящей воде.
Великая княгиня молчит. Да, он любит… давно и крепко любит и потому и молчит, что очень сильно любит… А любовь, разве не сила, не то орудие, которое может в нужную минуту?..
– Послушайте, Кирилл Григорьевич, скажите мне… Что за охота была вам… помните, в то сумасшедшее лето, когда мы все жили в Раеве, у Чоглоковых, под Москвою, приезжать к нам из своего Петровского каждый день? Это было вам, должно быть, очень утомительно… И у нас была такая скука. Все те же люди и те же разговоры и шутки, мы так надоели друг другу. У вас же, в Петровском, я слышала, каждый день бывали новые люди, множество гостей, и все самого лучшего московского общества.
Гребцы навалились, давая последний разгон лодке перед причаливанием. Загребной откинулся далеко назад.
– Да гусли поневоле любовь мне петь велят, – чуть слышно сказал Разумовский. – Я был тогда влюблен.
– Что вы?.. Да в кого же могли вы быть влюблены у нас?..
С деревянным стуком гребцы выбрали весла из уключин. Матрос стал с крюком на носу. Сейчас и пристань.
– В кого?.. В вас!
Екатерина Алексеевна рассмеялась.
– Вот… Не подозревала. Ведь вы тогда уже несколько лет как были женаты и, сколько я слышала, хорошо жили с женою. Вы хорошо умеете скрывать свои чувства.
– Мои чувства, Ваше Высочество, были особого порядка… И они остались неизменными.
Разумовский протянул руку Великой княгине, чтобы помочь ей выйти из катера. Маленькая ножка коснулась бархата подушки, чуть нагнулась лодка. Екатерина Алексеевна оперлась на руку Разумовского и ощутила: тверда рука и не дрожит.
Да – этот пойдет для нее на все…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































