Текст книги "Императрицы (сборник)"
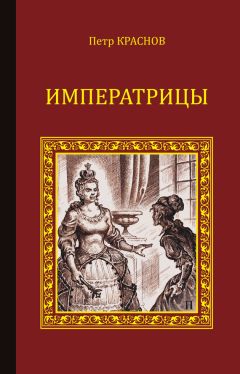
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 44 (всего у книги 52 страниц)
Как только раздался выстрел часового у двери каземата с безымянным колодником и затопотала ногами выбежавшая на выстрел гарнизонная команда, Чекин, спавший с Власьевым за ширмами, вскочил с постели.
Стены каземата были очень толстые, и выстрел и топот ног были едва слышны в нем. Но долголетняя и однообразная служба при арестанте обострили нервы приставленных к нему офицеров, и сон их обычно был чуток и напряжен.
– Данило?.. А, Данило?.. Слыхал?..
Но Власьев уже встал с постели. Оба вышли за ширмы. Арестант спал крепким и спокойным сном. Его дыхание было ровное и тихое. Свеча на столе нагорела, пламя ее колебалось, и странные тени прыгали по белой стене над головою арестанта.
– Посмотри, что там такое?.. – сказал Власьев.
В это время горохом прокатился залп. Арестант вздохнул во сне, но не проснулся.
Чекин на носках подбежал к двери и отодвинул засов.
– Данила, – сказал он, задыхаясь от волнения, – с большою командою сюда идут… Кричат, чтобы наши не палили.
Из темного каземата в приоткрытую дверь были видны волны белого тумана на дворе. Неясные звуки доходили оттуда. Все казалось нелепым сном. Крики команд и говор солдат там не умолкали. Слышно было, как сурово ответили гарнизонные солдаты: «Палить будем…»
– Вот и свобода к нам пришла, – прошептал Власьев.
– Ты что, Данила?
– Я ничего. – Власьев кивнул на арестанта и вынул из ножен тонкую офицерскую шпагу.
Чекин выхватил свою. Он понял сразу Власьева. Арестант продолжал крепко спать.
– Присяжную должность исполним, – прошептал Чекин.
– Погоди маленько, – сказал Власьев. – Посмотри, что там делается?..
– Побежали за пушкой, – торопливо, стоя у дверей, передавал хриплым голосом Чекин. – С бастиона скатывают пушку… Заряжают.
– Тогда… – чуть слышно прошептал Власьев… – Тогда… Действуй!
Он бросился с поднятой шпагой к постели арестанта.
Тот проснулся. Неровным желтым светом было освещено его бледное, одутловатое лицо. Глаза были вытаращены, он простер руки с растопыренными пальцами навстречу Власьеву и захрипел, заикаясь, желая что-то крикнуть. Страшные тени побежали по лицу. Пламя свечи заколебалось. В тот же миг Власьев с силою ткнул его шпагой в шею. Кровь брызнула из раны и оросила белую рубашку арестанта.
– Злодеи, – крикнул арестант и выскочил из постели. – Кого!.. На кого покушаетесь?!
Власьев тонкой, гнущейся шпагой нанес удар в бок. Арестант пошатнулся и привалился к столу. Кровь заливала его. Власьев и Чекин, обезумев от вида крови, стали наносить уколы куда попало. Арестант упал и, хрипя, стал дергать ногами.
– Теперь готово, – сказал Чекин, рукавом стирая пот с лица.
– Дверь отложи, – прохрипел Власьев.
Чекин пошел по узкому коридору к наружной двери и только открыл, как в проход вскочил Мирович с мушкетом в руке.
– Где государь? – задыхаясь, крикнул он.
– У нас государыня, а не государь, – сурово сказал Чекин.
Мирович левой рукой толкнул Чекина в затылок и крикнул:
– Поди укажи государя… Отпирай двери.
– Дверь отперта и так.
Налетевший от хлопанья дверьми ветер задул свечу, и в каземате был густой мрак.
– Принеси, братцы, кто огня, – приказал Мирович. Он левой рукой держал Чекина за ворот, в правой у него был мушкет.
– Другой бы тебя, каналья, давно заколол, – прохрипел он.
– Колоть меня не за что, – хмуро сказал Чекин.
Из кордегардии прибежали с фонарем солдаты. Мирович вскочил в каземат и остановился, мушкет выпал из его рук и с грохотом упал на каменный пол. У стола, в луже черной крови, лежал бледный молодой человек в окровавленном белье. Над ним, спокойно скрестив руки, стоял капитан Власьев.
– Ах, вы… Да что же это вы такое сделали? – хватаясь за голову, закричал Мирович. – Совести в вас совсем нет… Как могли вы невинную кровь такого человека пролить?..
– Какой он человек, – глухим голосом сказал Власьев, – того нам не объявляли… Для нас он только арестант… И поступили мы с ним по нашей о том присяге.
Мирович медленным театральным движением опустился на колени, перекрестился и поцеловал руку и ногу арестанта… Вошедшие за ним солдаты снимали шапки и крестились. Благоговейная тишина смерти вошла в полутемный, едва освещенный фонарем каземат. Унтер-офицер Лебедев распорядился, чтобы тело убитого положили на кровать.
– Несите его за мною, – приказал Мирович.
– Ваше благородие, а с ними как поступить прикажете? – спросил капрал.
– Оставьте их, – с глухим рыданием в голосе ответил Мирович, – они и так никуда не уйдут.
Он шел за кроватью с убитым арестантом. Земля колебалась под его ногами. Всего ожидал он, все, казалось, придумал и предусмотрел, но только не это. Все было сорвано. Карта опять была бита. Он все проиграл. А ставкою была – жизнь… Платить придется… Мертвое тело вынесли из каземата, пронесли через канал и поставили на площади против кордегардии.
– Построиться во фронт, – приказал Мирович.
Молча становились люди караула в четыре шеренги, барабанщик стал на правом фланге. Солдаты были потрясены, они смотрели на офицера, все надежды возлагая на него. В туманном утре была томительная тишина.
Писклов подал Мировичу шапку и епанчу, оставленные в каземате. Мирович надел шапку и вынул шпагу из ножен. Епанчою накрыл по грудь покойника. Красной епанчи он не припас, и государь лежал под простой офицерской голубой епанчой. Потом Мирович вышел перед середину фронта караула и сказал с печальною торжественностью в голосе:
– Теперь отдам последний долг своего офицерства. Барабанщик, бей утренний побудок…
Глухо и коротко прозвучала барабанная дробь.
– Караул, – командовал Мирович, – на пле-е-чо!.. Шай на кра-ул!.. Барабанщик, бей полный поход!..
Барабанный бой, отдаваясь эхом о стены крепости, раздавался в тумане. Мирович отсалютовал шпагой и прошел на правый фланг караула. Когда барабанщик перестал бить, Мирович вложил шпагу в ножны, подошел к убитому арестанту, снял шляпу, перекрестился и, став на колени, поцеловал руку покойника. Глубокая, давящая тишина стояла на дворе. Мирович встал и скомандовал «на плечо» и «к ноге». Он медленно подошел к караулу. Безумными, широко раскрытыми глазами обвел растерянные лица солдат. «Вот все и кончено, – думал он. – Остался еще мой офицерский долг… Смерть так смерть… Казнь так казнь… Они не виновны… Не везло мне в картах – не повезло и в жизни…»
Чувствовал в торжественной тишине неподвижно стоящего фронта нечто зловещее. Видел, как в тупых лицах солдат точно сознание начало проявляться, будто от тяжелого сна они просыпались. На фланге плутонга сержант пошевелился. Мушкетер перебрал пальцами по погонному ремню. Сейчас все и будет кончено.
– Вот, братцы, – протягивая руку к постели с арестантом, тихо сказал Мирович, – наш государь Иоанн Антонович. Ему ничего больше не надобно. Не нужно ему и государства.
Мирович перевел дыхание. Солдаты шевелились во фронте. Мирович понимал – конец его наступал.
– Ныне мы не столь счастливы, – продолжал Мирович, – как бессчастны… А всех больше за то перетерплю я. Вы не виноваты. Вы не ведали, что помыслил я сделать. Я уже за всех вас ответствовал и все мучения на себе сносить должен… Простите меня, братцы.
Глухое молчание было в карауле. Сняв шапку, Мирович подошел к правофланговому мушкетеру и троекратно поцеловал его. Целуя так каждого солдата, Мирович обходил шеренгу за шеренгой весь фронт. Послышались тихие всхлипывания, солдаты плакали. Мирович подходил к четвертой шеренге. Строя уже не было. Люди смешались в толпу. От этой толпы отделился капрал Миронов – самый преданный человек был он Мировичу – и, зайдя сзади офицера, схватил его шпагу.
– Нет… Нет, Миронов, что ты?.. – растерянно сказал Мирович. – Шпагу я сам… Коменданту… Как же так?.. Солдат?.. Ты солдат?.. Я сам… Сам…
Миронов его не слушал. Он отцепил шпагу и понес ее к комендантскому дому.
Как только в комендантском доме узнали, что безымянный колодник убит – часовые, приставленные Мировичем к полковнику Бередникову, освободили его, тот привел себя в порядок, надел кафтан и послал в форштадт к командиру Смоленского полка, полковнику Римскому-Корсакову за «сикурсом».
Было раннее летнее утро. С голубого неба солнце золотые лучи на землю посылало. Туман, клубясь кверху, поднимался, и становилось светло и радостно. В этом утреннем свете серокаменные и кирпичные постройки крепости казались не такими безотрадными. На верках, в березовой аллее бриллиантами загорались мокрые листья деревьев. Там весело и радостно пели и гомонили птицы.
Через канал на лодках подходил «сикурс». Римский-Корсаков с секунд-майором Кудрявым, поручиком Васильевым и прапорщиком Жегловым с двадцатью тремя рядовыми смоленцами спешили к комендантскому дому.
Они пошли с Бередниковым на крепостной двор. Последние остатки ночного тумана съедались солнцем. Косые золотые лучи ласково скользили по кровати, на которой лежал на спине окровавленный покойник, накрытый синей офицерской епанчой. Сзади кровати толпою стояли, понурив головы, вооруженные люди смоленского караула. От этой толпы отделился невысокий офицер без шпаги с бледным лицом и пошел нетвердым шагом к командиру полка. Остановившись в четырех шагах от него, как для рапорта, он резким движением сорвал с головы шапку и сказал ломающимся хриплым голосом:
– Быть может, вы не видели живого императора, нашего Иоанна Антоновича, – смотрите ныне на мертвого… Он уже не телом, но духом всем кланяется.
Бередников с кровавым шрамом на голове, злой и раздраженный бросился на Мировича, сорвал с него офицерский знак и крикнул караулу:
– Под стражу его!.. В караул!..
Солдаты безмолвно сомкнулись вокруг офицера и повели его в кордегардию.
Началось следствие.
Императрица Екатерина Алексеевна вторую неделю путешествовала по Лифляндии. Как не походило это путешествие на те кочевья, которые совершала она с покойной императрицей Елизаветой Петровной по югу России и Малороссии. Там были гомон и шум больших становищ, спанье в шатрах на матрацах, положенных на землю, свежий воздух утра, пение птиц, долгие сборы, неудобные телеги с теми же матрацами и подушками, множество людей кругом, дымы костров, шумные обеды на зеленой мураве, песни песельников, ржанье лошадей и природа кругом.
По Лифляндии императрица ехала в удобной венской карете, на висячих рессорах, от именья к именью, от замка к замку. Иным постройкам было более двухсот лет. Каменные дома хранили уют целых поколений. Раскрывались тяжелые ворота, и за ними были прекрасные парки с тенистыми аллеями столетних лип и дубов, богатые цветники пестрым ковром расстилались подле входа. Императрицу после торжественной встречи вели в ароматную прохладу комнат, где все было приготовлено для ее отдыха и работы. На мызе «Большой штроп» Фитингофа, где был «ростах», императрице показывали образцовое молочное хозяйство и сыроваренный завод. В громадном мызном стодоле государыня любовалась тремястами красно-бурых – все, как одна, – коровливонской породы, стоявших на свежей соломе. В Риге, девятого июля, государыню ожидала торжественная встреча… Генерал-губернатор Броун, епископ Псковской и Рижский Иннокентий, местное рыцарство и генералитет выстроились на крыльце отведенного государыне дома. Она прибыла в Ригу в девять часов утра и, милостиво побеседовав с встречавшими ее людьми, прошла во внутренние покои. Там на столе была положена только что прибывшая с курьером из Петербурга почта. Сверх всего, поверх свежих номеров «Ведомостей» лежал небольшой пакет, припечатанный пятью сургучными печатями, на средней три голубиных пера. Императрица кинжалом с рукояткой из ноги оленя вскрыла пакет и углубилась в чтение. Ничто не выдало ее волнения, и подававший ей пакеты, состоявший при ней в качестве секретаря во время поездки генерал Петр Иванович Панин ничего не мог заметить на ее лице. Похлопывая ножом по пакету, государыня повернулась к Панину и сказала:
– Сядь, Петр Иванович… В ногах, люди сказывают, правды нет. Скажи мне… – Она помолчала, как бы затрудняясь, как начать, и продолжала: – Скажи мне… Что это, у тебя был адъютантом поручик Мирович?..
– Как же, Ваше Величество, недолгое время был такой. Я был принужден его прогнать.
– Что же – он нехороший был человек?..
– Он – лжец, Ваше Величество.
– Лжец?..
– Отчаянный лжец… Бесстыжий человек и великий трус. Сумасброден не в меру и не по чину обидчив.
– Вот как! Что же ты такого взял?.. Ты не знал его раньше?..
– Пожалел его. Страдал и разорен был за измену деда… Дед был при Орлике, а Орлик был при Мазепе.
– Ах, вот что…
– Чем, Ваше Величество, маленький Мирович заслужил внимание Вашего Величества, что вы его вдруг вспомнили?..
– Я не вспомнила о нем, ибо никогда про него не слыхала раньше и самого его тем паче не видала. Ты знаешь меня – я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, уши-надувателей не держу, переносчиков не люблю и сплетней-складчиков, кои людей вестьми же часто выдуманными приводят в несогласие, терпеть не могу… Но… Тут уже не сплетни… Тут тяжкое преступление и потрясение основ государства и благополучия российского. На мне лежит долг государыни… Пока ничего больше… Я хотела только тебя спросить самого, как ты, оказывается, того Мировича знавал… Можешь пока идти, остальную почту после разберем, я должна ехать с Броуном осматривать гидравлические работы на Двине.
Письмо, расстроившее государыню и побудившее ее говорить о Мировиче, было первое поспешное донесение Никиты Ивановича Панина о том, что офицеры Мирович и Ушаков составили заговор и хотели, освободив из Шлиссельбургской крепости «безымянного колодника», возводить его на престол как императора Иоанна Антоновича. В донесении было еще сказано, что Мирович с командою при пушке напал на караул при «безымянном колоднике» и что Власьев и Чекин в силу данной им инструкции закололи колодника. Донесение было краткое, составленное по словесному докладу, и было прописано, что вслед едет полковник Кашкин и везет подробные данные о происшествии.
Внимательно, удивив всех своими познаниями в гидрографии, императрица осматривала дамбы, задавала вопросы инженерам, потом поехала на банкет лифляндского дворянства. Она была ласкова ко всем, много расспрашивала о приближенной фрейлине правительницы Анны Леопольдовны, Юлии Менгден, которая была заточена недалеко от Риги и умерла в заточении, она прерывала рассказ восклицаниями сожаления и негодования:
– C’est formidable!.. Cela fait fremir!..[60]60
Это ужасно!.. Это бросает в дрожь!..
[Закрыть]
Она осталась в Риге. На другой день, когда полковник Кашкин привез ей подробное, но все еще неверное донесение, она закрыла двери своего кабинета и писала то по-русски, то по-французски письмо Никите Ивановичу Панину, которое тот же Кашкин должен был немедленно везти в Петербург.
– «Никита Иванович, – писала императрица. – Не могу я довольно вас благодарить за разумныя и усердныя ко мне и отечеству меры, которые вы взяли по Шлюссельбургской гистории».
Она продолжала по-французски:
«La Providence m’a donné un signe bien èvident de sa grâce en tournant cette enterprise de la façon dont elle est finie…
Le jour de mon départ de Pétersbourg une pauvre femme avait trouvé dans la rue une lettre de main contrefaite ou il en était раrlé; cette lettre fut remise au Prince Wesemski et elle est chez lui. II faudra questionner ces officiers, si ce sont eux, qui l’ont ecrit et répandue. Je crains que le mal n’aye d’autre suite encore, car Ton dit cet Ушаков lié avec nombre de petits gens de la Cour. Enfin il faut s’en remettre au soin du bon Dieu, qui voudra bien découvrir, je n’ose en douter, toute cette horrible attentat…»[61]61
«Провидение мне дало знак своей явной милости, повернув это предприятие так, как оно закончилось… В день моего отъезда какая-то бедная женщина нашла на улице письмо, написанное подделанным почерком, где об этом говорилось. Это письмо было передано князю Вяземскому, и оно у него находится. Надо допросить этих офицеров, не они ли написали и распространили это письмо… Я боюсь, чтобы зло не имело продолжений, так как говорят, что этот Ушаков имел связи с мелкими придворными. Но надо отдать себя Богу, который – я в этом не смею сомневаться – раскроет скоро все это ужасное покушение…»
[Закрыть]
«Вспомните так же врания того офицера, что Соловьев привел, да с великаго поста более двенадцати подобных было и все о той же материи. Велите, пожалуй, разсмотреть не оны ли тому притчины были…
Хотя в сем письме я к вам с крайнею откровенностью все то пишу, что в голову пришло, но не думайте, чтобы я страху предалась. Я сие дело не более уважаю, как оно в самом существе есть, сиречь дешператной и безразсудный coup[62]62
Удар.
[Закрыть], однакожь надобно до фундамента знать, сколь далеко дурачество распространилось, дабы, есть ли возможно, разом пресечь и тем избавить от нещастия невинных простяков.
Радуюсь, что сын мой здоров, желаю и вам здравствовать. Екатерина. Из Риги 10 ч. июля 1764».
«Стерегите, чтоб Мирович и Ушаков себе не умертвили».
Императрица сама вложила письмо в конверт и опечатала его своею печатью. Потом взяла еще лист и написала на нем размашистым почерком:
«Указ генерал-поручику Веймарну. По получении сего немедленно ехать вам в город Слюсельбург и тамо произвесть следствие над некоторыми бунтовщиками, о которых дано будет вам известие от нашего тайнаго действительнаго советника Панина, у котораго оное дело, и потому он как вам все наставления дать, так и вы всего что касаться будет от него требовать можете. Екатерина».
Императрица сократила свое пребывание в Риге и пятнадцатого июля поехала в Петербург, «дабы сие дело скорее окончить и тем дальних дурацких разглашений пресечь…»
Семнадцатого августа особым манифестом был объявлен над Мировичем верховный суд. В этот суд было назначено пять духовных и сорок три военных и гражданских высших сановника. Суду этому было повелено:
«Что лежит до Нашего собственнаго оскорбления в том Мы сего судимаго всемилостивейше прощаем, в касающихся же делах до целости государственной, общаго благополучия и тишины, в силу поднесеннаго Нам доклада, на сего дела случай отдаем в полную власть сему Нашему верно подданному собранию…»
Мирович на суде держался стойко, решительно – по-офицерски.
Он с твердостью отверг, что имел сообщников.
Духовные лица настаивали на том, чтобы к Мировичу были применены пытки. Обер-прокурор князь Вяземский, видя искренность подсудимого и веря его офицерскому слову, протестовал против этого. Много раз спрашивали Мировича, и он всегда одинаково отвечал: «Я считаю себя уже не существующим в этом мире, мне ничего другого нельзя ждать, как только позорной казни. Я готов ее с мужеством перенести и тем искупить совершенное преступление. Сообщников я не имел и полагаю, что никто не захочет, чтобы я невинных обвинил. Я оплакиваю горе солдат и унтер-офицеров, которых вовлек своим безумством в кратковременное заблуждение…»
Третьего сентября на Мировича наложили оковы. Он заплакал. Девятого состоялся приговор – было постановлено: «Отсечь Мировичу голову и, оставя тело его народу на позорище до вечера, жжечь оное потом купно с эшафотом, на котором та смертная казнь учинена будет…»
Жестоко были наказаны и все унтер-офицеры, и солдаты смоленского караула, пошедшие с Мировичем. Князь Чефаридзе был лишен всех чинов, посажен в тюрьму на шесть месяцев и «написан в отдаленные полки в солдаты…».
Капитан Власьев и поручик Чекин с повышением в чинах были отправлены в азиатские гарнизоны, и их жизнь прошла неприметно и бледно. Тень убитого ими «по присяжной должности» императора точно всегда витала над ними.
Пятнадцатого сентября на Петербургском острове, в Обжорном рынке, казнили Мировича.
Странные были отношения между императрицею Екатериною Алексеевною и ее сыном Великим князем Павлом Петровичем. Точно не мать была сыну Екатерина Алексеевна, но отец. Материнской ласки, женской нежности у нее не было. Мальчик побаивался своей неласковой, маловнимательной к нему матери. Бывали периоды, когда занятая делами государственными императрица целыми днями не видела Великого князя. Он жил со своим воспитателем – в этот год Семеном Андреевичем Порошиным – на своей половине дворца, имел своих гостей и редко ходил на половину государыни-матери. Лишь на балы, спектакли в Эрмитажном театре, на французские комедии и балеты приводили мальчика, и он томился на них, нетерпеливо дожидаясь, когда отпустят его спать. Фрейлины государыни обожали милого «Пуничку», прелестного, умного, развитого ребенка, танцевали с ним, ухаживали за ним, дарили ему конфеты, писали ему французские стихи. Мать издали снисходительно наблюдала за ним. Иногда она подзывала сына к себе, задавала ему два-три вопроса, но вопросы ее были отцовские, мужские – не материнские, женские. Мальчик стеснялся матери.
На половине Великого князя сменялись учителя, шли уроки и забавы по установленному императрицей расписанию. По желанию императрицы у Великого князя к обеду всегда бывали гости – кто-нибудь из вельмож, приезжие в Петербург сухопутные и морские офицеры, иностранные посланники. Императрица хотела, чтобы ее сын с малых лет приучался к серьезным разговорам. Разговор часто, к великому смущению воспитателя Порошина, шел слишком «взрослый». Гостям казалось, что Павел Петрович не слушает, не понимает того, что говорится, что он занят своими игрушками, расцвечивает флажками большую модель фрегата, стоящую рядом со столовой, или просто «попрыгивает» подле клетки с птицами, но вдумчивый Семен Андреевич не раз отмечал в своем дневнике, как отражались эти разговоры на чуткой и восприимчивой душе Великого князя и как он их запоминал.
В этот раз к обеду были – вице-канцлер Воронцов, граф Никита Иванович Панин, граф Захарий Григорьевич Чернышев, граф Александр Сергеевич Строганов и Петр Иванович Панин.
В эти дни в Петербурге так много говорили о казни Мировича. Двадцать два года в России не было смертных казней, и эта первая казнь взволновала умы. Как ни старался Порошин отвести разговоры на темы, более подходящие для его воспитанника, Великого князя, разговор все возвращался к различным случаям казни людей.
Никита Иванович, большой гурман, приказал поставить к своему прибору «канфор» и варил в кастрюлечке «устерсы» с английским пивом. Великий князь поставил у своего стула приступочку, встал на нее, внимательно следил за варкой и крошил хлеб к этому вареву.
Строганов, присутствовавший на казни Мировича, рассказывал мерным, спокойным голосом:
– Я никогда раньше не видал казней… Как ни относиться к этому безрассудному офицеру, должен признать – и на суде, и на эшафоте он себя молодцом держал. Никого не выдал, никого не оговорил. Что говорить – замысел был смелый!.. Все сделал один… На казни… Громадная толпа народа… Крыши домов и весь мост на Неве – черны от людей. В оной толпе и ужас и любопытство. Казни у нас забыли, ныне увидели ее во всем ее устрашающем безобразии. Мирович взошел на эшафот с благоговением. Так к причастию Святых Тайн подходят. Его бледное, спокойное лицо было красиво. Он сам склонил колени и положил голову на плаху. Взмахнул топор… Народ ахнул страшным ахом, точно то был один гигантский человек. Палач схватил отрубленную голову за волосы и, высоко подняв, показал народу – толпа содрогнулась, и от сего содрогания тяжелые перила обвалились и мост поколебался… Бревна перил поплыли по Неве.
– Ужасно… – сказал Петр Иванович Панин. – И этого человека я хорошо знал… Нет… Нет… Довольно казней… Смертная казнь невозможна, не нужна… Она никого не устрашает… Она граничит с варварством. Разве в других странах, где семена гуманизма принесли свои плоды, ну, скажем, во Франции, возможно что-нибудь подобное?..
– Ну-у… Еще и как!.. Славны бубны за горами, – сказал Воронцов. – Во Франции и народ, и правители много жесточее, чем у нас, понеже много среди них безбожников. У нас казнили Мировича… Так надо знать: за что его казнили?..
– И этого человека я знал, – вздохнул Петр Иванович.
– Он покушался потрясти основы государства Российского… Он сам собирался казнить и, поверь мне, нас с вами не пощадил бы… Простого убийцу, разбойника у нас не казнят… Во Франции недавно, в Валансьене, казнили некоего Мандрина. Так кто такой был сей Мандрин… Ну, просто контрабандист. Он наносил убыток королевским доходам. Его казнили и притом с издевательством, с ненужною жестокостью и мучением. Мандрина, – я читал в «Ведомостях», – привели на площадь в одной рубахе, босого, с веревкою на шее, с доскою на груди, с надписью: «Атаман промышляющих заповедным торгом, оскорбитель величества, разбойник, убийца и нарушитель общего покоя». Не слишком ли много тут экзажерации!.. В руках у Мандрина была зажженная двухфунтовая свеча. На площади – море народа. Патер Гаспари не провожал разбойника. Мандрин вошел на амвон с такою же неустрашимостью, с какою препроводил всю свою жизнь, и сказал смотрителям сильную речь. Он всенародно молился Богу и просил у короля прощения за пролитую им кровь. Ему переломали на плахе руки и ноги, и палач хотел его еще живым тащить с амвона на колесо, но господин Левест по прошению епископа и многих знатных персон приказал удавить разбойника. Народ смотрел все сие спокойно и шутками и свистом встретил муки казнимого.
Семен Андреевич Порошин страдал от этих разговоров. Он краснел, бледнел и неспокойно сидел.
«Им надо бы наперед подумать самим с собою, а тогда говорить», – думал он. Но его страданий никто не замечал. Никита Иванович со вкусом рассказывал, как в Париже казнили какого-то аббата.
– И вот, значит, палач взвел его на виселицу, накладывает петлю на шею, толкает его с лестницы, а аббат наш ухитрился зацепиться за лестницу ногою и не хочет повиснуть.
– Кому охота, – засмеялся Чернышев.
– Тогда палач с силою толкает его и говорит: «Descendez done, ne faites pas l’enfant, monsieur l’abbe»[63]63
Слезайте, господин аббат, довольно ребячества.
[Закрыть].
Все засмеялись, и Великий князь со всеми. Петр Иванович Панин наконец заметил недовольное лицо Порошина, понял его умоляющие знаки и переменил разговор. Он стал рассказывать о «положенном на будущий год под Петербургом лагере».
– Где же тот лагерь будет? – с живостью спросил Великий князь.
– Под Красным Селом. Я там, Ваше Высочество, со своими гусарами ваш кирасирский полк атакую и вас самого в полон заберу.
Великий князь внимательно посмотрел на Панина.
– Если пойдет дело на драку, – серьезно сказал он, – так мы и обороняться умеем.
Никита Иванович съел свои «устерсы», варенные в пиве. Лакей обносил блюдо с котлетами. Воронцов отказывался взять, Никита Иванович уговаривал его.
– Право, не могу больше. По горло сыт.
– Prenez done, mon prince, – неожиданно сказал Великий князь, – ne faites pas l’enfant…»[64]64
Берите, князь, довольно ребячества…
[Закрыть]
Порошин густо покраснел.
Ночью в глубокой комнате Зимнего дворца, опочивальне Великого князя, у окна, на письменном столе тихо горят две свечи за зеленым тафтяным абажуром. Порошин в камзоле, со снятым париком, сидит за столом и в большую тетрадь своего дневника записывает наблюдения за Великим князем за истекший день. В Петербурге стоит тихая осенняя ночь. Слышно, как плещут волны Невы о гранитную набережную. За ширмами на узкой кровати мечется, ворочается и стонет в неспокойном сне мальчик, Великий князь Павел Петрович.
Скрипит гусиное перо по шероховатой бумаге, рыжеватые чернила длинною вязью строк ложатся в тетрадь.
«…Всякое незапное или чрезвычайное происшествие весьма трогает Его Высочество, – пишет Порошин. – В таком случае живое воображение и ночью не дает ему покою. Когда о совершившейся пятнадцатого числа сего месяца над бунтовщиком Мировичем казни изволил Его Высочество услышать, опочивал ночью весьма худо…»
Страшные видения снятся Великому князю. Обрывки фраз, слухи, сплетни, неосторожно сказанные слова, непродуманные рассказы вдруг вспоминаются в полусне-полуяви. Он вспоминает маленькую комнату в Александро-Невской лавре, обитую сплошь черным сукном, красный бархатный гроб с позументом, и в нем с темным лицом, со шрамом на шее – его отец, император Петр III… Почему он там?.. Почему все так кругом таинственно, почему его не допускают туда и только из рассказов он видит эту страшную комнату и страшного и близкого покойника?.. Убит он или умер?.. И если убит, то по чьему приказу?.. Мирович с бледным лицом поднимается на эшафот, преклоняет колени и кладет голову на плаху… Он никого не убивал… Он хотел посадить на престол императора Иоанна Антоновича, который имеет все права на престол… И кто опять, по чьему приказу убил Иоанна Антоновича?.. Думы сменяются снами, становятся расплывчатыми, неопределенными. Но жуть остается в них. Аббат ухватился ногою за лестницу… Какое страшное у него лицо! Голос палача звучит во сне грубой палаческой насмешкой: «Descendez done, ne faites pas l’enfant, monsieur l’abbe»[65]65
Спускайтесь же, не ребячьтесь, г-н аббат.
[Закрыть]. Двадцать два года при бабушке в России не было смертных казней. Встает перед ним бабушка, тяжелая, большая, полная. Сладко пахнет от нее восточной амброй, мягкая рука ласкает Пуничку и смотрят, смотрят на него синие глаза с несказанной любовью… Добрая, милая бабушка!.. При ней не было казней. Теперь – казнят… Он точно чувствует холодную, маленькую, твердую руку, как касается она его горячего лба. Он слышит равнодушный голос матери: «Нет никакого жара… Его Высочество просто объелся…» Как холодно от этих слов!..
Пройдут года… Много лет… И некогда вдруг все эти видения раннего детства встанут со страшной силой, все тогда в этот жуткий миг вспомнится, все, что крепло и ожесточалось в детском сердце, и тогда в необъяснимом безумном порыве вернет он из могилы тело отца и поставит его в богатом гробу на высоком катафалке, в большом зале Зимнего дворца, рядом с телом только что умершей матери. Соединит – разорванное… Примирить хочет или устыдить и присрамить перед народом за все совершенное: за Ропшу и за Шлиссельбург?!
И тогда подлинно «привидения станут казаться» потрясенной петербургской толпе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































