Текст книги "Императрицы (сборник)"
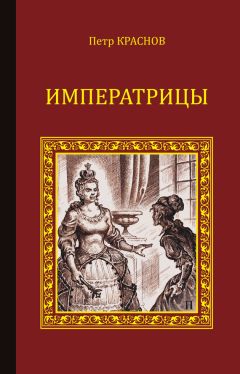
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 52 страниц)
В эти дни при Екатерине Алексеевне появилась новая фрейлина – сестра Елизаветы Романовны Воронцовой, Екатерина Романовна Дашкова. Ей было семнадцать лет. Она воспитывалась за границей, говорила по-французски лучше, чем по-русски, и вся была пропитана идеями Вольтера и духом Монтескье и Дидро. Великой княгине было интересно говорить с нею и вспоминать любимых философов. Екатерина Романовна только что вышла замуж за Дашкова, и замужество давало ей известную свободу. Наружно – «бержерка» саксонского фарфора, миниатюрная куколка с тонкими нежными чертами миловидного лица, с фарфоровою матовостью щек, с большими серо-голубыми наивными глазами, с высоко взбитыми в модной прическе пепельными пушистыми волосами, – она была несказанно привлекательна и нравилась всем, и женщинам, и мужчинам. Ее родственник Никита Иванович Панин, назначенный императрицей наблюдать за воспитанием наследника Павла Петровича, был влюблен в нее. Задорная, смешливая, с галлицизмами в русском языке, мило картавящая, пропитанная духом вольности, вывезенной из Франции и Швейцарии, она была постоянно окружена гвардейскою молодежью. Она, и как-то вдруг, воспылала совсем необычайною, нежною и страстною, на все готовою любовью к Великой княгине и не отходила от нее. И то, чего себе не могла позволить Великая княгиня, – громко и смело говорить о политике, то могла делать с наивною прелестью куколка Екатерина Романовна. По своему положению – родной сестры фаворитки Великого князя, родственницы Никиты Ивановича Панина, – она знала все, что делалось при Великом князе, что говорилось у императрицы в связи с помыслами о юном ребенке-наследнике. Она могла передавать, и как бы от себя, не впутывая Великую княгиню, то, что ей искусно подсказывала Екатерина Алексеевна, и Дашковой казалось, что она становится во главе какого-то заговора.
Так незаметно и как будто и помимо воли Великой княгини и точно создавался заговор против Петра Федоровича. Екатерина Алексеевна стремилась в этом заговоре устранить и своего сына Павла Петровича, чтобы быть не регентшей, но полновластной императрицей. Она не изменяла своей формуле, как-то давно вылившейся у нее в слова: «Здесь я буду царствовать одна!..»
Помеха была в сыне и в том, что самые преданные ей люди – Бестужев и Панин, на которого влияла Дашкова, никак не могли понять, как и куда мог деваться Павел Петрович? И Екатерина Алексеевна искала еще и таких людей, которые настолько были бы преданны, что и сын ее не стал бы им помехой.
Алексеем Петровичем Бестужевым был заготовлен манифест, которым, по смерти Елизаветы Петровны, императором провозглашается малолетний Павел Петрович, а регентшей его мать, Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Это было в духе Петра Великого и потому была надежда, что в нужную минуту императрица согласится подписать этот манифест. Но государыне донесли раньше времени о существовании какого-то заговора. Бестужев успел сжечь манифест, но было приказано произвести расследование. В начале 1759 года Бестужева сослали в его имение Горетово, графу Понятовскому, не сумевшему скрыть своих чувств к Великой княгине, предложили отъехать от Императорского двора за границу, а ближайших советников и сотрудников Екатерины Алексеевны Елагина и Ададурова сослали – первого в Казанскую губернию, второго – в Оренбург.
Государыня отказывалась видеть племянницу, она подозревала ее в заговоре. Больная, сердитая, она, не стесняясь придворными, ругала племянника. Немцы ее раздражали, а вот выгнать их с половины Великого князя не могла или не хотела. Назревал нарыв, и не могла быть спокойна Великая княгиня. Она знала государынин нрав: «Я еду, еду – не свищу, а наеду – не спущу». По городу ходили «эхи» – Дашкова их ловила и докладывала Великой княгине, сидя у ее ног. «Обоих вон из России, и мужа, и жену. Окружить Павла Петровича, милого Пуничку, русскими людьми и готовить его царствовать…» Никита Иванович Панин теперь играл едва ли не первую роль при государыне.
Великая княгиня поручила Дашковой спросить Никиту Ивановича, может ли быть что-нибудь подобное, угрожает ли ей высылка?
Очарованный племянницей, завороженный ею, Панин пустился на откровенности. Он задумался над вопросом Екатерины Романовны и наконец, после некоторого молчания, сказал:
– Того переменить не можно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено. Однако думаю, что ежели государыне императрице такой план на благовоззрение представить, чтобы отца выслать на родину, а мать с сыном оставить, то большая в том вероятность, что она на то склониться может.
Он помолчал, глядя в синие, прекрасные, наивные, совсем детские глаза Дашковой, и продолжал:
– О сем говорено было с Шуваловым после обеденного кушанья у него в доме, когда много всяких питий пито было и о здравии и за упокой… Известно, у пьяного на языке, что у трезвого на уме. Полагали такое действие возможным. Зане, очень уж Его Высочество наружу выставлять изволит свою любовь и преклонение перед немцами, и сие для государыни нож острый…
И опять замолчал Панин, с любовной грустью глядя куда-то мимо прелестных глаз Екатерины Романовны.
– Только вряд ли Ее Величество по теперешней ее слабости на то решится, – совсем тихим голосом добавил он.
Рассказ этот до некоторой степени успокоил Екатерину Алексеевну – высылка ей не угрожала, но сын стоял между нею и Российским престолом. И Шуваловы и Панины, оберегая планы, мысли и намерения государыни, никогда не согласятся на провозглашение ее императрицей.
Надо было искать других людей, менее искушенных в придворной политике, менее серьезных, но решительных и влюбленных в Великую княгиню все забывающею любовью.
XЖизнь Великой княгини шла наружно все так же, как будто бы и пусто, между играми и разговорами с фрейлинами и кавалерами днем и картежной игрою с верными людьми вечером. Прибавились только сплетни-доклады Дашковой по утрам. Дашкова ходила по городу, по офицерским квартирам, по казармам гвардейских полков, бывала на гуляньях в Летнем саду и Екатерингофе, она вращалась в тех кругах, куда сама Великая княгиня попасть не могла. Она рассказывала, что говорят люди, подобные тем, которые некогда посадили на престол Российский ее тетку императрицу Елизавету Петровну.
Дворянство насторожилось и опасалось нового государя. Мягко стелет, да не пришлось бы жестко спать. Немцами окружен. В нем кровь Петра Великого и как бы не оказалось его же решительности. Он говорит много о вольности дворянства, как в Пруссии, да как бы после не пришла и вольность крестьянам – тогда дворянству конец. Из деревень и отцовских вотчин шли тревожные слухи. Простой народ волновался, шли разговоры о том, что скоро делить будут землю, людей на волю отпускать, а дворян уничтожать… Шли толки и о таинственном и непонятном «черном переделе»…
По солдатским кружалам, по царевым кабакам говорят, что будущий государь, мол, совсем немец, в прусском мундире ходит, орден лютого короля «Черного Орла» носит и похваляется-де, что всю армию под немецкую палку поставит. Дай Бог здоровья матушке царице, да что-то давненько она к нам, своим солдатушкам, не жаловала, так ежели что случится, нам надо своего дурно не отдавать и постоять за государыню Великую княгиню, она, сказывают, к русскому люду дюже ласкова…
– Это уже Орловы стараются, – говорила Дашкова, – вот вам преданные и притом же отчаянные люди.
И следом за серьезным рассказывала петербургские глупости Орловых.
– Ваше Высочество, намедни… над этаким домом, где беспутные девки живут, в Фонарном переулке, и вдруг вывешена вывеска «Институт для благородных девиц»!.. Оное Орловы братья ночью учинили. А у гробовщика, что на Мойке, вывеска: «Свадебные обеды и трактование знатных персон»… Все будочники с ног сбились, развешивая все по местам…
– Ты думаешь?.. Они способны?..
– Они на все способны, Ваше Высочество, и вот уж вам преданны!
Днем Великая княгиня в открытых санях с прелестным малюткою сыном ездила по Невской перспективе и набережной, и гвардейская молодежь бежала за санями, и гремели восторженные «виваты» и громовое радостное «ура».
Великая княгиня согласилась, чтобы братья Орловы были допущены к ее двору и приходили на ее дневные приемы, где бывали самые близкие люди.
Кто они были?.. Про них говорили, что они из немецких колонистов и настоящая их фамилия – Адлеры. Они были без рода, без племени. Что до того? – они были нужные теперь люди. Они все трое – Григорий, состоявший при пленном немецком генерале Шверине и через это близкий к Великому князю человек, Алексей – силач и красавец, прозванный Алеханом, и младший, совсем еще юноша, – Федор, прапорщик Измайловского полка – отличались чисто русскою красотою, молодечеством, удалью, безудержною храбростью, Григорием явленною в сражениях с пруссаками, полною свободой от всякого этикета и способностью держать себя во дворце так, как будто бы они всю жизнь прожили среди высочайших особ.
XIВо дворце была та тишина, какая бывает в доме, где есть тяжело, безнадежно больной. Государыня почти не выходила из опочивальни. Она была бесконечно печальна и скучна, и только музыка еще немного ее развлекала. В эти дни она снова сблизилась с Великой княгиней и по-прежнему стала ласкова, добра, откровенна и сердечна с нею.
Куртаги, балы, спектакли, маскарады и фейерверки были отменены, и скучны были длинные, зимние петербургские вечера. Великий князь проводил их в обществе Елизаветы Романовны и голштинцев. Великая княгиня то дежурила у постели больной императрицы, то в кругу нескольких самых близких людей играла в карты в комнатах, соседних!.. с опочивальней государыни, готовая каждую минуту встать и идти к больной.
В Китайской комнате поставлены два ломберных стола, свечи в художественной бронзы подсвечниках горят ровно и неярко освещают зеленое сукно и разбросанные по нему карты. Наверху на люстре зажжено несколько свечей. За одним столом Великий князь, Воронцова, генерал Шверин и Цейс играют в фараон. Мужчины курят трубки, разговор идет по-немецки. Елизавета Романовна строит капризную гримаску и тоненькой ручкой отмахивает от лица сизые струи табачного дыма. Она хохочет, обнажая ряд мелких белых зубов. За другим столом, отделенным от них китайской ширмой, играют в ломбер Великая княгиня, граф Кирилл Разумовский, Алексей Орлов и Строганов. Они говорят намеками, и каждое слово понимается по особому смыслу. Они уже несколько дней как спелись между собою и заговор ведут открыто, уверенные, что никто не поймет их замыслов.
Карты сброшены на стол. Костяные пестрые фишки лежат грудою посередине стола. Выиграла Великая княгиня. Она, согнув ладонь, подвигает к себе от Строганова кучку золотых. Строганов вскакивает, возбужденный и недовольный, опрокидывает стул и в волнении подходит к окну.
– С вами, Ваше Высочество, – сердито говорит он, – нельзя играть… Вам легко проигрывать, а каково мне?..
– Тш!.. Тише!.. Поосторожней, милый… Ишь ты, какой бешеный, – тасуя полными руками карты, говорит Разумовский.
– Не пугайся, Кирилл Григорьевич, сие всегдашняя у нас с ним история. Я уже привыкать начинаю, – улыбаясь, говорит Великая княгиня и раскладывает выигранные деньги столбиками.
Карты снова розданы. Великая княгиня подглядывает свои, приподнимая их.
– У-у!.. Жестокий, – говорит она Разумовскому. – Ему помирволил. Пожалел его, меня не пожалел…
– Вам начинать.
– Извольте.
За ширмами у Великого князя жарок становится разговор, все встали из-за стола. Великий князь свистнул собаку, лежавшую на диване, и с Елизаветой Романовной пошел в соседний зал. Немцы горячо и громко говорили по-немецки.
– Ведь деньги для того нужны, Кирилл Григорьевич, – тихо говорит Великая княгиня. – Без денег, как их подымешь?
– Будут деньги, – так же тихо и уверенно говорит Разумовский. – Только начать – деньги сами собою явятся.
– Да ведь начать-то как-нибудь надо?
– Если, Ваше Высочество, назначить его брата Григория, – кивает на Алексея Орлова Разумовский, – цальмейстером артиллерийского штата?..
– Петр Иванович на оное никогда не согласится. Как ни мало он ревнив, он Григорию Елены Степановны не простит, – говорит Орлов.
За спиною Великой княгини на маленьком кресле, свернувшись комочком, уселась Дашкова. Она слушает разговор с раздувшимися от волнения ноздрями. Она все понимает с полуслова. Она ждет времени, чтобы сказать свое слово, чтобы показать и свое участие в том, о чем говорится.
– Петр Иванович очень плох, – чуть слышным шепотом говорит она. – Дядюшка говорил мне – навряд ли выживет. На его место прочат Вильбоа, а Вильбоа ваш камер-юнкер, он из вашей воли не выйдет – свой человек.
Великая княгиня будто не слышит, что говорит Дашкова. Она снова вся в картах, в игре.
– Кладу девятку… У вас?..
– Дама… Валет…
– Бррр!..
Разумовский кончил игру и встал, будто чтобы промяться, прошел за ширмы, где Великий князь. Великая княгиня вопросительно на него посмотрела.
– Нет. В зале с собакой и Елизаветой.
– Боюсь Никиты Ивановича. Он может все испортить. Уперся на Пуничке. Не может понять, что Пуничка ребенок, и значит… Нет, сие не годится.
Орлов взял со стола серебряный рубль и давит его своими крепкими сильными пальцами.
– Ваше Высочество… И Измайловский полк?.. Как думаете?..
– Ничего я еще о сем не думала, Алексей Григорьевич.
Орлов сжал рубль, согнул его и плоским колпачком бросил перед Великой княгиней.
– Сила, Ваше Высочество, солому ломит. В Измайловском – подполковник граф Кирилл Григорьевич.
Великая княгиня смотрит на Разумовского, тот отворачивается и мурлычет что-то про себя.
Орлов смотрит то на него, то на Великую княгиню и говорит:
– Много людей не надо. Все одни сделаем. Дайте срок.
Лицо Великой княгини покрывается румянцем волнения, и оно становится особенно милым. В темных глазах горит, не угасая, пламя. Она вся холодеет и чувствует, как под платьем дрожат ноги. Она видит, с какою страстною, все сокрушающей любовью смотрят на нее мужчины. Может быть?.. Любовь?.. Она все побеждает. Но она сейчас же овладевает собою.
– Сдавайте, судари, карты. Будем продолжать.
Карты пестрым рисунком ложатся по столу. Великая княгиня их почти не видит. Она, как сквозь сон, слышит, как сказал Строганов:
– Молчание золото, добрая речь серебро.
Эту «пулю» Великая княгиня проигрывает.
ХIIВ день Рождества Христова 1761 года, во вторник, в третьем часу пополудни, государыня императрица Елизавета Петровна преставилась. По-христиански кротко, с глубочайшею верою, она готовилась к смерти, она все продумала, обо всем, даже до порядка своих похорон, распорядилась, и ни у кого не могло быть сомнения: престол Российский по ее кончине должен был принять ее племянник Петр Федорович.
Великая княгиня точно закостенела. Она, не отходившая все последние дни жизни от больной, сейчас же по смерти государыни со старыми дамами графиней Марией Андреевной Румянцевой, графиней Анной Карловной Воронцовой и фельдмаршальшей Аграфеной Леонтьевной Апраксиной убрала тело покойной и окружила его цветами. Забегали, засуетились по дворцу скороходы, понесли повестки по дворцовым службам, поскакали фурьеры по городским квартирам: на вечер был объявлен в дворцовой церкви молебен о благополучном государствовании государя Петра Федоровича, а после него парадный обед в куртажной галерее. Дамам было повелено быть в цветных робах. Смерть прошла мимо, жизнь вступала в свои права и делала она это резко и крикливо, без соблюдения уважения к непогребенному и неотпетому еще телу в Бозе почившей.
Переодевшись в бальное платье, Великая княгиня, прежде чем идти в церковь, по внутренним коридорам дворца, полутемным и пустым, направилась к покоям усопшей государыни. Стоявший у дверей опочивальни государыни громадный гренадер лейб-кампании с треском откинул ружье по-ефрейторски «на караул». Екатерина Алексеевна вздрогнула от неожиданности и спросила:
– Почем ты меня, братец, узнал в темноте?..
– Кто тебя, матушка, не узнает, – смело ответил гренадер. – Ты в темноте освещаешь места, которыми проходишь.
– Как тебя звать?..
– Наэрин, Ваше Императорское Величество.
В антикамере, перед спальней государыни, Екатерина Алексеевна остановилась и вызвала к себе караульного офицера.
– Вот золотой, – сказала она, – передай его гренадеру Наэрину, когда он сменится с поста. Скажи – за бравый вид и смелый ответ.
Опустив голову, прелестная контрастом цветного, парадного платья и печалью голоса и глаз, она кивком головы отпустила офицера и тихо пошла к покойнице.
Кто знает, кто может угадать, что в эти страшные часы у тела государыни Елизаветы Петровны думала и переживала Екатерина Алексеевна? От нее до нас дошли подробнейшие ее дневники, но дневники эти описывают то, что было много дней спустя, в них Екатерина Алексеевна ищет, как оправдаться перед потомством и смягчить резкость своих поступков, в эти же печальные и страшные дни ей некогда было писать, и можно только догадываться, как почти бессознательно она продолжала то, что давно задумала, о чем она мечтала еще тогда, когда была девушкой, когда только что приехала в Россию и поразилась ее величиной, красотой, силой и… контрастами.
В эти жуткие часы, когда еще не остывшая покойница лежала на одре болезни, окруженная цветами, когда только еще начинали читать по ней и в покоях стояла та печальная тихая суета, какая бывает при теле умершего человека, – эти контрасты особенно били ей по нервам и крепили ее мужество и решимость.
В темной и холодной опочивальне, где были открыты форточки, мерцали гробовые свечи. Дежурство только что заняло свои места. Священник тихо, точно для одной покойницы, читал Евангелие. Напряженно спокойно было лицо государыни Елизаветы Петровны, и страдания исчезли с него. Народ еще не пускали. Неподвижно стояли часовые лейб-кампании. Екатерина Алексеевна преклонила колени перед телом умершей и долго стояла в сосредоточенной молитве. Потом она поднялась, поцеловала холодный лоб умершей и пошла через залы к церкви.
Гул голосов, шум, крики, брань поразили Екатерину Алексеевну после тишины у тела государыни. Придворные и голштинцы спорили и обсуждали новые назначения и реформы, которые носились в воздухе.
Вдруг все смолкло, застучали тростями церемониймейстеры, толпа расступилась, император в расстегнутом у ворота Преображенском мундире, сопровождаемый Елизаветой Романовной Воронцовой, арапом и придворными, торопливым шагом пошел в церковь. Он не поклонился своей жене. В церкви он стоял беспокойно, беспрестанно оглядывался, подмигивал кому-то, улыбался. Он показался Екатерине Алексеевне «смешным арлекином».
Служил Новгородский митрополит Сеченов, и будто и не было смерти, только что похитившей всеми любимую государыню, о ней и не говорили, ее не поминали. Все было о новом государе, все было для государя Петра Федоровича.
Из церкви «шествием» направились в «куртажную» галерею. Гофмаршальская часть не успела распорядиться, повесток было послано больше, чем приготовлено мест для приглашенных, и часть гостей стояла в проходах. Вчерашнему фавориту Ивану Ивановичу Шувалову не оказалось места, и Мельгунов упрашивал его сесть на свой стул. Екатерина Алексеевна с ужасом и отвращением смотрела на лицо Ивана Ивановича все в кровавых царапинах и потеках крови – он при известии о смерти государыни в порыве искреннего или театрального отчаяния ногтями разодрал себе лицо. Он стоял, тяжело дыша от негодования и горя, за стулом государя. Екатерине Алексеевне он показался сильно пьяным. Ей стало страшно во дворце среди этих шумливых и нетрезвых людей. И страшнее всех казался император. Вдруг в этот вечер, полный таких сильных и разнородных впечатлений, почувствовала она в своем супруге бурную и неуемную кровь Петра Великого и поняла, что схватка с ним будет решительная и смертельная.
Император точно не замечал своей жены. Он шутил с Елизаветой Романовной, сидевшей против него, на другом конце стола, он говорил, точно издеваясь, Никите Ивановичу Панину загадочные и страшные речи:
– Ну, братец, теперь только держись, нынче я расправлюсь с датчанами по-свойски!.. Как ты, братец, о сем полагаешь?..
Панин был смущен – кругом были уши, недалеко сидели иностранные представители и как могли они истолковать слова самого государя? Он растерялся и, думая прийти на помощь государю и замять неосторожно и необдуманно сказанные слова, ответил:
– Я недослышал, Ваше Величество, о чем говорить изволите. Очень тут шумно.
– Недослышал?.. А, недослышал!.. Тогда недослышал, ныне опять недослышал. Я тебе ототкну-ка уши, да научу лучше слушать, что говорит государь. Вот и пожалую я тебя в генералы от инфантерии, да и пошлю тебя противу датчан.
– Благодарю за честь, Ваше Величество, но затрудняюсь принять назначение, к коему моя прежняя служба меня не приготовила.
– Вот как!.. А мне про тебя сказывали, что ты умный человек. А я, братец, такому твоему ответу удивляюсь.
В душном, жарком воздухе, насыщенном людским дыханием, запахом кушаний и копотью свечей, точно неведомая, страшная гроза нависала. Каждый, кто был еще трезв, кто соображал, о чем говорилось, понимал, что сегодня это государевы шутки, а завтра эти шутки могут обернуться в великую и напрасную кровь. И настороженнее всех в эти часы была Екатерина Алексеевна.
Она удалялась шумных пиров и веселых куртагов, которые шли непрерывною чередою на половине молодого государя. Она проводила дни подле тела государыни Елизаветы Петровны, отстаивая частые панихиды, усердно молясь на народе и стоя у изголовья государыни в долгие часы, когда народ пускали поклониться покойнице.
И петербургский народ неизменно видел у гроба государыни невысокого роста прекрасную женщину в черном, «кручинном» платье, в высокой наколке с белым «шнипом» на темных волосах, видел скорбное лицо и слышал рассказы о неумеренных кутежах государя и о войнах, им замышляемых.
Будто в эти дни, когда непогребенное тело государыни стояло во дворце, они оба сеяли какие-то семена, и семена эти должны были – одни скоро, другие позже – дать всходы.
Государыня дала гренадеру лейб-кампании золотой, а по полковым избам пошли разговоры, что государыня озолотить обещала гвардию, а государь-де готовит продать ее королю Фридриху и отправить в поход против датчан.
На пятой неделе по смерти государыни от тела ее пошел сильный запах, и надо было закрыть гроб. Часовых сменяли через час, придворные старались становиться подальше и часто выходили из залы, где стояло тело государыни. Императрица Екатерина Алексеевна с печальным, бесстрастным лицом, с восковою, затепленною свечою в руке, неподвижная, как изваяние, стояла на своем всегдашнем месте у изголовья покойницы, являя собою истинный пример высокого исполнения долга.
Она отстояла последнюю панихиду, повернулась к Воронцову и, передав ему свечу, приняла от него нарочно для его случая сделанную корону. На короне была выбита надпись: «Благочестивейшая, Самодержавнейшая, великая государыня императрица Елизавета Петровна. Родилась 18-го декабря 1709-го года. Воцарилась 25-го ноября 1741-го года. Скончалась 25-го декабря 1761-го года».
Екатерина Алексеевна медленно поднялась по ступенькам катафалка, нагнулась над телом, поцеловала государыню в губы и надела корону на голову покойницы. Потом спустилась с катафалка и с глазами, полными слез, спокойно и грустно приказала закрыть гроб. В зале были трепет и смятение. Бывшие в зале офицеры и солдаты были преисполнены глубочайшего уважения перед таким высоким пониманием долга государыней.
Двадцать пятого января 1762 года было торжественное погребение тела государыни Елизаветы Петровны. Этот печальный день особенно запомнился Екатерине Алексеевне, и не ей одной, в этот день многое стало ясно. Екатерина Алексеевна увидела, что самым злым врагом самого себя был император Петр Федорович, и это он больше всех способствовал тому, чтобы ее заговор стал возможным.
День был морозный, туманный. Набережная и самая Нева с положенными мостками к Петербургской крепости были покрыты растоптанным снегом. Вдоль всего пути стояли «в шпалерах» войска. Солдаты держали ружья «на погребение», опущенными стволами книзу, заунывно трубили трубы и флейты, и тревожно и раскатисто били дробь барабаны. Казалось, самый воздух был напитан печалью. Народ, потрясенный смертью государыни, сплошною толпою стоял на пути процессии. Само шествие, медленное, торжественное, сопровождаемое чинным и протяжным пением певчих, с черными попонами на лошадях погребальной колесницы, с траурными платьями дам, с черными епанчами кавалеров, с рыцарями в черных латах, с черными штандартами – говорило о чем-то страшном и безнадежно печальном.
В этот день точно что-то случилось с государем. Вдруг напала на него былая детская резвость и шаловливость, точно он опять стал тем мальчишкой, каким был в Ораниенбауме, точно был он и подлинно «чертушкой», непереносимым в большом обществе. В длинной черной мантии, подбитой горностаевым мехом, несомой сзади него несколькими пажами и камергерами, он шел за гробом. Он шел все медленнее и медленнее, далеко отставал от колесницы, потом, точно опамятовавшись, кидался бежать с прыжками и смехом, камергеры и пажи выпускали концы мантии, и она развевалась за ним, точно черный хвост. Растерянные камергеры бежали следом.
– Чистый дьявол, – говорили в народе.
Должна была бы бежать за ним и императрица, но она послала конного пажа остановить шествие на Неве и медленно нагнала шествие.
– Да-а!.. государыня!.. Точно что государыня!.. Дай ей Господь, матушке Екатерине Алексеевне!
Так из тайников дворца заговор переходил в толпы петербургского народа…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































