Текст книги "Императрицы (сборник)"
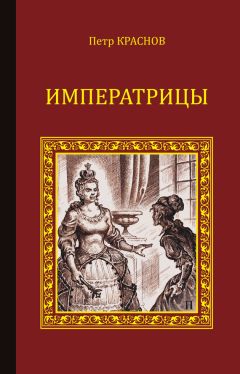
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 47 (всего у книги 52 страниц)
С известием о чесменской победе и уничтожении турецкого флота к императрице были посланы лейтенант Ильин и полковник Камынин.
Но гул победы докатился до Зимнего дворца еще до их приезда. государыня узнала о победе от курьеров Задунайской армии и из притворно льстивых поздравлений иностранных послов и посланников.
Радостно взволнованная, писала она ранним утром графу Алексею Григорьевичу и все поглядывала в раскрытое окно на серые волны Невы и думала: «Такие ли там волны или как пишут, как на картинах она видала темно-синего небесного цвета?..» Думала о своем флоте в Эгейском море, да уж не в самом ли деле они у стен Константинополя?
Легко бежало перо по плотной бумаге. Слова сами низались в красивые фразы.
«Блистая в свете не мнимым блеском флот наш, под разумным и смелым водительством вашим, нанес сей час чувствительнейший удар Оттоманской гордости. Весь свет отдает вам справедливость, что сия победа приобрела вам отменную славу и честь. Лаврами покрыты вы, лаврами покрыта и вся находящаяся при вас эскадра…»
Государыня вздохнула и задумалась. В окно доносился шум просыпающегося города. На Неве, на корабле, матросы тянули снасть и дружно в лад пели. Нельзя было разобрать слов той песни. И все это напомнило ей вдруг ее детство, Штеттин и песни пленных русских в саду. Милые, счастливые воспоминания. Как далеко все это и как далека, бесконечно далека та маленькая девочка Фике от этой великой и властной императрицы, чей флот, быть может, уже подходит к самым стенам Цареградским.
А сколько зависти, сколько злобы возбудит эта неслыханная победа в целом свете!.. Зависти, злобы и… ненависти и клеветы!..
Пятнадцатого сентября в высочайшем Ее Императорского Величества присутствии, в одиннадцать часов утра, в Соборной церкви Петербургской крепости, после Божественной литургии служили благодарственное молебствие по случаю чесменской победы.
Задолго до службы съезжались генералы, дамы, придворные, офицеры и сенаторы. В церкви был сдержанный шум голосов. Камынин был центром внимания. Он стоял, окруженный вельможами, и сотый раз рассказывал, как в пороховом дыму, в вихрях пушечного пламени, осыпаемый ядрами, он мчался на шлюпке, чтобы вонзить пылающий брандер в борт стопушечного турецкого корабля. Он скромно потуплял глаза, когда его спрашивали: «Как, вы сами и вонзили?» – и многозначительно молчал. Он понимал, что рассказывать правдиво не имело смысла. Он должен был быть героем, не таким, какими бывают на войне герои, не таким даже, каким был лейтенант Ильин, но таким, каким нарисовала себе в своем воображении героя толпа. Нужен был непременно красочный подвиг, много пламени, крика и шума, чтобы поддерживать то ликующее настроение, которое было кругом него.
Служители с фитилями на длинных палках ходили в толпе и возжигали лампады перед образами. Пахло маслом и воском. Не смолкал оживленный разговор. Передавали слухи, рассказывали, кто и чем награжден.
– Графу Орлову орден Святого Георгия Первой степени и титул Чесменского.
– Заслужил Алехан… Граф Орлов Чесменский!.. Знатно звучит!
Чужое, турецкое, далекое слово «Чесма» точно вдруг приблизилось, стало своим, родным, русским – Чесменский Орлов!..
– Спиридову Андрея Первозванного!.. Голубая кавалерия! То-то Григорий Андреевич доволен! Заслужил!.. И то… Зна-а-то-ок!.. Бывало, на шлюпке заедет посмотреть, как рангоут ровняют… Боже сохрани, кривизна где какая или что там провиснет… В струнку!.. Ногами затопает… Линьками грозит… Ему все одно – матрос ли, офицер… Всякая вина виновата… Капитана Клокачева – ма-атро-о-сом пожаловал!.. Камынин вот рассказывал… Ей-богу!.. Ну и отходчив… Ему пойдет голубая лента… Скромница – чистая девушка…
– Капитану Грейгу – Георгия Второй степени… Клокачеву и Хметевскому Георгия Третьей степени…
– Новые белые крестики… Умеет матушка жаловать.
– Всему флоту объявляется благоволение, выдается не в зачет годовое жалованье и деньги за взятые и сожженные корабли.
– В Э-ге-ейском море флот наш русской!.. Слыхали?.. Мо-о-лодцы, что и говорить!.. За-слу-ужи-или!
Императрица, сопровождаемая сыном, пятнадцатилетним Великим князем Павлом Петровичем, прошла на свое место. Служба началась.
Великий князь в белом с голубыми отворотами адмиральском мундире был очарователен.
Служил митрополит Платон с сонмом духовенства. Медленно, истово и торжественно шла обедня. Прекрасный придворный хор ангельскими голосами по-новому пел. В высокие окна гляделась золотая осень. Литургия приходила к концу.
В лиловой мантии, в белом клобуке, вышел на амвон митрополит, опираясь на посох.
Будет говорить предику.
Под куполом еще звенело: «Исполлаетидеспота…»
Митрополит быстрыми шагами спустился с амвона и, раздвигая перед собою толпу молящихся, прошел к мраморному саркофагу над могилой императора Петра Великого. Глубоко запавшие глаза владыки сверкали неугасаемым огнем веры. Рука сжимала пастырский посох. Митрополит вперил глаза в гробницу и воскликнул с воодушевлением, так уверенно и громко, что дрожь пробежала по спинам молящихся:
– Возстань!.. Возстань ныне, великий монарх!.. Возстань, отечества нашего отец!..
Кое-кто из придворных, те, кто ближе были к государыне, поднесли платки к глазам. Митрополит примолк, точно ожидал ответа из гроба. В наставшей тишине внятно раздался шепот графа Кирилла Григорьевича Разумовского:
– Чего вин его кличе?.. Як встане, всем нам достанется.
Государыня оглянулась и строго посмотрела на Разумовского.
Митрополит Платон продолжал с новою силою и несказанным вдохновением:
– Возстань и насладися плодами трудов твоих. Флот, тобою устроенный, уже не на море Балтийском, не на море Каспийском, не на море Черном, не на океане Северском, но где?! Он на море Медитерранском, в странах восточных, в архипелаге, близ стен константинопольских, в тех то есть местах, куда ты нередко око свое обращал и гордую намеревался смирить Порту… О!.. Как бы твое, Великий Петр, сердце возрадовалось, если бы…
Митрополит постучал по саркофагу:
– Но слыши!.. Слыши!.. Мы тебе как живому вещаем, слыши!.. Флот твой в архипелаге, близ берегов азийских. Оттоманский флот до конца истребил!
4. СамозванкаЧесменское сражение, ночное плавание на парусном брандере с лейтенантом Ильиным неизгладимый оставили след в душе Ивана Васильевича Камынина. От природы он не был храбр. Он был исполнителен, услужлив, ревностен к службе, как и должно быть – в прошлом – фельдфебелю Шляхетного корпуса. Брат опального Лукьяна, разжалованного в солдаты, раненного под Цорндорфом и теперь трубившего «армеютом» в далекой и глухой окраине, – Камынин должен был стараться, чтобы заслужить милости вельмож.
Алексей Орлов взял его адъютантом по самодурству. Брат бывшего солдата, ссыльного?.. Плевать!.. Иван Камынин из себя молодец, остер с девушками на язык, прекрасно образован. В молодости жил с полькой и хорошо говорит по-польски. По-французски и по-немецки говорит и пишет свободно – такой человек полуграмотному Орлову был находка. Пока жили в Ливорно, пока дело касалось собирания сведений, беседе с тосканцами, греками и албанцами, писания донесений в Военную коллегию и писем Румянцеву, да легких шаловливых амуров с томными, черноокими итальянками – все шло отлично. Камынин ничего лучшего не желал.
Но когда повидал палубы, залитые кровью и усеянные мертвыми телами, услышал непрерывный рев сотен пушек и грохот взрывов кораблей, увидал, как в морской пучине тонут люди – затосковал. Приехав в Петербург, понял, что не может вернуться к военной карьере, что и адъютантом при вельможе не всегда бывает безопасно, и решил переменить «карьер».
Алехан дал ему связи. Камынин стал вхож в дома вельмож. Брат Алехана – Григорий – был «в случае» – любимец государыни, Кирилл Разумовский и Никита Панин запросто принимали орловского адъютанта, героя Чесмы, и Камынин через них устроился для определения к штатским делам.
Турецкая война приходила к концу. Защита христианам была дана. Но православных угнетали не одни турки, им не сладко жилось в католической Польше, перед государыней вставал новый вопрос, завязывался крепкий узел, разрубить который она могла только мечом. Понадобился человек для тонкой и осторожной разведки о «положении и состоянии Польской конфедерации» во Франции, где, по сведениям, находился предводитель конфедерации, литовский гетман Огинский. Камынину было предложено с паспортом польского шляхтича Станислава Вацлавского поехать в Париж и там войти в дома, где собираются польские конфедераты.
Осенним вечером 1772 года Камынин в почтовой карете через узкие ворота Святого Мартына въехал в Париж.
Серое небо низко нависло над городом. Надвигались сумерки. По городу только начинали зажигать огни.
Карета остановилась в тесной улице. Носильщики и извозчики окружили ее.
– До свидания, Стась… – Молодой поляк, севший за две станции до Парижа, протянул руку Камынину. – Рад был встретить соотечественника и услужить ему чем и как могу.
Он был светловолос под париком, в высокой круглой шляпе, с тростью, без вещей. Он жил в Париже. В голубых глазах его хрусталем застыла затаенная печаль неразделенной любви. Эта печаль и побудила заговорить Камынина с поляком, выспросить его и познакомиться с ним, и как-то сразу между ними легло доверие. Они поняли друг друга.
– Вы первый раз в Париже?..
– Да… Первый.
– Тут теперь много поляков… Вся надежда на Францию… Хотите, я вас кое с кем познакомлю, вам помогут в ваших торговых делах. Вы из самой Варшавы?
– Да… Из Варшавы.
– Меня зовут Михаил Доманский. Я тут не очень давно.
И как-то сразу, вероятно, приветливость и русская душа, сквозившая в Камынине сквозь польский паспорт, внушили доверие Доманскому, он стал рассказывать, что он знаком здесь с одной особой.
– Блистательная, знаете, особа… И общество… Я вас туда введу. Вы сами увидите… Там все, что есть лучшего в Париже… Князья, прелаты… Удивительно… И вы скажете мне… Впрочем, когда увидите… ее надо спасти… Она же больная при том…
Карета остановилась.
– A demain!..
– A demain… В Fauburg St-Germain[66]66
До завтра… До завтра. В Сен-Жерменском предместье.
[Закрыть]. У бакалейщика Прево. Его там все знают. Там мы с вами и сговоримся, когда и как. Так завтра, в пять… Я займу столик и буду вас ожидать.
Доманский крепко пожал руку Камынину и сел в извозчичий фиакр.
Мелкий дождь стал накрапывать. Камынин вручил свою ивовую корзину казанского изделия, укрученную веревками, красноносому носильщику из отеля д’Артуа и пошел за ним.
– Monsieur, russe?
– Non… Polonais.
– Ah… bon… Russes, polonais, bon[67]67
Господин русский?.. Нет, поляк… А, хорошо. Русские, поляки – хорошо.
[Закрыть].
Громыхая колесами, ехали кареты, верховые продирались через толпу пешеходов. В уличке было тесно и грязно. Высокие серые и коричневые дома с крутыми крышами стеснили кривую, мощенную крупным булыжником улицу. Остро и едко несло вонью из дворов. Пронзительно торговцы кричали.
Улица раздвинулась. Было тут нечто вроде маленькой площади. Стояло большое стеклянное колесо лотереи, сзади него пестрой горою были разложены выигрыши. Человек в высокой шляпе надоедливо звонил в колокольчик, рядом с ним стояла девочка с завязанными глазами. Кругом сгрудилась толпа. Через толпу шли носильщики, несшие каретку с дамой в бальном платье.
Таким представился Камынину Париж.
За площадью, на рю Монмартр, был отель д’Артуа. По темной деревянной лестнице, вившейся крутыми изгибами, Камынин поднялся за слугою в четвертый этаж и вошел в отведенный ему номер. Маленькая каморка с громадной постелью ожидала его. Сухая вонь стояла в ней. Камынин подошел к окну и раскрыл его. Окно было низкое, до самого пола. Железные перила были внизу. Камынин пододвинул к ним кресло и сел.
Под ним кипела и волновалась улица. Дождь перестал. Молодая луна мутным пятном проблескивала сквозь тучи, она казалась ненужной: оранжевыми пятнами вились по улице фонари. Кто-то жалобным пропитым голосом пел под скрипку. Под самым окном мрачного вида господин говорил скороговоркой:
– Citrons, limonades, douceurs,
Arlequins, sauteurs, et danseurs,
Outre un geant dont la structure
Est prodige de la nature;
Outre les animaux sauvages,
Outre cent et cent batelages,
Les Fagotins et les guenons,
les mignonnes et les mignons…[68]68
Лимоны, лимонад, сладости,Арлекины, прыгуны, разные радости,Великан – чудо природы…Хищные звери,Сотни и сотни фигляров,Шуты и обезьяны,Миньоны и красотки…
[Закрыть]
Хлопали хлопушки, был слышен смех. У кабачка с ярко освещенными окнами, на отблескивающей мокрой мостовой, две пары плавно танцевали павану. Там то и дело срывались аплодисменты.
Служанка пришла стелить постель.
– Что это у вас за гулянье сегодня? – спросил Камынин. – Вероятно, большой праздник?..
Служанка бросила одеяло, снисходительно улыбнулась вопросу постояльца, повела бедрами и сказала:
– Праздник?.. Но почему мосье так думает?..
– Шумно так?.. Весело?.. Люди танцуют…
– В Париже?.. В Париже, мосье, всегда так!
Дама, с которой обещал познакомить Камынина Доманский, носила странное имя – Ali-Emete, princesse Wolodimir, dame d’Asov[69]69
Али-Эмете, княжна Владимирская, госпожа из Азова.
[Закрыть].
Что-то как будто русское было в этом имени. Камынин насторожился, но ничего не сказал Доманскому.
Али-Эмете занимала особняк на ile St-Louis[70]70
Остров Св. Людовика.
[Закрыть], у самой набережной Сены.
В гостиной, куда Доманский провел Камынина, было человек шесть мужчин и одна дама – хозяйка дома. Камынину, не привыкшему еще к парижской обстановке, показалось, что он вошел в громадный зал, где было много народа. Обманывали зеркала, бывшие по обеим стенам комнаты, в общем совсем уж и не большой, и много раз отражавшие общество.
Хозяйка лежала в капризной позе на низкой кушетке. Золотая арфа стояла подле. Чуть зазвенели струны, когда хозяйка встала навстречу входившим.
– Charmee de vous voir[71]71
Счастлива видеть вас.
[Закрыть], – сказала она, точно повторила заученный урок, и протянула Камынину маленькую, красивую, надушенную руку. – Спасибо, мосье Доманский, что привели дорогого гостя.
Она была в нарядной «адриене» с открытою грудью и плечами. Платье было модное, почти без фижм. Среднего роста, худощавая, стройная, с гибкими и вместе с тем ленивыми, какими-то кошачьими движениями, она была бы очень красива, если бы ее не портили узкие, миндалевидные, косившие глаза. В них не проходило, не погасало некое беспокойство, которое Камынин про себя определил двумя словами: «Дай денег…»
– Господа, позвольте познакомить вас – мосье Вацлавский, из Варшавы.
Она протягивала полуобнаженную руку со спадающими кружевными широкими рукавами и называла Камынину своих гостей:
– Барон Шенк… Мосье Понсе… Мосье Макке… Граф де Марин-Рошфор-Валькур, гофмаршал князя Лимбургского.
Названный старик, с лицом, изрытым морщинами, с беззубым узким ртом, осклабился в приторно любезной улыбке.
– Михаил Огинский, гетман литовский.
Камынин долгим и пристальным взглядом посмотрел на Огинского и низко ему поклонился.
– Все мои милые, верные, дорогие друзья, – сказала Али-Эмете, усаживаясь на кушетку.
Камынин сел против нее и осмотрелся. Обстановка была богатая, но Камынин, привыкший к хорошей обстановке в домах русских вельмож, сейчас же заметил, что все было в ней случайное, рыночное, наспех купленное, временное, наемное. Казалось – принцесса Володимирская не была здесь у себя дома. Золото зеркальных рам слепило глаза, зеркала удваивали размер залы, но комната была совсем небольшая, и в ней было тесно. Общество было пестрое, и хотя разговор сейчас же завязался и бойко пошел, было заметно, что все эти люди чужие друг другу и чужие и самой хозяйке, что они лишь случайно собрались здесь и что «свой» здесь только маленький, услужливый Доманский. Он уселся у ног хозяйки на низенькую качалку и не спускал с принцессы нежного, влюбленного взгляда.
Макке стал рассказывать, как он был на прошлой неделе в Версале на «levee du roi»[72]72
Утреннее вставание короля.
[Закрыть], а потом на королевском выходе к мессе.
– Плох король?.. – спросил, сжимая морщины, граф Рошфор.
– Не то что плох, а видно, что не жилец на этом свете. И нелегко ему.
– Ну, вот… Везде герцог Шуазель… Ему только соглашаться.
– Так-то так… но вот… Не то, не то и не то… Это уже не король… Божества нет. Нет торжественности, трепета, все стало бедно, скромно, мескинно… Levee du roi! – утренний прием у короля. Король вышел совершенно одетый, готовый к мессе, обошел представляющихся, расспрашивал о делах… Какое же это «Levee du roi»!.. Когда-то, при Людовике XIV, да ведь это было подлинно пробуждение некоего божества, вставание с постели со всеми интимнейшими подробностями человеческого туалета… Доктор, дворянское окружение… Стул…
– Оставьте, Макке, – капризно прервала рассказчика принцесса Володимирская. – Удивительная у вас страсть рассказывать всякие гадости, от которых тошнит, и покупать неприличные картинки с толстыми раздетыми дамами на постели. А когда дело коснется высочайших особ – тут вам и удержу нет… Такая страсть под кроватями ползать.
– Princesse, я хотел только сказать, что раньше дворянству показывалось, что король тоже человек и, как говорят римляне, – nihil humanum…[73]73
Ничто человеческое.
[Закрыть]
– Есть вещи и дела, Макке, о которых не говорят в салоне молодой женщины.
– Зачем же их публично делали во дворце?
– Мало ли что делается публично по всем дворам Парижа, но слышать разговоры об этом у себя в доме я не желаю… Меня просто тошнит от этого. Судари, кто из вас видал трагедию «Танкред»?..
Камынин чуть было не отозвался, но вовремя спохватился, потому что видал-то он трагедию в Петербургском эрмитажном театре, а приехал он… из Варшавы.
– Я смотрел еще в прошлом году, – сказал барон Шенк. – Мне не очень понравилось. Вот маленькая штучка «La nouvelle epreuve»[74]74
«Новое испытание».
[Закрыть] прелесть… Хохотал просто до упаду… И как играли!
Из соседней комнаты в гостиную прошел прелат в черной сутане. Он кивнул головою тому, другому, и сел в углу у корзины с искусственными цветами. Ливрейный лакей принес поднос с маленькими чашечками с черным кофе и стал обносить гостей. Камынин, живший на востоке, понял – пора уходить. Разговор разбился. Граф Рошфор тяжело поднялся с кресла и подошел к принцессе Володимирской.
– Простите, Princesse, от кофе откажусь.
– Все приливы? – сочувственно, протягивая тонкую бледную руку, спросила принцесса.
– Да… вообще нерасположение… До свидания.
– До свидания, граф. Надеюсь – до очень скорого.
За графом поднялся и гетман Огинский. Гости допивали кофе и расходились – сербский обычай, видимо, соблюдался в доме принцессы в Париже. Камынин уходил последним.
– До свиданья, мосье Станислав. Я рада была с вами познакомиться, надеюсь, что мы с вами будем теперь часто видеться.
И опять, как при представлении, Камынин заметил в косых глазах принцессы то же беспокойное выражение: «дай денег…»
Доманский остался вдвоем с принцессой Володимирской.
– Доманский, – сказала принцесса, опускаясь на кушетку и рассеянно перебирая струны арфы. – Ну, посоветуйте что-нибудь… Придумайте что-нибудь. Ведь положение ужасное… Этот?.. Как его?.. Мосье Станислав?.. Что он?.. Богатый?..
– Не знаю… Но, кажется, очень хороший, добрый, сердечный человек.
– Не то… Не то, Доманский. Хороший, добрый, сердечный… Все они такие… Все строят мне куры, ни один не догадается построить мне замок. Доманский, мне денег – ух! – как надо… Я недолговечна, а прожить мою короткую жизнь хочется хорошо. У Вантурса долги, он не может больше оплачивать мои счета. Барон Шенк и Понсе уговорили его дать мне немного последний раз… Гроши, Доманский. Капля в море. Мне надо содержать мой двор… лошадей… Один этот палац сколько мне стоит.
– Princesse!..
Молодая женщина долгим внимательным взглядом смотрела на бледное печальное лицо Доманского. Она играла на арфе какую-то восточную певучую мелодию, потом бросила играть и, порывисто схватив Доманского за руку, притянула его к себе.
– Знаю, Доманский. Верю, милый мальчик. Не могу… Не могу… Не могу… Не мучайте ни себя, ни меня.
Она опять заиграла на арфе и под музыку говорила с каким-то глубоким надрывом:
– Не могу, не могу, не могу… Не для того я рождена и не так воспитана. Я не могу жить в каком-то фольварке с курами, гусями и свиньями. Мне достаточно и одного человеческого свинства… Моя жизнь… – она широким жестом показала на зеркала, отражавшие многократно ее хрупкую фигуру, – должна иметь раму… Я знаю всех этих Макке, Понсе, Рошфоров, – ничтожные люди!.. Но мне рама нужна… Золотое обрамление… Я люблю – не судите меня, – я люблю роскошь… Драгоценные камни. Люди чтобы были кругом… Мне замок нужен, а не фольварк…
Она закашлялась тяжелым сухим кашлем, слезы показались в ее глазах, и сквозь них она сказала:
– Поймите меня… Брак с князем Лимбургским мне кажется единственным исходом. Тут все: и титул и богатство… Филипп-Фердинанд, владеющий князь Лимбургский и Стирумский, совладелец графства Оберштейн… Звучит-то как!..
– Старик…
– Ему всего сорок два года. Он очень образован.
– Но глуп.
– Умной жене – глупый муж не помеха. Он потомок графов Шауенбургских и притязает на герцогства Шлезвиг и Гольштейн… Он близок Русскому двору. У него, подумайте, Доманский, свое войско… Свое войско!.. Оранжевый прибор с серебром!.. Красиво!.. Он раздает ордена… Помогите мне, Доманский. Вы знаете, что я вас люблю и любить не перестану.
– Чем, чем могу я вам помочь в этом деле?
– Все готово… Все оговорено… Граф Рошфор мне сказал, что князь согласен венчаться на мне, но он требует бумаги. Свидетельство о моем рождении. Он хочет по ним точно знать, кто я.
– За чем же дело стало?..
– У меня нет никаких бумаг… И понимаете, что хуже всего, – я сама не знаю, кто я?..
– Я вас не понимаю, princesse.
Тихо звенела арфа, она рассказывала какую-то восточную сказку. Невнятен был этот рассказ. Молящие, растерянные, косящие глаза смотрели мимо Доманского, в темнеющий угол гостиной.
– Вы… Персидская княжна…
– Я этого не знаю…
– Но… Вы носите такой красивый и сложный титул.
– Я сама его придумала. Надо же было мне как-нибудь называться? И собака кличку имеет.
Опять лились аккорды. Звенела арфа. Лакей пришел зажечь свечи. Принцесса Володимирская махнула ему, чтобы он уходил.
Густели сумерки осеннего вечера, в глубокую прозрачную синеву окно погрузилось.
– Что я о себе знаю?.. Да почти ничего. Вся жизнь моя – как какая-то легенда, сказка, да, может быть, и то, что я о себе знаю, я сама и придумала и ничего из того, что я о себе думаю, никогда и не было. Моя память начинается с Киля. Знаю точно – крещена по греко-восточному обряду – по крайней мере я и теперь, когда хожу в костел и крещусь – крещусь по-гречески. Меня воспитывала какая-то госпожа… Госпожа Пере… Никто никогда не говорил мне, кто я, кто мои родители. Потом вдруг меня увезли из Киля… Может быть, похитили… Черные маски… Я очень тогда была этому довольна. У меня болела голова, и было все, как в горячке, в бреду. Как будто – Петербург… Смутное воспоминание. Широкая река, много воды. Москва. Как будто мы скрывались от кого-то. Помню еще Волгу, Каспийское море. Говорили про Азов. Что лучше было куда-то свернуть и ехать в Азов. Слово мне очень запомнилось. А затем был удивительный, как рай, восток.
Принцесса Володимирская стала играть восточный, все повторяющийся оригинальный, певучий напев.
– Вот это очень запомнилось. Точно сейчас слышу. Плоская крыша, лунная ночь и женщина с закрытым лицом играет на инструменте вроде арфы. При мне старуха, которая меня учила по-французски. Она мне сказала, что мы в Персии и что нас туда послали по повелению русского императора Петра III… И вдруг мы опять бежим. Теперь уже я помню – мы жили в Багдаде. Нам помогал персиянин Гамет. У нас – совсем, как сказка Шахразады – Аладдинов дворец. Зеркала, мрамор, розы. Ужасно, как много роз. Крупные розовые, красные, оранжевые, желтые, белые… И фонтан! И вот – бежать. Мы поехали в Испаган. При мне учитель-француз – Жан Фурнье, и я совсем взрослая барышня. Я учу Корнеля, Расина, Мольера, я читаю Вольтера. Я – une demoiselle![75]75
Я барышня!
[Закрыть] Вероятно, все-таки я хорошего рода. Обо мне так заботились. В 1769 году в Персии были беспорядки, и молодой перс Гали – он очень меня любил, совсем, как вы, Доманский, друг Гамета, – увез меня из Персии в Астрахань. Скверный город. Жара, пыль, пахнет рыбой и гнилью. Там почему-то Гали назвался Крымовым, выдавал меня за свою дочь. Мы купили русских слуг и поехали в Петербург. Что там случилось, я не знаю, но в Петербурге мы провели только одну ночь и уехали в Кенигсберг. Русские слуги были оставлены и заменены немцами. Мы больше года прожили в Берлине, потом в Лондоне. Гали должен был вернуться в Персию. Он оставил мне много денег, и я стала по его имени называться Али. Я одна, совсем молодая в Лондоне. Много денег, и я живу вовсю. Наряды, лошади, безумие… Деньги скоро вышли, вот тогда и появился банкир Вантурс… Он очень увлекся мною, но как ни молода я была, я уже имела жизненный опыт, и я поняла, что называться Али слишком скромно и бедно, вот я сама и придумала себе этот пышный титул. Али-Эмете, принцесса Володимирская, дама из Азова! Очень мне все это казалось красиво. Вот и все. Дальше – вы знаете. Но никаких документов, никаких бумаг – словом, ничего у меня нет, я, как собака, не имеющая хозяина, я даже имени своего настоящего не знаю и должна откликаться на каждую кличку. И вот все то, что я вам рассказала сегодня, может быть, завтра я вам совсем по-иному расскажу, потому что я совсем не уверена, что это так и было… Но все-таки?.. Кто-то учил меня и по-французски, и по-немецки, и по-итальянски, кто-то научил меня играть на арфе, да, наконец, ведь жила же я все эти с лишком двадцать лет!.. Какой мой родной язык?.. Не знаю… Если я крещена по-русски, вероятно – русский, но я на нем не знаю и пары слов. Как же мне с таким бредом в голове выходить замуж за князя Лимбургского, который хочет совершенно точно знать, кто я, и видеть мои документы о рождении, а я не знаю, ни где я родилась, ни где я крещена? Помогите мне, Доманский. Надо не только придумать рассказ о своей жизни, но создать для этой жизни и бумаги.
Когда принцесса Володимирская рассказывала все это, она сопровождала рассказ игрою на арфе. Теперь арфа смолкла. В зале – тихо. Было уже темно. В окно были видны редкие огни фонарей на противоположном берегу Сены.
Доманский встал и, неслышно шагая по ковру, отыскал огниво, высек огня и зажег канделябр. Медленно уплыли, точно растаяли, огни парижских фонарей.
– Princesse, вам надо ехать к князю, в Стирум, в его замок.
– Князь сейчас в Кобленце… Зачем я к нему поеду?
– Поезжайте в Кобленц… Держите князя под своим влиянием и обаянием. Я думаю, что хорошо было бы, если бы вы приняли католичество… Попробуем заинтересовать в вашей судьбе иезуитов и папу…
– Папу?.. Вы думаете?..
– Кроме того, я поговорю с гетманом Огинским и княгиней Радзивилл. Если у вас нет бумаг – их надо вам создать. В связи с политической обстановкой нужно будет что-нибудь и придумать.
– Боюсь, Доманский. Я ничего не хочу, только красиво и хорошо жить… Для этого – денег… Я устала, милый мальчик… Опять ехать… Так хочется покоя.
– В княжестве Стирум вы отдохнете.
– Когда-то, когда князь Лимбургский верил каждому моему слову, он обещал дать мне в пожизненное пользование Оберштейнское графство. Я сознаю – вы правы. Надо опять куда-то ехать… Прислуге три месяца не плочено. Я задавлена счетами… Мне надо денег… денег… денег!..
Принцесса Володимирская тяжело закашлялась, легла на кушетку и зарылась лицом в подушки. Она казалась Доманскому жалкой и обреченной на несчастия.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































