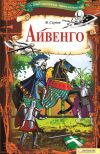Текст книги "Истории Фирозша-Баг"

Автор книги: Рохинтон Мистри
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Так же внезапно он убрался в свою квартиру, хлопнув дверью. Как по сигналу, прежде чем ребята успели что-то сказать, Нариман продолжил рассказ:
– Слезал Сарош с унитаза, только чтобы поесть. Даже в отчаянии он понимал, что без хорошего питания вся затея обречена на провал – давление пищи на кишечник необходимо, если есть хотя бы малейшая вероятность успеха.
Но неотвратимо наступил день отъезда с серым небом и запахом дождя, однако даже слабых намеков на успех так и не появилось. Сарош зарегистрировался в аэропорту и направился в скучный зал ожидания. Исключительно по привычке он завернул в туалет. Но понял безнадежность затеи и вернулся к холодному и влажному пластику кресел. Эти кресла одинаковы в любом аэропорту мира.
Пригласили на посадку, и Сарош первым взошел на борт самолета. Небо стало еще темнее. В окне он увидел, как среди туч вспыхнула зигзагообразная молния. Почему-то ему вспомнилось все, что он выучил в школе Святого Хавьера про зигзагообразные и сплошные молнии. Лучше бы она превратилась в сплошную. В зигзагообразных было что-то зловещее, не обещающее ничего хорошего.
Керси, увлекшись историей, начал непроизвольно хрустеть костяшками пальцев. У него до сих пор осталась эта детская привычка. Из-за неприятного звука Джахангир нахмурился, а Вираф толкнул Керси в бок, чтобы тот прекратил.
– Сарош пристегнул ремень и попробовал подумать о долгой дороге домой, о вопросах, на которые придется отвечать, о сочувствии и критике, которые свалятся на него. Но самым важным для него был настоящий момент – он сидит в самолете, тучи опускаются все ниже, на горизонте сверкает молния – и окончательный приговор: проиграл.
Но погодите. Вот что-то появилось. Какое-то бурчание. Внутри. Или ему показалось? Может, это на самом деле гром, который он в состоянии полной раздавленности вдруг почувствовал у себя внутри? Нет, вот опять. Надо идти в туалет.
Он добрался до туалета, и почти в ту же секунду загорелась надпись: «Пожалуйста, вернитесь на свое место и пристегните ремни». Сарош подумал, что, может, лучше залезть на унитаз и быстро закончить свои дела на корточках, отказавшись от дежурной попытки сделать это сидя. Но самолет тронулся, и это решило вопрос: во время движения на корточках будет трудно удержать равновесие.
Он начал тужиться. Самолет двигался дальше. Сарош все тужился и тужился, трясясь от напряжения. Знак «пристегните ремни» мигал теперь чаще и ярче. А самолет ехал быстрее и быстрее. Сарош тужился изо всех сил, сильнее, чем раньше, сильнее, чем все эти десять лет в новой стране. Воспоминания о Бомбее, собеседование для эмиграции в Нью-Дели, прощальный вечер, замусоленный молитвенник матери – все это само по себе появилось из десятилетнего прошлого, чтобы тужиться вместе, придав ему новые силы.
Нариман остановился и прочистил горло. Сгустились сумерки, сократилась и частота, с которой автобусы BEST курсировали по главной улице рядом с Фирозша-Баг. Летучие мыши начали как сумасшедшие носиться от одного конца двора к другому, их бесшумные тени делали бесконечные круги над корпусами.
– Вторя громовому раскату, хлынул ливень. Сарош почувствовал, как под ним что-то плюхнулось. Неужели правда? Он посмотрел вниз, чтобы удостовериться. Да, именно так. У него получилось!
Но сейчас, наверное, слишком поздно? Самолет ждал взлета на отведенном ему месте взлетной полосы, двигатели работали на полную мощность. Дождь лил как из ведра, и взлет могли отложить. Возможно, ему все-таки разрешат отменить полет и выйти из самолета. Он вывалился из тесной кабинки.
К нему поспешила стюардесса.
«Извините, сэр, но вам нужно немедленно вернуться на свое место и пристегнуть ремень».
«Вы не понимаете! – взволнованно закричал Сарош. – Мне надо выйти из самолета! Теперь все в порядке, мне больше никуда не надо лететь…»
«Это невозможно, сэр! – с ужасом сказала стюардесса. – Сейчас никому нельзя выходить. Мы готовимся к взлету!»
Ее испугал дикий взгляд его бессонных глаз и темные круги под ними. Она жестом подозвала на помощь коллег.
Сарош не унимался. К ним бросились стюард и главная стюардесса: «Что у вас за проблема, сэр? Вы должны занять свое место. Мы имеем право, если необходимо, насильно усадить вас, сэр, и пристегнуть ремень».
Самолет снова начал движение, и Сарош вдруг почувствовал, что желание немедленно покинуть самолет пропало. Его взбудораженное сознание – результат кошмарных дней и мучительных ночей – снова обрело спокойствие, которого он лишился десять лет назад, и теперь он заговорил спокойно: «Этого… этого не потребуется… все нормально, я понимаю». И послушно вернулся на место.
Когда самолет, набирая скорость, помчался по взлетной полосе, первой реакцией Сароша была радость. Процесс адаптации закончился. Но позднее он не мог не задаться вопросом: удалось ему это до или после десятилетнего срока? Поскольку он уже прошел контроль и таможню, оставался ли он эмигрантом в полном смысле слова в момент достигнутого успеха?
Но такие вопросы были чисто умозрительными. Или нет? Он не мог решить. Если бы он вернулся, как бы все сложилось? Десять лет назад чиновник, проставивший штамп в его паспорте, сказал: «Добро пожаловать в Канаду». Это было одно из самых дорогих воспоминаний, и, предаваясь ему, Сарош уснул.
Самолет летел над дождевыми тучами. В кабину лился солнечный свет. Несколько капель дождя чудесным образом все-таки висели на иллюминаторах, напоминая о том, что творилось внизу. Когда их поймал солнечный луч, они засверкали.
Некоторые мальчики собрались уходить, решив, что история наконец закончена. Она явно показалась им не такой интересной, как другие истории Наримана. «Бестолочи, – подумал Джахангир, – слушают и не могут понять, что это шедевр». Нариман поднял руку, призывая к тишине.
– Но наша история пока не заканчивается. Через несколько дней после приезда в Бомбей Сарошу устроили торжественную встречу. Но в этот раз гости пришли не в Фирозша-Баг, потому что здесь один его родственник тяжело болел. Но меня все же пригласили. Родные и друзья отнеслись к Сарошу с вниманием и подождали, пока его организм перестроится на местное время. Им хотелось, чтобы Сарош тоже получил максимум удовольствия.
Выпивка в его честь снова лилась рекой: виски с содовой, ром с колой, бренди. Сарош заметил, что за время его отсутствия поменялись марки напитков – этикетки были другие, неизвестные. Даже при смешивании. Вместо колы добавляли «Тамс-Ап», и он вспомнил, что читал в газете, будто «Кока-Колу» правительство выгнало из Индии за то, что те отказались предоставить свою засекреченную формулу.
Сароша весь вечер снова и снова похлопывали по спине, с воодушевлением жали ему руку. «Сказать по правде, – говорили ему, – ты принял верное решение. Посмотри, как счастлива твоя мать, что дожила до этого дня». Или же спрашивали: «Ну, герой, что заставило тебя изменить свое решение?» Сарош улыбался и только кивал на все подобные разговоры, раздавал канадские денежные купюры по настойчивой просьбе интересующихся, которые, подначиваемые его матерью, требовали показать к тому же канадский паспорт и свидетельство о гражданстве. Со дня приезда мать донимала его расспросами о настоящей причине возвращения: «Сачу кахе[150]150
Скажи правду (гуджарати).
[Закрыть], почему ты вернулся?» И надеялась, что в этот вечер среди друзей он поднимет бокал и что-то объяснит. Но ее ждало разочарование.
Шли недели, и Сарош начал отчаянно искать свое прежнее место в укладе той жизни, которую оставил десять лет назад. Друзья, устроившие ему такую торжественную встречу, постепенно исчезли. Вечерами он ходил гулять по Марин-драйв вдоль стенки набережной, где когда-то собирались знакомые. Но люди, сидевшие на парапете спиной к бьющимся в стенку волнам, были ему неизвестны. Тетраподы торчали на своем месте, стойко защищая отвоеванную сушу от бушующего моря. Еще ребенком он смотрел, как подъемные краны опускали в воду эти цементные и бетонные громадины приличествующего серого цвета. Теперь их цвет стал мрачный и черный. И от этих угловатых конструкций поднимался явственный запах человеческих экскрементов. Старый жизненный уклад Сарош так и не нашел. Только зря искал. Уклады жизни эгоистичны и злопамятны.
Однажды, проезжая мимо Марин-драйв, я увидел сидящего в одиночестве человека, который показался мне знакомым. Я остановился. Сароша я признал не сразу, таким безнадежным и скорбным был его вид. Припарковав «зеницу ока», я направился к нему со словами: «Привет, Сид! Что ты тут делаешь совсем один?» Он ответил: «Нет-нет! Больше не называйте меня Сидом, это имя напоминает мне обо всех моих несчастьях». И тогда на парапете Марин-драйв он поведал мне свою печальную и горькую историю. Волны бились в тетраподы, уличные торговцы кричали про кокосовую воду, сок сахарного тростника и пан.
Когда Сарош закончил свою повесть, он сказал, что поведал мне эту печальную сагу, потому что знает, что я рассказываю истории ребятам в Фирозша-Баг, и он хочет, чтобы я рассказал эту тоже, особенно тем, кто планирует уехать за границу. «Скажите им, – попросил Сарош, – что мир может быть обманчивым, а мечты и амбиции часто ведут к самым губительным ловушкам». Когда он произносил эти слова, я чувствовал, что сам он где-то далеко, может, в Нью-Дели на том собеседовании, и видит себя таким, каким был тогда в предвкушении той жизни, которая казалась ему полной надежд и обещаний, раскрывавшихся перед ним бесконечной чередой. Бедняга Сарош! Но потом он уже снова был рядом со мной на парапете.
«Прошу вас, – сказал он, и прежнее чувство юмора возвращалось к нему по мере того, как его голос звучал все басистее, чтобы произнести его любимые строки из "Отелло", – здесь Нариман и сам выдал бас-профундо[151]151
Basso profundo (ит.) – очень низкий мужской голос.
[Закрыть]: – “Я вас прошу в отчете о всем случившемся меня представить таким, каков я есть: не обеляя и не черня”[152]152
Шекспир, Уильям. «Отелло, венецианский мавр». Акт 5, сцена 2. Перевод М. Лозинского.
[Закрыть], сказать, что жил в Торонто, как мог, парсийский юноша. Причем добавьте, что для одних все это хорошо, а для других все плохо. Но для меня та жизнь из молока и меда занозой в задней части оказалась».
В этом месте Нариман позволил сдавленному хихиканью перерасти в смех. Мальчики закричали «Здорово!» и громко захлопали. «Еще! Еще!» – просили они. Наконец Нариману пришлось их утихомирить, предостерегающе указав на дверь жадюги Рустом-джи.
Пока Керси и Вираф шутили и прикидывали, как все-таки отнестись к рассказу, Джахангир протиснулся к Нариману и сказал, что это была самая лучшая из его историй. Нариман похлопал его по плечу и улыбнулся. Джахангир ушел, задумавшись, был бы Нариман так же популярен, как доктор Моди, если бы тот был жив. Вполне вероятно. Ведь их любили по разным причинам: доктор Моди оставался общительным всегда, а у Наримана лишь периодически случались позывы к бытописанию.
Но теперь выступила группа ребят, которым на прошлой неделе очень понравилась история про Савукшу. Пользуясь на редкость хорошим настроением Наримана, они принялись упрашивать его рассказать еще.
– Дядя Нариман, расскажите про Савукшу-охотника. Вы уже начинали рассказывать про него.
– Какого охотника? Не понимаю, о чем вы.
Он отказывался вспоминать и поднялся, чтобы уйти. Но его не отпускали. Мальчики начали скандировать:
– Хо-тим Са-вук-шу! Хо-тим Са-вук-шу!
Нариман опасливо покосился на дверь Рустом-джи и успокаивающе поднял руки.
– Ладно, ладно! В следующий раз снова расскажу про Савукшу. Про Савукшу-художника. Историю о парсийском Пикассо.
Одолжи мне свой свет
…Все огни твои зажжены —
куда же идешь ты с лампой?
Мой дом темен и пуст —
одолжи мне свой свет.
Рабиндранат ТагорГитанджали
Мы уехали из Бомбея в один и тот же год. Сначала Джеймс в Нью-Йорк, потом я в Торонто. Поскольку мы оба стали иммигрантами в Северной Америке, общий опыт должен был бы хоть в какой-то мере сохранить наше знакомство. А оно было долгим, начиная с учебы в школе Святого Хавьера.
Поддерживать знакомство не так уж и трудно. Иное дело – дружба. Поэтому странно, что это знакомство полностью прекратилось, что Джеймс исчез из нашей жизни, моей и Перси, и теперь я не могу представить его даже в качестве проходного персонажа, заполняющего пробел в общем действии или влияющего на ход событий.
Джамшед – друг моего брата. Мы втроем ходили в одну и ту же школу. Джамшед и мой брат Перси были оба на четыре года старше меня, учились в одном классе и много времени проводили вместе. В обеденный перерыв, однако, им приходилось расставаться, потому что Джамшед не ел там, где обедали мы с Перси – в школьном спортзале, который в обед использовался как столовая.
На школьный двор нетвердым шагом входили носильщики с узкими и шаткими контейнерами на головах, где были сложены коробки с обедами. В каждом контейнере умещалось по пятьдесят коробок, присланных родителями со всех концов города. Когда коробки распаковывались, по спортзалу распространялся незабываемый запах, густой, как помои, потому что в нем смешивались запахи четырехсот отдельных горячих обедов. Должно быть, он пропитал все стены и потолок, постепенно становясь все более застарелым и прогорклым. Независимо от времени дня, в жарком и сыром гроте спортзала всегда пахло чем-то затхлым и тошнотворным. Так пахнет в комнате, где кого-то вырвало, даже после того, как там все вымыли.
Джамшед не ел в этом битком набитом пещерообразном помещении. Не для него был воздух, насыщенный помойными ароматами. Его еда доставлялась ровно в час дня в родительском автомобиле с собственным шофером и кондиционером и съедалась на роскошном заднем сиденье, обтянутом кожей, посреди этого средоточия изобилия.
В таком уютном уголке, служившем ему столовой, где личный шофер исполнял обязанности официанта, Джамшед обедал все школьные годы, невзирая на превратности климата. Муссон мог насквозь промочить носильщиков обедов и охладить еду четырем сотням голодных школьников, но не мог добраться до Джамшеда и его пищи. Носильщики могли прийти покрытые в жару сверкающим вонючим потом и принести обжигающе горячие коробочки, которые по дороге становились горячее, чем когда их выносили с кухонь Бомбея, но обеду Джамшеда ничего не грозило.
В старших классах школы мой брат Перси стал часто бывать на выходных в доме своего друга на Малабар-Хилл. До этого мы проводили выходные, хулиганя в компании Песи-падмару и других ребят с нашего двора. Эти дни взрослые ждали с ужасом, не зная, какие еще выходки придумает Песи, чтобы терроризировать невинных и простодушных жильцов.
Но Перси все это оставил ради общества Джамшеда. Когда он возвращался от друга, мама приступала к допросу. Что они ели? Была ли дома мама Джамшеда? Что они делали вдвоем весь день? Ходили ли они куда-нибудь? И так далее.
В те годы Перси мало что мне рассказывал. Наши жизни пересекались лишь в обеденные часы, но что тут можно успеть? С ребятами из Фирозша-Баг мы недолгое время играли в крикет. Впрочем, Перси и к нему утратил интерес. Он отказывался идти с нами, когда в воскресенье утром папа вел всю компанию в сторону Марин-драйв на майдан. Вскоре, как бывает со всеми младшими братьями, я стал Перси только мешать.
Но мое любопытство о делах Перси и Джамшеда утоляли мамины расспросы. Я узнал, что целыми днями они мастерят модели самолетов и слушают музыку. Самолетами поначалу назывались обычные планеры, а пластинки были с музыкой Мантовани[153]153
Аннунцио Паоло Мантовани (1905–1980), англо-итальянский дирижер, композитор и артист.
[Закрыть] и бродвейских мюзиклов. Позже пришла пора более сложных моделей с топливными двигателями и дистанционным управлением, а также классической музыки от Баха до Пуленка[154]154
Франсис Жан Марсель Пуленк (1899–1963) – французский композитор, пианист, критик.
[Закрыть].
Наборы для моделирования самолетов дарили Джамшеду его разъезжавшие по свету дядюшки и тетушки, которые покупали их во время командировок в Англию и Соединенные Штаты. Казалось, что у всех, кроме нас с братом, имелись дяди и тети, охваченные страстью к путешествиям, и этот канал поставок из западного мира гарантировал Джамшеду бесперебойное снабжение иностранной одеждой, обувью и пластинками.
Однажды в субботу во время маминых расспросов Перси сообщил, что Джамшед получил оригинальный саундтрек «Моей прекрасной леди». Это была сенсация. Долгоиграющие пластинки в Бомбее относились к недоступным товарам, а те немногие экземпляры, которые привозили (контрабандой) частные лица вроде родственников Джамшеда, продавались на черном рынке за двести рупий. Я видел такие пластинки, выставленные рядом с иностранными духами, шоколадками и сырами на уличных прилавках вокруг фонтана «Флора».
Иногда во время облав полиция громила прилавки контрабандистов. И мне нравилось представлять, как однажды случится такая облава, а я как раз буду проходить мимо, и посреди окружающего хаоса и разгрома «Моя прекрасная леди», никем не замеченная, перелетит по воздуху и упадет прямо к моим ногам. Конечно, случись такое чудо, я мало что мог бы сделать, потому что у нас был всего лишь старый граммофон на 78 оборотов в минуту.
После напряженных переговоров, измучивших маму, Перси и меня, Перси все-таки согласился спросить своего друга, нельзя ли мне тоже послушать альбом. Договоренность была достигнута. И в ближайшую субботу мы отправились в дом Джамшеда. Дорога от Фирозша-Баг до Малабар-Хилл шла в противоположном направлении от той, по которой мы ходили в школу, и улицы автобусного маршрута были мне неизвестны. Вестибюль в доме Джамшеда был облицован мрамором, а лифт, взмыв вверх, плавно доставил нас на одиннадцатый этаж прежде, чем я успел перевести дух. Я хотел сказать Перси, что нам в Фирозша-Баг такой бы не помешал, но тут дверь открылась. Джамшед вежливо пригласил нас войти и, не теряя времени, поставил пластинку на вращающийся диск проигрывателя. Ведь за этим я и пришел.
После того как музыка закончилась, день тянулся долго и скучно. Я без всякого интереса смотрел, как ребята мастерят модель. На коробке было написано, что это «Сопвич кэмел». Название было мне знакомо по книжкам о Бигглсе, которые Перси приносил домой. Взяв крышку, я от нечего делать прочел, что этот самолет был спроектирован британским промышленником и авиационным инженером Томасом Октейвом Мердоком Сопвичем, родившимся в 1888 году, и стоял на вооружении во время Первой мировой войны. Потом следовал список деталей самолета.
Затем мы обедали, и Перси с Джамшедом разговаривали. Я был всего лишь ребенком – мне полагалось слушать. Они говорили о школе и школьной библиотеке, о тех книгах, которых там очень не хватает, и о гхати, которые в последнее время наводнили школу.
В наследованном нами восприятии реальности гхати вечно что-нибудь наводняли – нет чтобы просто прийти! Они наводняли банки, оскверняли святость всевозможных институтов и забирали себе наиболее востребованные работы. Гхати наводняли даже колледжи и университеты – дело и вовсе неслыханное. Куда ни посмотри – везде что-нибудь да наводнили эти проклятые гхати!
С большим стыдом я вспоминаю слово гхати. Слово-гнойник, источающее вонь ксенофобии. Оно предписывает значительной группе людей бессловесную роль кули и слуг навсегда и без всяких надежд на лучшее.
Во время одной из наших редких поездок на каникулы в Матеран[155]155
Небольшое селение в горах в 90 км от Бомбея (Мумбаи), где запрещено ездить на автомобилях. Место отдыха.
[Закрыть] я еще ребенком безучастно наблюдал, как с огромным трудом кули грузит на себя багаж нашей семьи. Большой металлический сундук был водружен ему на голову, сверху – кожаный чемодан. Гигантских размеров дорожная сумка была повешена на левую руку, которую он поднял, чтобы удерживать груз на голове, а второй чемодан был взят в правую. Все это делалось с таким же вниманием и тщательностью, как если бы мы грузили багаж на телегу или на тачку. Главное – сохранить равновесие, чтобы ничего не свалилось. Затем этот худой, как скелет, человек посеменил к поезду, который должен был отвезти нас в горы. А там такой же человек-скелет ждал нас с рикшами. Автомобили были запрещены в Матеране, чтобы сохранить пасторальную чистоту этого места и обеспечить пропитание рикшавалам[156]156
Люди, везущие повозки-рикши (хинди, урду).
[Закрыть].
Много лет спустя я оказался в том же селении как член клуба пешеходных путешественников своего колледжа и карабкался с рюкзаком по горным склонам. Автомобили так и не были разрешены в Матеране, и каждый раз, когда мимо нас проносилась рикша в мелькании ног и колес, мы кричали сидевшему в ней человеку: «Капиталистическая свинья! Ублюдок! Нечего ездить на спине своего брата!» На мгновение озадаченный пассажир наклонялся вперед, не совсем понимая, в чем дело, а потом вновь откидывался на удобные подушки повозки.
Но эта манера бесцеремонного социалиста пришла ко мне гораздо позднее. Поначалу нам приходилось думать только о школе, школьной форме, оберточной бумаге для учебников и тетрадей, а также автобусе, на который надо было успеть утром. Помню, как Перси бушевал и кричал на нашу тщедушную гхатон[157]157
Прислуга (гуджарати).
[Закрыть], если это жалкое существо, подметавшее или мывшее пол, попадалось ему на пути. Мама тогда с гордостью отмечала: «У него характер, как у дедушки». Но потом отдельно выговаривала Перси, поскольку в те годы было очень трудно найти новую гхатон, особенно если предыдущая увольнялась из-за оскорбительного отношения хозяйского сынка и сообщала о причине своим знакомым.
Я никогда точно не знал, почему одни называли служанок гхатон, а другие – гунга. Мне казалось, что последнее название было призвано задобрить этих женщин: то, что все зовут их словом, напоминающим имя священной индийской реки, уравновешивало возможную грубость и дурное обращение. Но добрые старые времена, когда вы могли накричать на гхатон, пригрозить избить и спустить с лестницы, а потом ожидать, что она придет к вам на следующее утро, несомненно, прошли.
В старшей школе Перси и Джамшед учились в разных колледжах. Если они вообще встречались, то лишь на концертах Бомбейского камерного оркестра. Вместе с приятелем по колледжу Навджитом и другими ребятами мой брат организовал благотворительное агентство, которое собирало и распределяло средства для бедных фермеров в маленькой деревне штата Махараштра. Их целью было вырвать как можно больше этих несчастных из когтей местных кредиторов.
Джамшед проявлял очень поверхностный интерес к этому мало ему знакомому занятию Перси. Всякий раз при встрече с братом он заводил речь о том, что он делает все возможное, чтобы уехать из страны.
– Абсолютно никакого будущего в этом дурацком месте, – говорил он. – Везде чертова коррупция. К тому же из того, что хочется, ничего не купишь. Приличный английский фильм не посмотришь. При первой же возможности я уеду за границу. Предпочтительно в США.
Через некоторое время Перси перестал рассказывать ему о своей маленькой деревне, и они обсуждали только концертную программу или выступление солиста на вечернем концерте. Потом их встречи на концертах совсем прекратились, потому что Перси стал очень мало времени проводить в Бомбее.
Джамшеду удалось уехать. Наступил день, когда он пришел к нам прощаться. Но Перси не было дома, он работал в своей деревеньке: его благотворительное агентство начало функционировать полный рабочий день. Джамшед поговорил с теми из нас, кого застал, и все мы согласились, что он поступает правильно. Ведь в нашей стране просто нет никаких перспектив, и ничто не способно остановить ее от скатывания в пропасть отчаяния и безысходности.
Мои родители сообщили ему, что я тоже хочу эмигрировать, только не в Штаты, а в Канаду.
– Мы будем скучать, если ему придется уехать, – сказали они Джамшеду, – но он должен это сделать ради собственного будущего. В Торонто много возможностей. Мы видели объявления в английских газетах, где канадские иммиграционные службы поощряют эмиграцию в Канаду. Конечно, они не станут рекламировать это в такой стране, как Индия, – кому захочется, чтобы проклятые гхати явились на их прекрасную землю? Но канадское представительство в Нью-Дели проводит собеседования и выбирает высококвалифицированных претендентов.
В этих расхожих фразах из наших разговоров отражались такие же расхожие идеи, которые стали для многих людей основанием для эмиграции. Как считали мои родители, у меня не будет сложностей с получением разрешения, если учесть мое образование, западный стиль жизни и свободное владение английским.
И они не ошиблись. Через несколько месяцев все было готово для моего отъезда в Торонто.
Потом начали приходить соседи. Всю последнюю неделю они являлись дать мне свое благословение и пожелать всего доброго. Первой была мать Бальсары Книжного Червя. Как всегда, ее волосы были завязаны узлом на затылке и покрыты матхубану.
– Я знаю, – сказала она, – что вы с Джахангиром никогда не были большими друзьями, но в такое время это неважно. Он желает тебе удачи.
Вместо объятий она положила руку мне на плечо и добавила:
– Не забывай родителей и все, что они для тебя сделали, и в любом случае сохраняй свое доброе имя.
Пользуясь случаем забыть о давней размолвке с моими родителями, пришла Техмина в своей обычной накидке, жуя гвоздику и шаркая домашними туфлями. Сообщила, что ее все еще мучают катаракты, которые отказываются созревать.
Однажды утром меня остановил во дворе Нариман Хансотия. Он собирался в Мемориальную библиотеку имени Кавасджи Фрамджи, а я в контору авиакомпании, чтобы окончательно подтвердить свой билет.
– Ну-ну, – сказал он. – Значит, ты серьезно всем говорил, что уедешь за границу. Кто бы мог подумать! Кто мог представить, что маленький Керси, сынок Силлу Бойс, в один прекрасный день отправится в Канаду! Помню, как ты был росточком мне по колено, бегал по двору со своим братом и пытался все делать, как он. Что ж, живи хорошо, не совершай ничего, что опозорило бы тебя самого или нас, парсов. И не скажи сразу же, как приземлишься: «Где же девушки?», как сделал один парень. Я тебе о нем рассказывал?
И Нариман начал свою историю:
– Один парень, помешанный на сексе, собрался в Калифорнию. Неделями он рассказывал друзьям, как местные женщины разгуливают по пляжу практически без всего, как там легко найти такую, которая согласится с тобой пойти, стоит предложить ей то да се, и как прекрасно он будет проводить время, попав туда. И вот, приземлившись в Лос-Анджелесе, он попробовал пошутить с пограничником и спросил: «Где же девушки?» И что, как ты думаешь, случилось потом?
– Что, дядя Нариман?
– Конечно, его депортировали ближайшим рейсом. Так он и не узнал, где девушки.
Старый добрый дядя Нариман! Он никогда не перестанет рассказывать свои истории. Наконец мы расстались, и, когда он на своем древнем «мерседесе» уехал со двора, кто-то с первого этажа корпуса «А» позвал меня по имени. Это был жадюга Рустом-джи, скрывавшийся в тени и ждавший, пока уедет Нариман. Он пожал мне руку и с суровым видом пожелал всего доброго.
Но в последнюю ночь в Бомбее меня разбудила резкая боль в глазах. Был час ночи. Я промыл глаза и попытался снова уснуть. Почти шутя, я представлял себя героем греческой трагедии, который виноват в грехе гордыни, потому что захотел эмигрировать с родной земли, и поплатился за это выжженными глазами: я, Тиресий, слепой и мечущийся между двумя жизнями – одной в Бомбее и другой, будущей, в Торонто…
Утром пришел доктор Сидхва и сказал, что у меня конъюнктивит, ничего особенно серьезного. Но, пока не справлюсь с инфекцией, надо будет каждые четыре часа закапывать капли и носить защитные темные очки. Сказал, что плату не возьмет, так как все равно собирался зайти попрощаться и пожелать мне удачи.
Почти в полдень пришла Наджамай. Должно быть, откладывала свой визит до благоприятного момента. Выразила сожаление по поводу моих глаз, а затем достала свой переносной праздничный набор: небольшой серебряный тхали с гирляндой и крошечную чашечку для киновари. Это были миниатюрные копии ее обычного набора, слишком тяжелого, чтобы таскать с собой. Гирлянду она повесила мне на шею, нанесла большой ярко-красный тилак[158]158
Знак принадлежности к касте в Индии, который обычно наносят на лоб.
[Закрыть] и несколько раз меня обняла.
– Живи долгие, долгие годы, – сказала она, – многое посмотри, многое узнай, зарабатывай побольше и сделай так, чтобы мы все тобой гордились.
Потом Наджамай предалась воспоминаниям:
– Помнишь, как ты носил ко мне наверх мясо? Такой хороший мальчик! Всегда помогал маме. А помнишь, как ты убивал своей битой крыс даже в моей квартире? Я всегда думала: такой маленький и такой смелый, не боится убивать битой крыс. А однажды ты даже погнался с битой за Фрэнсисом. О, я никогда этого не забуду!
Она ушла, и отец нашел мне пару темных очков. Так мы провели мой последний день в Бомбее – городе, которому до той минуты принадлежали все мои дни. Через темные очки я в последний раз посмотрел на свою кровать, сломанную биту, трещины в штукатурке, комод, который мы делили с Перси, пока он не уехал в деревню, на те места, где я вырос, аптеку («Открыто 24 часа»), иранский ресторан, продавца сока из сахарного тростника, овощную и фруктовую лавку в Тар Галли. Глядя через темные очки, я помахал на прощание родственникам в аэропорту, столпившимся у последнего барьера, за который уже не пускали никого, кроме пассажиров.
Весь в напряжении от волнения я пошел по летному полю. И убедил себя, что причиной объявшего меня легкого холодка был лишь порывистый ночной ветер.
Затем с красными от конъюнктивита глазами, с нелепой пузатой бутылкой глазных капель в кармане и с тысячью не до конца сформулированных мыслей и сомнений, путавшихся у меня в голове, я сел в белый самолет, который, рокоча, стоял на взлетной полосе. Я попытался вообразить, как на галерее для провожающих стоят папа и мама и смотрят, как меня проглатывает самолетное нутро, представил себе, как они утешают друг друга, еле сдерживая слезы (они обещали мне, что не будут плакать), пока я исчезаю в ночи.
Прожив почти год в Торонто, я получил письмо от Джамшеда. Из Нью-Йорка. Очень изящное послание с элегантного вида наклейкой, содержащей его фамилию и адрес. Он писал, что месяц назад был в Бомбее, потому что в каждом письме мать звала его приехать. «Будучи там, я посетил Фирозша-Баг и видел твоих родных. Рад слышать, что ты уехал из Индии. А Перси? Не понимаю, что его держит в этом безнадежном месте. Он отказывается признавать реальность. Во всех его усилиях помочь фермерам нет никакого толку. Там ничего никогда не улучшится. Слишком много коррупции – в этом все дело. Таков во многом менталитет гхати. Я предложил ему свою помощь в эмиграции, если он когда-нибудь передумает. В Нью-Йорке у меня теперь много связей. Но он сам должен решить». И так далее и тому подобное.
В заключение он писал: «Бомбей ужасен. Кажется, стал еще грязнее, у меня от всей этой поездки с души воротило. За две недели я был им сыт по горло. Как я рад, что уехал!» Закончил он сердечным приглашением в Нью-Йорк.
То, что я прочел, вполне соответствовало мои ожиданиям. Именно так мы все говорили в Бомбее. И все же мне было неприятно читать письмо Джамшеда. Меня удивило, что в нем скопилось столько презрения и недовольства, хотя он уже не жил в тех условиях. Может, он был зол на себя из-за того, что не получилось найти свое место в той реальности, как это сделал Перси? А может, причиной было бессилие, которое испытываем мы все, ошибочно считая слабость силой, и отвергаем то одно, то другое?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.