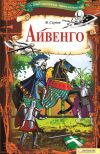Текст книги "Истории Фирозша-Баг"

Автор книги: Рохинтон Мистри
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Почтальон принес не письмо, а посылку; он улыбался, так как знал, что при получении корреспонденции из Канады ему неизменно гарантирован бакшиш, а в этот раз, поскольку пришла посылка, мама дала ему целую рупию, так обрадовалась. На посылке, кроме марок, было очень много других наклеек – и «бандероль», и «печатные материалы», и красная бумажка с надписью «застраховано». Мама показала посылку отцу, открыла ее и приложила обе руки к щекам, не в состоянии вымолвить ни слова из-за невероятного удивления и счастья; к ее глазам подступили слезы, а она все улыбалась, пока наконец папа не выдержал: он встал и подошел к столу.
Когда папа увидел, что в посылке, он тоже удивился и обрадовался, начал улыбаться, потом обнял маму, сказав, наш-то сын, оказывается, писатель, а мы даже не знали, он ничего нам не говорил, мы все думаем, что он трудится в страховой компании, а он написал сборник рассказов; все эти годы в школе и колледже он скрывал свой талант, заставлял нас думать, что он обычный мальчик из Фирозша-Баг, который кричит и валяет дурака на площадке, а теперь такой сюрприз. Потом папа открыл книгу и сразу принялся читать по дороге назад к креслу, а мама, в волнении и все еще держа его за руку, пошла рядом с ним со словами, что это нечестно, почему он должен читать первый, она тоже хочет; и они договорились, что он прочитает первый рассказ, потом даст ей, чтобы она тоже прочитала, и таким образом они будут передавать книгу друг другу.
Мама сняла и выбросила скрепки с конверта с пузырьковой пленкой, в который сын упаковал книгу, потом распрямила согнутые края конверта и аккуратно сложила его вместе с другими конвертами и письмами, хранившимися со времени его отъезда.
Начинают опадать листья. Я научился различать только кленовые. Дни уменьшаются, как кроны деревьев. У меня появилась привычка долго гулять по вечерам. Когда я выхожу, старик сидит в холле и машет мне. К моему возвращению холл обычно уже пуст.
Сегодня меня разбудило доносящееся с улицы скрежетание, от него у меня мурашки пошли по коже. Я подошел к окну и увидел, как Берта сгребает на парковке листья. Не на неухоженном участке с краю, а на самой парковке. Скребет по черному гудрону. Я вернулся в постель, накрыл голову подушкой и не снимал ее до полудня.
Вечером я возвращаюсь с прогулки, ПЖ выскакивает на грохот лифта и говорит:
– Берта сегодня набила листьями шесть больших черных мешков для мусора.
– Шесть мешков? – откликаюсь я. – Надо же!
С тех пор как похолодало, сын Берты по воскресеньям не возится с микроавтобусом у меня под окном, и я могу поспать подольше.
Около одиннадцати снаружи раздается какой-то шум. Потянувшись, я включаю радиочасы. День солнечный, занавески ярко освещены. Из любопытства встаю и вижу на парковке у входа в здание черный «Олдсмобиль 98». Старик, весь закутанный, сидит в кресле-каталке, на его шее в несколько слоев намотан шарф, как будто с целью ее обездвижить на манер воротника Шанца. Его дочь и какой-то другой человек, владелец машины, помогают ему встать с кресла и сесть на переднее сиденье, подбадривая словами вроде «вот так», «это нетрудно», «молодчина». Из открытой в холл двери Берта тоже кричит нечто подбадривающее, но в ее случае это всего лишь слово «да», повторяемое с разной громкостью, высотой и варьированием длины гласного. Возможно, незнакомец – сын старика: у него такие же черные как смоль волосы и проницательные глаза.
Может быть, старику стало плохо и ему требуется срочная медицинская помощь? Но я быстро отбрасываю эту мысль – здесь не Бомбей, приехала бы скорая. Вероятно, они просто берут его покататься. Если этот человек – его сын, то интересно, где он был все это время.
Старик наконец усаживается в переднее кресло, каталка убрана в багажник, и они отъезжают. Тот, кого я принял за сына, поднимает глаза и, прежде чем я успеваю ретироваться, видит меня в окне, поэтому я машу ему рукой, и он машет в ответ.
Днем я отношу в прачечную кучу одежды. В обеих стиральных машинах завершился цикл, и одежда внутри ждет, когда ее переложат в сушилку. Следует ли мне вынуть ее и положить сверху на сушилку или подождать? Решаю ждать. Через несколько минут приходят две женщины. Обе в банных халатах и курят. Я не сразу узнаю в них два моих разочарования, загоравших летом в бикини.
– Не надо было ждать, вы могли вынуть одежду и начать стирать, дорогуша, – говорит одна. У нее шотландский акцент. Этот акцент – один из немногих, которые я научился распознавать. Как и листья клена.
– Ну, – говорю я, – некоторым может не понравиться, что чужой человек трогает их одежду.
– Вы не чужой, дорогуша, – отвечает она. – Вы живете в этом доме. Мы вас видели раньше.
– К тому же у вас чистые руки, – включается в разговор другая, – до моих вещей можете дотрагиваться, когда хотите.
Старая рогатая корова. Интересно, что у них под халатами. Оказывается, немного. Я это узнаю, когда они наклоняются, чтобы переложить вещи в сушилки.
– До скорой встречи! – говорят они и уходят, оставив меня в эротическом возбуждении от дыма, духов и ложбинки меж грудей. Я запускаю стиральные машины и ухожу, а когда возвращаюсь, сушилки уже пусты.
ПЖ сообщает:
– Сегодня сын вывез старика покататься. У него большая и красивая черная машина.
Не желая упустить свой шанс, я вставляю:
– «Олдсмобиль 98».
– Что?
– Машина. Это «Олдсмобиль 98».
Ей совсем не нравится, что информация исходит не от нее, а от меня. Она явно недовольна и уходит к себе с кислой миной.
Мама и папа заканчивают первые пять рассказов, и мама очень расстраивается, прочитав некоторые из них; говорит, он, наверное, там очень несчастен – все его истории про Бомбей, он вспоминает каждую мелочь из своего детства, все время о нем думает, хотя находится в ста тысячах миль отсюда (мой бедный сынок), я думаю, он скучает по дому, по нам, по всему, что оставил, потому что, если бы ему было там хорошо, он не писал бы про это, ведь там столько новых идей, которые дает новая жизнь.
Но папа с ней не согласен: говорит, что это вовсе не означает, что сын несчастлив, все писатели работают одинаково, они обращаются к памяти и опыту и из них создают истории, кое-что изменяя, кое-что добавляя, кое-что придумывая, все писатели прекрасно помнят подробности своей жизни.
Мама спросила, как ты можешь знать точно: он вспоминает все это, потому что писатель, или он начал писать, потому что несчастен, думает о прошлом и хочет его сохранить, сочиняя рассказы? Тогда папа говорит: твой вопрос неразумен, и в любом случае сейчас моя очередь читать следующий рассказ.
Пошел первый снег, воздух бодрит. Снег не очень глубокий, около пяти сантиметров, и вполне подходит для прогулок. Мне говорили, что эмигранты из жарких стран радуются снегу в первый год, может, потом еще пару лет, но потом неизбежно наступает страх, и приближение зимы вызывает у них хандру и беспокойство. С другой стороны, если бы не мой разговор с женщиной, у которой я регистрировался на курсы плавания, люди говорили бы, что в Индии никто не умеет плавать.
Берта на улице. Убирает снег с дорожки на парковке. У нее тяжелая и широкая лопата, которой она орудует мастерски.
Меня постоянно беспокоят старые батареи в моей квартире. Они не перестают на разные лады издавать звуки смертельной агонии и по настроению становятся то горячими, то холодными, то холодными, то горячими. Их температуру контролировать невозможно. Спустившись в холл, говорю об этом с Бертой. Там сидит и старик. Его подбородок, кажется, еще глубже ушел в грудь. А лицо стало желтовато-серым.
– Ничего. Волнения не надо. Нет причин, – говорит Берта, роняя вокруг меня грубо вырубленные глыбы слов. – Батарея не работать, вы говорить мне. Вам холодно, вы идти ко мне, я вас согреть.
И она со смехом широко раскрывает объятия. Я отступаю, она наступает, сначала груди, потом она, как будто на меня надвигаются бравые носы двух ледоколов. Она смотрит на старика: оценил ли он сцену.
– Вы не бояться. Я спасать и согревать.
Но старик смотрит на улицу на падающие снежинки. О чем он думает, глядя на них? О детстве, о снеговиках в шляпах и с трубками, об игре в снежки, о снежном Рождестве и о рождественских елках? О чем буду думать я, состарившись в этой стране, когда буду сидеть и смотреть на падающий снег? Мне уже поздно лепить снеговиков и играть в снежки, у меня останутся лишь воспоминания о детских мыслях и мечтах, родившихся из заснеженных видов и зимних чудес на рождественских открытках, таких популярных в Бомбее. Мои снеговики, снежки и рождественские елки рассыпаны по страницам книг Энид Блайтон среди приключений «Великолепной пятерки», «Пяти юных сыщиков» и «Тайной семерки». Мне труднее, чем старику, забыть свои снежинки, потому что мои никогда не тают.
Наконец это случилось. Отопление отказало. Не как обычно – то есть, то нет. Отказало окончательно. Сдохло. Батареи ледяные. Как и все вокруг. Нет горячей воды. Естественно. Ведь радиаторы нагреваются, когда горячая вода циркулирует по трубам. Или наоборот? Нет горячей воды, потому что она перестала циркулировать в радиаторах? Мне все равно, я слишком замерз, чтобы выяснять причинно-следственные отношения. Может, здесь связи вообще нет.
Быстро одеваюсь, влезаю в зимнюю куртку и спускаюсь в холл. Лифт не работает, потому что нет электричества. Иду по лестнице. Внизу уже собралось несколько жильцов, и Берта объявила, что она позвонила в администрацию. Они посылают человека. Поднимаюсь к себе наверх. Всего на один этаж. Лифт – просто дурная привычка. В Фирозша-Баг лифты были, как правило, сломаны. По лестнице выхожу в коридор рядом с квартирой старика. Думаю о его холодных ногах и руках. Должно быть, без отопления ему совсем плохо, бедняге.
Иду по длинному коридору. Чувствую, что что-то не так, но не могу понять что. Смотрю на ковер, потолок, обои на стенах – все кажется таким же, как всегда. Может, это ощущение холода делает все необычным.
ПЖ открывает дверь.
– Вчера у старика случился второй инсульт. Его увезли в больницу.
Запах лекарств. Вот в чем дело. Его нет в коридоре.
В рассказах, которые папа успел прочитать, все парсийские семьи, по его словам, бедные или среднего достатка, но это нормально, он также не против, чтобы зерна для рассказов брались из тягот их собственной жизни, но должно же быть в этих историях и что-то позитивное, ведь парсам есть чем гордиться: знаменитое семейство Тата и их вклад в развитие сталелитейной промышленности или сэр Диншоу Петит, развивший текстильную промышленность и сделавший Бомбей Манчестером востока, или Дадабхай Наороджи, видный участник освободительного движения, первым использовавший слово сварадж[188]188
Самоуправление (санскр.). Термин связан с концепцией независимости Индии от Великобритании.
[Закрыть], и первый парс, избранный в Британский парламент, где он продолжал вести свою кампанию. Сыну следовало бы ввести в свои рассказы какие-нибудь из этих замечательных фактов, иначе что подумают люди, читающие его книгу, те, кто ничего не знают о парсах, – что все парсы сплошь вздорные и нетерпимые, когда на самом деле это самая богатая, передовая народность Индии, больше всех занимающаяся благотворительностью, и разве ему надо объяснять собственному сыну, что парсы имеют репутацию щедрых людей, уважающих семейные ценности. Он мог бы написать что-то и об истории, о том, как в седьмом веке парсы пришли в Индию из Персии, спасаясь от мусульманского преследования, и являются потомками Кира Великого и огромной Персидской империи. Мог же он сочинить рассказ об этом, так ведь?
Мама сказала, ей больше всего нравится, что сын так хорошо все помнит и так красиво об этом пишет, даже о грустных вещах, и, хотя он кое-что изменил и придумал, в написанном есть правда.
«Надеюсь, – сказал папа, что будет какой-нибудь рассказ, основанный на его канадском опыте, тогда мы что-то узнаем о жизни нашего сына там, хоть не из писем, так по рассказам, но пока они все о парси в Бомбее, а тот, где говорится о человеке, сидящем на унитазе на корточках, позорный и отвратительный, хотя иногда смешной, и, должен признаться, я и правда смеялся, но откуда у сына такие фантазии, в чем их смысл?» Мама тоже сказала, что хотела бы историй про Торонто и про тамошних жителей. «Меня удивляет, – сказала она, – почему он об этом ничего не пишет, особенно если учесть, что, по твоим словам, писатели используют для своих сочинений собственный опыт».
На что папа ответил: «Это правда, но, возможно, он не использует свой канадский опыт, потому что еще рано». – «Что значит рано?» – спросила мама, и папа объяснил, что писателю требуется лет десять после события, чтобы он мог использовать его в книге, именно столько надо, чтобы опыт был внутренне переработан и осознан, продуман и осмыслен неоднократно, он преследует писателя, и писатель в свою очередь постоянно к нему возвращается, если этот опыт достаточно ценен, пока наконец писатель не почувствует уверенность, что может использовать его по своему усмотрению: «Но это всего лишь теория, которую я где-то вычитал, может быть, она верная, а может, и нет».
«Это значит, – сказала мама, – что сейчас для него в жизни самое ценное – детство в Бомбее и наш дом, потому что он способен все это помнить и описать, а ты с такой горечью говорил, что он забывает, откуда он родом». – «Возможно, ты права, – сказал папа, – но теория говорит о другом; согласно теории, он пишет об этих вещах, потому что они уже довольно далеко в прошлом и он может объективно их оценивать, он способен достигнуть того, что критики называют художественной дистанцией, куда не доходят эмоции». – «Что ты подразумеваешь под эмоциями? – спросила мама. – Ты хочешь сказать, что он ничего не чувствует по отношению к своим героям, тогда как же он может так красиво описывать многие грустные вещи, если в его сердце нет чувств?»
Но прежде, чем папа смог начать объяснять ей про красоту, эмоции, вдохновение и воображение, мама взяла книгу и сказала, что теперь ее очередь читать и она не хочет больше слушать теорию: теория только все запутывает, в чтении рассказов смысла куда больше. Она будет читать, как ей хочется, а папа пусть читает, как ему хочется.
Испорчены все мои книги, лежавшие на подоконнике. Там постепенно нарастал лед, чего я не замечал, а когда светило солнце, он подтаивал. Для просушки я разложил их в углу гостиной.
Зима все тянется. Берта орудует своей лопатой, как всегда, мастерски, но в ее действиях уже чувствуется усталость. Ни мужа, ни сына никогда не видно на улице с лопатой. Если на то пошло, то их вообще нигде не видно. Я заметил, что и микроавтобус сына тоже отсутствует.
В холле снова запахло лекарствами, я с радостью втягиваю воздух и жду встречи со стариком. Спускаюсь вниз, заглядываю в почтовый ящик и вижу сквозь щель сине-красные полоски индийской аэрограммы[189]189
Аэрограмма – вид почтового отправления, когда лист письма, сложенный вдвое или вчетверо, служит одновременно и письмом, и конвертом.
[Закрыть] с адресом, написанным безупречным папиным почерком: Дон-Миллс, Онтарио, Канада.
Кладу письмо в карман и захожу в большой холл. Старик там, но не на своем обычном месте. Он не смотрит на улицу через стеклянную дверь. Его кресло-каталка повернуто к голой стене, на которой местами порваны обои. Как будто внешний мир старику уже не интересен, он со всем этим покончил, и теперь пришла пора посмотреть в глубь себя. Интересно, что он там видит. Подхожу к нему и здороваюсь. Он здоровается в ответ, не поднимая упертого в грудь подбородка. Через несколько секунд на меня глядит его серое лицо.
– Как вы думаете, сколько мне лет?
Пустые и тусклые глаза. Он еще больше ушел в себя, чем мне показалось сначала.
– Так-так, дайте подумать. Пожалуй, около шестидесяти четырех.
– В августе мне будет семьдесят восемь.
Но он не посмеивается с хрипотцой. Просто тихо говорит:
– Очень хочется, чтобы у меня не мерзли так ноги. И руки.
Его подбородок снова падает на грудь.
В лифте я распечатываю аэрограмму – непростое дело, потому что неровно оторванный краешек означает потерю слов. Занятый этим, я выхожу и не замечаю ПЖ, стоящую в центре коридора со сложенными на груди руками.
– Они страшно переругались. И те двое уехали.
Я не сразу понимаю, почему она так взволнована.
– Что… кто?
– Я про Берту. Ее муж и сын оба уехали. Она осталась совсем одна.
Ее тон и поза говорят о том, что нам не следует стоять здесь и чесать языками, надо что-то сделать, чтобы вернуть ей семью.
– Очень печально, – отвечаю я и ухожу к себе.
Представляю себе отца и сына в микроавтобусе, уезжающих от Берты, катящих по заснеженным просторам посреди зимы, подальше от матери и жены. Куда они едут? Как далеко заберутся? Ни микроавтобус сына, ни алкоголизм отца далеко их не увезут. И чем дальше они уедут, тем больше будут вспоминать. Я точно знаю.
Папа с мамой прочитали все рассказы, и им было жаль, что книга закончилась; они почувствовали, что теперь понимают сына лучше, но многое еще осталось узнать, им бы хотелось еще больше рассказов; а ведь именно это подразумевается, когда говорят, что всю историю никогда не расскажешь, всю правду никогда не узнаешь. «О ком это ты? – спросила мама. – Кто такое говорит?» – и папа ответил: «Писатели, поэты, философы». – «Мне все равно, что они говорят, – сказала мама, – мой сын будет писать столько, сколько хочет, – много или мало, а если я смогу это прочесть, то буду счастлива».
Последний рассказ им понравился больше всего, потому что там было про Канаду, и теперь они чувствовали, что знают хотя бы немного о том, как он живет у себя в квартире, и папа сказал, что, если сын продолжит писать о таких вещах, он станет популярным, потому что (я уверен) там им интересно прочитать о своей жизни, увиденной глазами эмигранта, появляется другой взгляд на вещи; единственная опасность возникнет, если он переменится, станет похожим на них и будет писать, как один из них, утратив столь важное отличие.
Ванну пора мыть. Я открываю новую банку «Аякса» и чищу ванну. Обычный процесс мытья в ваннах Фирозша-Баг заключался в обливании себя водой, зачерпнутой кружкой из ведра, поэтому сейчас я всегда предпочитаю душ. Я еще ни разу не мылся в ванне. Кроме прочего, такое мытье напоминает Чаупатти или бассейн – плескаться в собственной грязи. Но все равно ванну надо почистить.
Закончив, готовлюсь принять душ. Но сияющая чистотой ванна и близость весеннего равноденствия подталкивают меня сегодня к необычному решению. Нахожу в ящичке затычку и наполняю ванну водой.
Я так часто говорю о старике, но не знаю его имени. Надо было спросить, когда мы последний раз виделись и его кресло было повернуто к голой стене, потому что он уже повидал все снаружи и пришло время смотреть на то, что внутри. Спрошу завтра. А еще лучше найти, как его зовут, в справочнике в холле. Почему я раньше не догадался? Там будет написана только первая буква имени и фамилия, но я мог бы удивить его, обратившись к нему: «Здравствуйте, мистер Уилсон» или назвав какую-то другую фамилию.
Ванна наполнилась. Образ воды снова и снова возникает в моей жизни: пляж Чаупатти, бассейн, ванна. Я влезаю и погружаюсь по шею. Очень приятно. Мутность исчезает в горячей воде, когда хлорка, или что они там добавляют, становится прозрачной. Мои волосы пока сухие. Закрываю глаза, задерживаю дыхание и опускаюсь с головой. Борюсь со страхом, лежу под водой и считаю до тридцати. Выныриваю, прочищаю легкие и глубоко дышу.
Повторяю это еще раз. Но теперь открываю под водой глаза и смотрю, ничего не видя. Требуется все мое мужество, чтобы их не закрыть. Потом постепенно начинаю различать под водой предметы. Затычка выглядит по-другому, немного искаженно, между отверстием и затычкой застрял волос, от движения воды он колышется и пляшет. Выныриваю, освежаю легкие, быстро осматриваю надводный мир ванной комнаты и снова погружаюсь. Делаю так несколько раз, снова и снова. На мир вне воды я насмотрелся достаточно, теперь пора посмотреть, что там в воде.
В бассейне средней школы через несколько дней начнется весенний курс для начинающих взрослых. Не забыть бы дату регистрации.
Короткие зимние дни теперь уходят в прошлое, они удлинились и приобрели приличную протяженность. Я снова начал гулять по вечерам, на дворе весна, повсюду живительная оттепель. Сугробы тают, журчание воды, несущейся к водостокам, прекрасно. Планирую купить книжку с описанием деревьев, чтобы, когда начнется цветение, научиться узнавать не только клен.
Возвращаясь домой, энергично вытираю ноги о коврик, потому что какие-то люди идут следом и хочется подать им хороший пример. Затем подхожу к доске с маленькими пластмассовыми буквами и номерами. Квартира старика находится на углу у лестницы, стало быть, ее номер – 201. Пробегаю список, дохожу до номера 201, но рядом с ним нет беленьких пластмассовых буквочек. Только пустой черный прямоугольник с дырочками, куда их вставлять. Странно. Ну, могу сам ему представиться, а потом спросить, как его зовут.
Однако холл пуст. Сажусь в лифт и выхожу на втором этаже, жду, когда загрохочут дверцы лифта. Но этого не происходит: они открываются плавно и бесшумно. То ли Берта постаралась, то ли кому-то поручила. Сигнал для ПЖ был устранен путем смазки.
Но у нее, должно быть, слух, как у таракана. Она уже ждет меня. Иду, посвистывая, по коридору. ПЖ не сводит с меня осуждающего взгляда. Ждет, пока я перестану свистеть, потом говорит:
– Знаете, что старик ночью умер?
Я перестаю рыться в кармане в поисках ключа. Она поворачивается, чтобы уйти, а я, не вынимая из кармана руку, делаю к ней шаг.
– Вы знаете, как его звали? – спрашиваю я, но она уходит, не ответив.
Потом мама сказала: «Больше всего мне понравился последний рассказ о дедушке, где он размышляет о том, что, возможно, дух дедушки и в самом деле наблюдает за ним, благословляет его, потому что, знаешь, я действительно ему это говорила, я говорила, что помогать старому страдающему человеку на краю могилы – самое благочестивое занятие, потому что этот человек потом всегда будет следить за тобой с небес, я это сказала, когда ему было противно смотреть на дедушкину "утку" и он не мог до нее дотронуться, не мог ему ее подать, даже когда меня не было дома».
«Ты уверена, – спросил папа, – что ты и правда это ему говорила, или ты думаешь, что говорила, потому что тебе нравится сама мысль? Ты же на днях сказала, что он изменяет, добавляет и переиначивает что-то в своих рассказах, но пишет так красиво, что кажется, будто все так и было, поэтому разве можно быть уверенной». – «Похоже на очередную теорию, – сказала мама, – но мне все равно, раз он говорит, что я ему сказала, значит, я верю, что сказала, так что, даже если я не говорила, теперь это совершенно неважно».
«Разве ты не видишь, – сказал папа, – что ты путаешь литературу и реальность, литература не создает реальность, литература может возникать из реальности, вырастать из реальности, сочетая, перенося, преувеличивая, преуменьшая или изменяя факты любым способом, но ты не должна путать причину и следствие, не должна путать реально произошедшее с тем, что произошло в рассказе, ты не должна отрываться от реальности, иначе это путь к сумасшествию».
Тут мама перестала слушать, поскольку, как она часто говорила отцу, она не очень любит теории. Она достала блокнот и начала писать сыну письмо. Папа заглядывал ей через плечо и говорил, чтобы она написала, как они им гордятся, как ждут его следующей книги, и добавил: «Оставь немного места в конце для меня, я тоже хочу вставить несколько строк, прежде чем надписывать адрес на конверте».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.