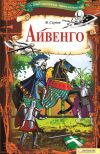Текст книги "Истории Фирозша-Баг"

Автор книги: Рохинтон Мистри
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Время от времени мать напоминала ему про марки:
– Сделай что-нибудь, Джахангу, сделай с ними хоть что-нибудь.
Он говорил, что сделает, когда ему захочется и когда найдет время, а пока это ему неинтересно.
Через несколько месяцев он снова достал из-под кровати сундук. Довольная миссис Бальсара смотрела на сына, не подходя близко и не осмеливаясь прервать его действия советом или поощрением: она знала, что ее Джахангу сейчас в таком возрасте, когда мальчики обязательно сделают прямо противоположное тому, что говорят родители.
Но накануне ночью сон Джахангира нарушило слабое и необычное шуршание, которое, как ему показалось, доносится из сундука. И вскоре миссис Бальсара поняла причину, заставившую сына вытащить сундук на свет божий.
Крышка была откинута, и их глазам предстали целые полчища тараканов. Насекомые попытались скрыться, но Джахангир все же успел убить нескольких тапкой. Подбежала и мать, тоже пришлепнув парочку своим чаппалем. Тараканы рванули врассыпную – одни убежали под кровать и забились в самые труднодостижимые углы, другие старались поглубже закопаться в сундук.
Беглый осмотр показал, что, кроме тараканов, сундук кишит еще и белыми муравьями. Все альбомы были разорены. Почти все марки оказались если не полностью уничтоженными, то получившими различные повреждения. На них в самых разных местах появились дырочки и коричневые пятна – какие оставляют насекомые и другие домашние вредители.
Джахангир взял наугад один из альбомов и открыл его. Почти сразу же у него в руках стали рассыпаться страницы. Он вспомнил, как доктор Моди говорил: «Это мое пенсионное хобби. Вот выйду на пенсию и буду проводить все время со своими марками». Джахангир медленно опустил в сундук изодранные останки любимого детища дяди Барзора.
Он сидел рядом с помятым ржавым металлом и удивлялся, что не ощущает ни утраты, ни боли. «Почему так?» – думал он. Скорее наоборот, он испытывал нечто вроде облегчения. Его руки стали перебирать содержимое сундука – потерявшие ценность клочки бумаги, обрывки работы многочисленных воскресных утр. Иногда он останавливался, чтобы отстраненно разглядывать хитрые узоры, оставленные челюстями насекомых, которые, пока он спал, каждую ночь пировали у него под кроватью.
Едва заметно пожав плечами, Джахангир поднялся и закрыл крышку. Вряд ли в сундуке осталось что-то ценное.
О седых волосах и крикете
Седой волос был зажат пинцетом. Я аккуратно потянул, чтобы понять, крепко ли его захватил пинцет, и выдернул.
– А-а-а-а! – Папино лицо исказила гримаса. – Осторожнее. Тяни только по одному.
Он продолжал читать разложенную на столе «Таймс оф Индия».
– Я же и так по одному, – сказал я, показав ему пинцет, но мое возмущение замечено не было. Погруженный в чтение рекламных объявлений, папа почти не смотрел в мою сторону. Свет лампочки, висевшей без абажура над нашими головами, скользнул по пинцету из нержавейки и послал блик на календарь от «Радио Мерфи», и он запрыгал по ангельскому личику «Мерфи беби», вторя моей работе над отцовской шевелюрой. Папа вздохнул, перевернул страницу и продолжил изучение колонок объявлений.
В каждое следующее воскресенье удаление седых волос занимало больше времени, чем в предыдущее. Я уверен, что папа тоже это заметил, но мужественно шутил, что все дело в лени, мешающей мне работать быстро. Перси всегда освобождали от этого занятия. А если я высказывал недовольство, то ответ был: учеба твоего брата в колледже гораздо важнее.
Папа рассчитывал на мои четырнадцатилетние пальцы в деле выкорчевывания символов смертности, которых с каждой новой неделей становилось все больше и больше. Работа была малоприятная, потому что приходилось расчесывать напомаженные накануне жирные волосы, выбирая среди них седые и те, что только начинали седеть, – наполовину черные, наполовину седые, отчего они почему-то казались мне еще противнее. Всегда было трудно решить, выдрать их или оставить расти до следующего воскресенья, когда седина доберется до кончиков.
Воскресный номер «Таймс оф Индия» вышел с приложением, где были напечатаны комиксы «Волшебник Мандрагора», «Фантом» и «Мэгги и Джиггс» из «Воспитания отца». Тусклую желтоватую скатерть оживляли яркие картинки комиксов, словно специально раскрашенные к воскресному дню. Полиэтиленовая скатерть имела затхлый, плесневелый запах. Ее невозможно было хорошо отмыть из-за выбитого на ее поверхности цветочного рисунка. В бороздках-завитушках вечно застревала грязь.
Папа поднял руку и почесал голову. Его «а-а-а-а» меня удивило. Он всегда учил меня быть выносливым. Однажды утром, когда мы вернулись домой после крикета, он сказал маме и мамай-джи[108]108
Бабушка (гуджарати).
[Закрыть]: «Сегодня мой сын вел себя храбро, прямо как я. К границе летел мяч, посланный точь-в-точь как ядро из пушки, и он остановил его одной лишь ногой». Именно так он и сказал. Блестящий красный мяч, яростно рассекающий воздух, и отчетливый треск – по крайней мере, мне он показался вполне отчетливым – вызвали такую адскую боль, что у меня на глаза навернулись слезы. Папа захлопал и сказал: «Хорошо приняли мяч, сэр, хорошо». Поэтому я подождал, пока на меня перестанут обращать внимание, и только тогда потер ушибленную ногу. Жаль, что Перси перестал интересоваться крикетом, было бы здорово, если бы это случилось при нем. А вот на моего лучшего друга Вирафа из корпуса «А» я произвел большое впечатление. Но все это случилось давно, сейчас папа больше не берет нас играть в крикет воскресным утром.
Я остановился. Но папа этого на заметил, потому что обнаружил среди объявлений что-то интересное. Поворачивая пинцет под разным углом, я направлял солнечный свет на различные точки календаря «Радио Мерфи»: на края картинки, замусоленной и скрученной, на потертую тесемку петли такого же ржавого цвета, что и ржавый гвоздь, на котором она висела, на старую скобу, удерживающую двенадцать тоненьких полосок бумаги – перфорированный остаток месяцев, оторванных более десяти лет назад, когда их дни и недели ушли в прошлое. Улыбка младенца, приложившего к подбородку пальчик, – вот все, что сохранилось от тех лет. «Какая невинная и радостная улыбка!» – говорили мама и папа. Сейчас этот ребенок, наверное, одного возраста со мной. Разбитый участок осыпающейся стены, который пытались прикрыть календарем, вылезал из-под младенца, образуя вокруг него нечто вроде темного изломанного нимба. Картинка с каждым днем становилась все более странной, потому что от стены отваливалась штукатурка, а края картинки загибались и лохматились все больше.
Другие календари в комнате выполняли ту же задачу маскировки: небоскреб Цементной корпорации, женщина с длинными черными волосами в полотенце от компании «Спасительное мыло», парсийский календарь без картинок, но зато с английскими и парсийскими названиями месяцев, а также роз[109]109
Зд.: календарь постов (гуджарати).
[Закрыть] у каждой даты на языке гуджарати, что было необходимо маме и мамай-джи для чтения соответствующей молитвы. Все календари уже давно пережили отведенный им промежуток времени из мира месяцев и лет, но все еще прикрывали собой нарушенные обещания домоуправления Фирозша-Баг.
– Да, вот оно, – сказал отец, постучав пальцем по газете. – Дай-ка мне ножницы.
Появилась мамай-джи и расположилась в своем кресле на веранде. В сидячем положении в ней не было и следа той немощи, которая заставляла ее ходить, согнувшись в три погибели. Врачи говорили, что все дело в слабом позвоночнике – он не может выдержать вес ее живота, ставшего совершенно непомерным. По маминым детским фотографиям я знал, что мамай-джи всегда была крупной статной женщиной с величественной осанкой. Она раскрыла мешочек с пряжей, хотя врачи велели ей беречь глаза после недавно прооперированной катаракты. Потом она заметила меня с пинцетом.
– Только рассвело, а он уже заставляет ребенка опять делать дулиндар[110]110
Дурное дело (маратхи).
[Закрыть]. Это не принесет ничего хорошего, – говорила она себе под нос, прилаживая шерсть и веретено, но не собираясь вступать с отцом в явные пререкания. – Выдергивать волосы, как будто из мертвой курицы. Это дурной знак. Я вас предупреждаю. И ведь каждое воскресенье, одно за другим! Но меня же никто не слушает. Разве такое поручают ребенку? Ему бы пойти на улицу поиграть или поучиться, как делать базар[111]111
Базар, рынок. Зд.: «делать базар», то есть «торговать» (хинди, урду, тюрк.).
[Закрыть], как торговаться с мясником в банье.
Она бормотала тихо, чтобы дать отцу возможность притвориться, будто он ее не слышит.
Я злился, что она отчитывает папу и называет меня ребенком. Мамай-джи крутила веретено, и по мере его опускания шерстяное волокно, которое она держала в левой руке, превращалось в нить. Я следил и ждал – даже надеялся, – что нить порвется. Иногда такое случалось, и тогда мне казалось, что мамай-джи не может поверить своим глазам, так она потрясена и уязвлена случившимся. Мне становилось ее жаль, и я бросался поднимать веретено. На этот раз оно, крутясь, свесилось до полу без всяких неожиданностей и болталось на красивой новенькой нитке. Она подтянула его кверху, намотала нить вокруг растопыренных пальцев левой руки, большого и мизинца, покачивая запястьем туда-сюда и одновременно крепко сжимая клочок шерсти указательным и средним пальцами. Клочок шерсти был похож на прядь ее собственных волос, белых, как снег, и немного спутанных.
Мамай-джи пряла достаточно шерсти, чтобы всем нам хватило на кушти. После смерти дедушки она проводила за этим занятием все больше времени, поэтому у каждого из нас теперь имелся запасной кушти. Пояса плелись профессионалом, всегда ценившим высокое качество нити. Даже в храме огня, когда во время молитвы мы их развязывали и завязывали, на них обращались завистливые взгляды других парси.
Я с восхищением смотрел на веретено и на гармоничное проворство бабушкиных рук. Меня завораживали ее прядильные принадлежности. Опускающееся веретено казалось похожим на ведро, крутясь, устремляющееся вниз, в священный колодец Бхиха Бехрама, чтобы набрать воды для таких, как мы, ходивших к нему молиться по святым дням после посещения храма огня. Я представлял себе, как хватаюсь за низ веретена, как погружаюсь в темный колодец, точно зная, что мамай-джи не даст мне утонуть и вытащит своей колеблющейся рукой, и молился, чтобы нитка не порвалась. Еще я любил смотреть, как на старом граммофоне вращаются пластинки со скоростью 78 оборотов в минуту. Одна мне особенно нравилась: ее круглая этикетка была такого небесно-голубого цвета, какого я больше нигде не видел, а буквы были золотые. Я ставил эту пластинку снова и снова, просто чтобы наблюдать за успокаивающим вращением голубого и золотого и концентрическими кругами блестящей грампластинки, бороздки которой при удачном освещении создавали эффект спирали. Теплый запах дерева и кожи граммофонного ящика, казалось, исходил прямо от этой шеллаковой спирали, когда я садился рядом, прижавшись к нему щекой, чтобы ощутить вибрацию вращающегося диска. Мне делалось так уютно и хорошо, как когда пропускаешь школу из-за легкой простуды и целый день проводишь с книжкой в постели, а вокруг суетится мама, и ты ешь белый рис и суп, приготовленный специально для тебя.
Папа закончил вырезать объявление и перечитал его.
– Да, это подходящее. Звучит многообещающе.
Он снова взялся за газету, потом вспомнил, что бормотала мамай-джи, и тихонько сказал мне:
– Если это дулиндар, который приносит несчастье, то как же я нашел такое хорошее объявление? Ох уж эти старики…
И вздохнул немного сердито. Потом поспешно добавил:
– Не останавливайся. Мне предстоит очень важная неделя.
И, хлопая ладонью по столу в такт произносимым словам, продолжал:
– Вырви… каждый… седой… волосок!
Между папой и мамай-джи не было настоящей вражды. Думаю, они даже симпатизировали друг другу. Просто ему не очень нравилось жить вместе с тещей. У них вечно возникали споры из-за меня, и мамай-джи всегда возражала маме и папе. Она была твердо убеждена, что меня недокармливают. Поскольку она не выходила из дома, единственная доступная ей пища была та, что приносил прямо к квартире уличный торговец. Мне эта еда нравилась, но находилась под строжайшим запретом: самоса[112]112
Самоса (урду) или самса – пирожок треугольной формы из жареного или печеного теста с начинкой (пряный картофель, лук, горох, чечевица, мясо, курица) и специями (урду).
[Закрыть], бха-джия[113]113
Жареная закуска. Кусочки овощей окунаются в тесто и обжариваются во фритюре (маратхи).
[Закрыть], севгантхия[114]114
Лапша с зирой, специями, асафетидой, манго, кориандром.
[Закрыть]. Подходило и то, что она готовила для себя отдельно, потому что, по ее словам, мамина стряпня была напрочь лишена вкуса: «Пресная, как плевок, просто стоит колом в горле».
Так что я, ее любимчик, иногда потихоньку лакомился острейшими карри и едой, купленной у двери, когда папа был на работе, а мама на кухне. Перси, если он оказывался рядом, тоже перепадало. Надо сказать, что его железный желудок больше, чем мой, подходил для этих обжигающе-острых закусок. Но наши тайные пиршества неизменно разоблачались, и за них приходилось платить, выслушивая строгий и неприятный выговор. Мамай-джи обвиняли в том, что она хочет сжечь дотла мой желудок и кишечник своими жгучими богомерзкими карри или подвергает меня риску получить дизентерию и дифтерию: дешевая пища уличного торговца наверняка готовилась на грязном прогорклом масле – может, даже машинном, – непригодном для человека, как недавно обнаружилось в ходе правительственного расследования. Мамай-джи парировала, что, если бы они выполняли свои родительские обязанности, ей не пришлось бы прибегать к тайной кормежке и чхори-чхупи[115]115
Скрытничанье (хинди, урду).
[Закрыть]. А так у нее нет выбора, ведь невозможно сидеть и смотреть, как голодает ребенок.
Все это беспокоило меня, хотя я старался не подавать виду. Когда начинались ссоры, я говорил, что от криков у меня болит голова, и удалялся на ступеньки дворовой площадки. Мучительное сознание вины, с которым я ничего не мог поделать, не давало мне присутствовать при их препирательствах. Потому что, хотя я с удовольствием участвовал в тайных пирушках с мамай-джи и обещал держать их в секрете, я выдавал все родителям в буквальном смысле – поносом и рвотой, что для мамай-джи служило неоспоримым доказательством моего ослабленного кишечника по причине отсутствия регулярного и правильного питания. Когда меня мучили эти ужасные спазмы, я обещал папе и маме больше никогда не есть то, чем кормит меня мамай-джи, и признавался во всех грехах. В глазах мамай-джи я становился предателем, но в то же время иногда было смешно слушать ее копрологические упреки: «Ест мою еду, а потом все обсирает и ябедничает! В следующий раз, прежде чем угощать, я заткну тебя большой пробкой!»
Из кухни пришла мама с тарелкой тостов, только что снятых с керосинки «Критерион»: неровно поджаренных и местами подгорелых по прихоти керосинового фитиля. Отодвинув комиксы в сторону, она поставила тарелку на стол.
– Послушай, – сказал ей папа, – вот что я только что нашел в газете: «Растущий концерн ищет молодого энергичного и мотивированного специалиста по работе с клиентами. Зарплата четырехзначная плюс накопительный фонд». По-моему, это то, что нужно.
Не дождавшись маминой реакции, он добавил:
– Если я получу эту работу, все наши проблемы закончатся.
Мама выслушивала такие объявления каждую неделю: предвестники надежды, они заканчивались разочарованием и досадой. Но она всегда позволяла первоначальной волне оптимизма захватить ее, поднимать вместе со мной и отцом все выше и выше, строить планы и мечтать, пока волна не выбрасывала нас на пустынный берег ждать следующего объявления и следующей волны. Поэтому сейчас ее молчание было странным.
Папа взял тост и, сморщив нос, обмакнул его в чай.
– Опять пахнет керосином. Когда я получу эту работу, первым делом куплю нормальный тостер. И мы больше не будем делать на «Критерионе» горелые тосты.
– Я керосина не чувствую, – сказала мама.
– Тогда понюхай, – ответил он, сунув ей под нос промокший в чае тост. – Понюхай и скажи. – Отец разозлился, что она сразу ему возразила. – Все из-за этих дурацких фитилей. Оригинальные «Критерионы» из Англии были что надо. Подрежешь фитиль один раз, и у тебя прекрасное пламя на несколько месяцев. – Он с отвращением откусил кусок тоста. – Ну, когда я получу эту работу, заменим нашу керосинку на плиту и баллон Бомбейской газовой компании. – Он рассмеялся. – Почему бы и нет? Англичане ушли семнадцать лет назад, пора и их керосинкам уйти.
Он дожевал тост и повернулся ко мне:
– Ты когда-нибудь тоже уйдешь, отправишься в Америку. Здесь для тебя нет будущего. – Он быстро поймал мой взгляд. – На это мы уж как-нибудь раздобудем денег. Я найду способ.
Лицо отца излучало любовь. Мне вдруг захотелось его обнять, но мы так никогда не делали, разве что в дни рождения, и, чтобы избавиться от этого чувства, я отвернулся и сам себе сказал, что он так говорит, только чтобы сделать мне приятное, потому что ждет, что я буду дальше выдергивать его седые волосы. К счастью, к отцу вновь вернулось веселое, оптимистическое настроение.
– Не исключено, что мы позволим себе и холодильник, тогда не придется ходить наверх к той тетке. Никаких обязательств, никаких одолжений. И тебе не надо будет убивать ее крыс.
Папа ждал, что мы присоединимся к его мечтаниям. Сочувствуя ему, я надеялся, что присоединится хотя бы мама. Мне самому не очень-то хотелось призывать на помощь свой энтузиазм.
Но мама резко ответила:
– Все твои идеи из разряда шейкх-чилли[116]116
Фантазии (урду).
[Закрыть], они опять улетают в облака. Когда много планируешь, ничего не получается. Пусть все остается в руках божьих.
Папа опешил. Собрав всю горечь, он ответил ударом на удар:
– Думаешь, я никогда не найду работу получше? Я всем вам покажу!
Он бросил кусок тоста на тарелку и откинулся на спинку стула. Но быстро остыл и, превратив все в шутку, снова потянулся к газете:
– Что ж, придется вас однажды удивить: возьму и выброшу все керосинки.
Мне керосинки нравились, как и внушительного вида металлическая бочка на пятнадцать галлонов[117]117
1 галлон равен 4,54 л.
[Закрыть] для их заполнения. В «Критерионе» было небольшое круглое стеклянное окошко в углу его черного основания, и я частенько заглядывал в его сумрачные глубины, наблюдая, как поднимается уровень керосина, когда его наливают через воронку. Там внутри было очень темно, холодно и таинственно, затем керосин, плескаясь, поднимался, и его поверхность переливалась под лампочкой. Смотреть внутрь керосинки было то же самое, что лежать ночью жарким летом на пляже Чаупатти и глядеть на звезды, как мы делали после ужина, ожидая, когда поднимется легкий ветерок и охладит стены дома, за весь день пропеченные солнцем. Когда керосинку зажигали в темной кухне, нежное оранжевое свечение из-за маленькой слюдяной дверцы напоминало мне отсветы из афаргана в храме огня, когда огонь в нем горел неярко, потому что прихожане положили на серебряный тхали[118]118
Поднос (хинди).
[Закрыть]слишком мало сандалового дерева, ведь в основном люди приходили в храм только по праздникам. Хорош был и примус. Закачанный в него керосин, горячий и шумный, выходил под давлением, загорался и превращался в острые языки голубого пламени. Примус разжигал только отец. Ежегодно многие женщины погибали у себя на кухнях из-за взрывов, и папа говорил, что, хотя многие взрывы не были несчастными случаями, особенно когда их причиной оказывалось хорошее приданое жены, примус все равно опасен, если с ним неправильно обращаться.
Мама вернулась на кухню. Меня запах керосина не беспокоил, и я съел несколько тостов, пытаясь представить себе кухню не с керосинками, а с пузатыми газовыми баллонами красного цвета, спрятанными под столом. Я видел такие в витринах, и мне они показались уродливыми. Но мы к ним привыкнем, как и ко всему остальному. Иногда вечером я стоял на веранде и смотрел на звезды. Но это совсем не то же самое, что оказаться на пляже Чаупатти и тихо лежать на песке, когда в темноте слышен лишь шум волн. Каждую субботу вечером я следил, чтобы керосинки были заполнены топливом, потому что мама очень рано готовила нам с папой завтрак. Молоко и хлеб привозили еще в предрассветные часы, но чайник уже кипел, а мы с ребятами из Фирозша-Баг собирались на игру в крикет.
Мы всегда выходили в семь часов. Остальные жильцы только начинали просыпаться. На первом этаже Нариман Хансотия принимался раскладывать на парапете веранды свою бритву, кисточку для бритья и зеркальце. Зеркальце он ставил между двух чашек, из которых шел пар, – одной с кипятком и другой с чаем. И нам всегда было интересно, не перепутает ли он чашки, когда захочет намочить кисточку. Старая дева Техмина, все ждущая, когда созреют ее катаракты, возносила молитвы, повернувшись лицом к восходящему солнцу, приподняв накидку и перекинув ее через левое плечо. Из-под накидки желтела нижняя юбка, а Техмина развязывала и завязывала на талии свой толстый, как веревка, кушти. Качравали подметала площадку и переходила от двери к двери с метлой и корзиной, убирая вчерашний мусор. Если ей случалось оказаться на линии прямой видимости Техмины, все ребята здорово веселились, потому что Техмина, хоть из-за катаракт и подслеповатая, всегда замечала качравали и изливала на нее поток ругательств куда более грязных, чем мусор у той в корзине. Ибо качравали совершила неописуемый грех, пройдя перед ней и тем самым замарав молитвы и уменьшив их силу.
Смеялся даже папа, но торопил нас, потому что мы останавливались, чтобы послушать их дальнейший диалог. Потом мы шли по спящим улицам. Жители мостовых потягивались и подыскивали место, где можно было бы облегчиться. Затем складывали свои картонки и сворачивали полиэтиленовые мешки, пока на улицу не вышли дворники и не начиналось движение транспорта. Иногда они разводили небольшой костерок, если была еда на завтрак, или просили милостыню у тех, кто шел в итальянский ресторан выпить утром чай с молоком и специями и с булочкой в придачу. Бывало, мама заворачивала нам с папой остатки от вчерашнего ужина, чтобы по дороге раздать бездомным.
Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз играли в крикет. Ушел в прошлое и запуск воздушного змея. Я уныло размышлял о том, что вещи, доставлявшие мне радость, одна за другой покинули мою жизнь. А Фрэнсис? Как там бедняга Фрэнсис? Где он теперь? Мне так хотелось бы, чтобы он работал в Фирозша-Баг, как прежде. В том ужасном избиении в Тар Галли виноваты Наджамай и Техмина, две глупые старухи. А то, что он, по словам Наджамай, украл восемьдесят рупий, я думаю, неправда. Бестолковая корова сама не помнила, куда их сунула.
Я положил пинцет и потянулся за комиксами. Папа посмотрел на меня.
– Не останавливайся, на этой неделе я должен выглядеть идеально. Пойду на собеседование или на встречу.
Избегая его взгляда, я невозмутимо заявил:
– Я буду читать комикс.
И ушел на ступеньки дворовой площадки. Когда в дверях я обернулся, папа все еще смотрел на меня. У него было такое же выражение лица, как у мамай-джи, когда нитка рвалась и выскальзывала из пальцев, а веретено падало на пол. Но я все равно ушел, это было делом чести. Ведь всегда надо делать то, что сказал.
Комиксы не заняли у меня много времени. Когда-то было весело вместе с папой наперегонки бежать к двери, чтобы схватить «Таймс» и притворяться, будто мы боремся за то, кому первому читать комикс. Я подумал о морщинах на папином лбу, так ясно видных с моей удобной наблюдательной позиции – стоя над ним с пинцетом в руках. Его редеющие волосы почти не блестели, хоть и были напомажены накануне, а воскресная щетина на подбородке была испещрена серыми и белыми волосками.
Что-то – раскаяние или просто жалость – зашевелилось внутри меня, но я подавил в себе это чувство, не желая разбираться в его природе. У всех моих друзей были отцы с седеющими волосами. И, конечно, ребята проводили воскресное утро не так, как я, иначе они бы рассказали. Мы с ними разные, для них не бывает ничего слишком личного, поэтому они болтают обо всем на свете. Особенно Песи. Он нам рассказывал, как его отец испускает газы, и украшал свое повествование соответствующими звуковыми эффектами. Сейчас Песи в школе-интернате. А его отец умер.
С каменных ступенек нашего корпуса «С» я мог видеть всю дворовую площадку до корпуса «А» в дальнем ее конце. В ворота въехал черный «фиат» доктора Сидхвы и медленно покатился по корявым плиткам Фирозша-Баг. Проезжая мимо меня, доктор помахал. Он был очень похож на Песиного отца. Такие же «гусиные лапки» в уголках глаз, как у доктора Моди. И даже их старые машины казались похожими. Только доктор Моди лечил животных, а доктор Сидхва – людей. В разное время он лечил нас всех. Его дом и медкабинет были в двух шагах от Фирозша-Баг. Даже больной мог туда дойти. Доктор был правоверный парс, часто посещал храмы огня и на вызов всегда приезжал сам. Чего еще желать от врача?
Машина остановилась в дальнем конце площадки. Доктор Сидхва, крупный мужчина, вышел из нее и потянулся за своим чемоданчиком. «Наверное, в корпусе "А" кому-то потребовалась срочная помощь, – решил я, – раз доктора вызвали в воскресенье». Он хлопнул дверцей, потом открыл ее и снова хлопнул, на этот раз сильнее. От удара старая машина немного качнулась, но дверь закрылась как надо. На ступеньках корпуса «А» появился Вираф. Я помахал ему рукой – просигналил, что жду.
Вираф был моим лучшим другом. Мы вместе учились кататься на велосипеде, взяв напрокат в «Сесил Сайклс» в Тар Галли замысловатую конструкцию с погнутыми колесами и залатанными шинами (пятьдесят пайс в час). Папа водил нас тренироваться на пляж Чаупатти, где вдоль побережья проложены широкие мостовые. Рано утром они были пустынны – бездомные предпочитали узкие боковые улочки, – если не считать голубей, которые собирались в стайки, ожидая человека, который всегда появлялся, когда на улицах просыпалась жизнь, и кормил их. Мы учились кататься по очереди, а папа бежал сзади и держал седло, чтобы мы не теряли равновесия. Еще он научил нас играть в крикет. Мама рассердилась, когда он принес в дом биту и мяч, и спросила, откуда у него взялись деньги. Сам он в школьной команде был боулером[119]119
Bowler (англ.) – подающий мяч.
[Закрыть], и он научил нас, как делать лег-брейк и офф-брейк[120]120
Leg break и off break (англ.) – разные способы подачи мяча.
[Закрыть]. Он рассказал нам о легендарном Джасу Пателе, который родился с дефектом кисти руки, что оказалось идеальным для спин-боулинга[121]121
Крученая подача мяча.
[Закрыть], и как Джасу овладел искусством потрясающего кручения мяча, чего впоследствии боялись все великие мировые игроки с битой.
Теперь каждое воскресное утро мальчишки Фирозша-Баг играли в крикет. У нас был даже почти полный набор аксессуаров для крикета – один на всех. Не хватало только пары верхних перекладин и перчатки для ловли мяча. Тех, кто хотел играть, папа брал с собой на майдан Марин-драйв, делил нас на команды и сам становился капитаном одной из них. Мы отправлялись рано, пока солнце не так пекло и народу было не так много. Но однажды в воскресенье в середине игры папа сказал, что ему надо немного отдохнуть. Он сел на траву чуть в стороне и показался мне гораздо старше, чем когда отбивал или подавал лег-брейки. Он смотрел на нас с отсутствующим выражением на лице. И был таким печальным, как будто только сейчас понял что-то такое, чего понимать совсем не хотел.
После этого дня мы больше не играли в крикет на майдане. Одним нам туда ходить не разрешалось – наши игры были ограничены двором Фирозша-Баг. Мы не могли воткнуть колышки воротец в покрывающие дворовую площадку плиты и нарисовали мелом на черной каменной стене три белые линии. Но во дворе было слишком тесно для крикета. Кроме того, из-за неровностей на земле мяч отскакивал и подпрыгивал в непредсказуемых направлениях. После нескольких разбитых окон и жалоб соседей игры прекратились.
Я снова помахал Вирафу и подал наш с ним условный сигнал: «УУ-ууу-УУ-ууу», в манере йодль. Он помахал в ответ, потом взял чемоданчик доктора и пошел вместе с ним в корпус «А». Его вежливое поведение заставило меня улыбнуться. Ох уж этот Вираф! Хитрый парень, всегда знает, что делать, чтобы понравиться взрослым, и его с удовольствием принимали во всех домах Фирозша-Баг. Скоро он выйдет.
Я прождал не меньше получаса. Похрустел всеми костяшками пальцев, даже больших. Потом пошел на другой конец площадки, посидел несколько минут на ступеньках, но, устав ждать, поднялся по лестнице, чтобы понять, почему Вираф так обхаживал доктора.
Но доктор Сидхва как раз спускался вниз со своим черным чемоданчиком.
– Сахиб-джи, доктор, – сказал я, и он мне улыбнулся. А я побежал на четвертый этаж. Вираф стоял на балконе рядом со своей квартирой.
– Что это за маска-палис[122]122
Зд.: подчеркнутая вежливость (маратхи).
[Закрыть] с доктором?
Ничего не ответив, Вираф отвернулся. Он казался расстроенным, но я не стал спрашивать, в чем дело. Сочувственные слова мне никогда не давались. Я снова заговорил в том легком и веселом стиле, который мы все старались довести до совершенства, – правую руку уперев в бок и чуть-чуть наклонив голову.
– Ну, так как, яр, какие планы на сегодня?
Он пожал плечами, но я настаивал:
– Утро почти прошло, старик, не надо быть нытиком.
– Отвали, – сказал он, но голос у него дрожал. Глаза покраснели, и он тер их, как будто туда что-то попало. Я немного постоял молча, глядя с балкона вниз. Этот балкон на четвертом этаже был моим любимым местом. Оттуда можно было видеть дорогу за нашим кварталом, а иногда в солнечный день даже уголок пляжа Чаупатти и сверкающие на солнце волны. С моей веранды на первом этаже видна была только черная каменная стена.
Из квартиры доносились приглушенные голоса, дверь была открыта. Я заглянул в столовую, где несколько соседок из корпуса «А» окружили маму Вирафа.
– Может, сыграем в «Лудо» или в «Змеи и лестницы»? – предложил я и подумал: «Если он снова пожмет плечами, уйду».
Что я мог еще сделать?
– Хорошо, – ответил он, – только тихо. Если мама увидит, она нас выгонит.
Никто не заметил, как мы на цыпочках пробрались внутрь, все взрослые увлеченно что-то обсуждали.
– Папа очень болен, – прошептал Вираф, когда мы проходили мимо комнаты больного. Я остановился и посмотрел. В комнате было темно. Запах болезни и лекарств напоминал приемную в медкабинете доктора Сидхвы. Отец Вирафа лежал в постели на спине, и в его нос была вставлена трубочка. Из правой руки торчала длинная игла, которая зловеще заблестела, когда в комнату упали солнечные лучи. Меня передернуло. Игла соединялась трубкой с большой бутылкой, которая в перевернутом виде висела на стойке из темного металла, возвышающейся над кроватью.
В столовой мама Вирафа тихо говорила соседкам: «…у него в груди стало хуже, когда вчера вечером он пришел домой. Сколько раз я ему говорила, что подниматься на четвертый этаж в твоем возрасте и с твоей комплекцией не так легко. Поднимись на один, отдохни несколько минут, потом иди дальше. Но он же не слушает, не хочет показывать, что ему трудно. И вот результат. Не знаю, что буду делать. Бедняжка Вираф, не испугался, когда доктор…»
Лежащее на спине округлое тело больного растеклось по кровати и стало казаться плоским, как будто оно никогда и не было особенно крупным. Я вспомнил, что назвал Вирафа нытиком, и весь запылал от стыда. Поклялся себе, что извинюсь. Мой папа был худой и жилистый, хотя у него, по словам мамы, намечался небольшой животик. Он бегал с нами, принимал мяч в крикете. А отец Вирафа, когда однажды привел нас на поле, просто сидел на траве. Он дышал громко и хрипло, немного приоткрыв рот, напоминая храпящего во сне человека, только его дыхание было неровное и говорило о боли. Я заметил, что у него на лбу морщины, как у папы, правда папины были не такие глубокие.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.