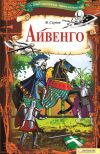Текст книги "Истории Фирозша-Баг"

Автор книги: Рохинтон Мистри
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Сквозь хриплое дыхание пробился голос матери Вирафа:
– …поменяться с кем-нибудь на первом этаже, но и тут нет. Говорит, я не поменяю свой рай на четвертом этаже на запахи и шум в квартире на первом. Здесь не поспоришь. К нам наверх не доходит даже дребезжание и грохот автобуса BEST. Но зачем нужен рай, если у тебя не хватает здоровья им наслаждаться? Теперь врач сказал, что нужна интенсивная терапия, но в парсийской больнице нет мест. Лучше оставаться здесь, чем ложиться в другие больницы, только вот…
Не отрывая глаз от каменно-серого лица больного, я попятился и незамеченный вышел из комнаты. Коридор был пуст. Вираф ждал меня в дальней комнате с коробками игр «Лудо» и «Змеи и лестницы». Но я проскользнул через веранду и спустился вниз, ничего ему не сказав.
Площадка вся купалась в солнечном свете, пока я брел до другого ее конца. По дороге я прошел мимо трех белых колышков, когда-то нарисованных нами на черном камне стены. Линии были тонкие, едва различимые, затерявшиеся среди более поздних рисунков и брошенных игр в крестики-нолики.
Мама возилась на кухне, я слышал, как шумит примус. Мамай-джи в темных очках, придававших ей зловещий вид, сидела у окна веранды, и солнечный свет отражался от толстых черных линз с кожаными шорами по бокам. После удаления катаракты врач сказал ей носить их несколько месяцев.
Папа за обеденным столом все еще читал «Таймс». В тусклом свете электрической лампочки я видел невинную и радостную улыбку «Мерфи беби». Я подумал: интересно, каким он стал сейчас. Когда мне было два года, проводился конкурс на лучшего «Мерфи беби» и родители говорили, что моя фотография, посланная туда, должна была выиграть. Они утверждали, что тогда улыбка у меня была такая же невинная и радостная. А может, и еще лучше.
Пинцет лежал на столе. Я его взял. Он безжалостно заблестел, в точности как длинная игла в руке отца Вирафа. Я вздрогнул, и, звякнув об стол, пинцет упал.
Папа вопросительно посмотрел на меня. Его волосы оставались такие же растрепанные, как когда я ушел, и я ждал, что он попросит меня продолжить. Сам я предложить свою помощь не мог. Это было выше моих сил, но мне ужасно хотелось, чтобы он попросил. Незаметно краешком глаза я посмотрел на его лицо. Морщины у него на лбу явственно обозначились, как и щетина с проседью, которая к этому часу должна была бы уже исчезнуть, смытая в трубу канализации после бритья. Я поклялся себе, что больше никогда не стану отказывать ему в помощи, вырву все до единого седые волоски, стоит только ему попросить. Я буду внимательно, как никогда раньше, действовать пинцетом, словно от результата зависят все наши жизни, да, я буду это делать каждое воскресенье без исключения, и неважно, сколько времени мне потребуется.
Папа отложил газету и снял очки. Потер глаза и пошел в ванную. Каким он выглядел усталым, как опустились его плечи! В его походке уже не было прежней уверенности, а я раньше ничего такого не замечал. Он не заговорил со мной, хотя я очень сильно об этом молился. У меня внутри возникла какая-то тяжесть, я попробовал сглотнуть, чтобы растворить ее в слюне, но мне и глотать стало трудно, тяжесть застряла где-то в горле.
Послышался звук льющейся воды. Папа собирался бриться. Мне захотелось пойти и посмотреть на него, поговорить с ним, посмеяться вместе над смешными рожицами, которые он строит, чтобы добраться бритвой до трудных мест, особенно до ямки на подбородке.
Но вместо этого я бросился на кровать. Хотелось плакать из-за того, как я повел себя с Вирафом, из-за его больного отца с длинной холодной иглой в руке и хриплым дыханием, из-за мамай-джи и ее усталых глаз в темных очках, которая прядет шерсть для наших кушти, и из-за мамы, стареющей в полутемной кухне, где воняет керосином, шумит примус и где пропали все ее мечты. Мне хотелось плакать и о себе, потому что я не смог обнять папу, когда меня так тянуло, потому что ни разу не поблагодарил его за крикет по утрам, за голубей, за велосипед, за мечты. И за все седые волосы, остановить появление которых уже было не в моих силах.
Жильцы
Хуршидбай вышла из своей комнаты с неплотно упакованным свертком, прижав его к груди обеими руками. Затем начала разбрасывать пахучее содержимое по полу веранды, что проделывала каждое утро последние четыре недели.
Веранда располагалась между двумя комнатами квартиры. Хуршидбай внимательно следила, чтобы ничего не уронить у собственной двери. Тот факт, что она находилась на первом этаже корпуса «В» и ее прекрасно видели проходящие по двору любопытные, ни разу не побеспокоил ее за эти четыре недели, как не беспокоил и теперь. Никто из соседей не вмешивался. Почему, она толком не знала. Может, из уважения к ее сединам. Кроме того, ей смутно казалось, что ее ежедневные молитвы в агьяри могли как-то этому способствовать.
Она делала свое дело тщательно и методично. Начала она от окна и парапета – разбрасывала луковую шелуху, скорлупу кокосового ореха, яичную скорлупу, за которой тянулись голубоватые ниточки белка, картофельные очистки, одну полоску банановой кожуры, листья от цветной капусты, корку апельсина. Все это было вывалено вдоль края парапета. Правда, яичная скорлупа скатилась. Хуршидбай подняла ее, раздавила – вот так, теперь не свалится! – и снова положила на парапет между скорлупками кокоса и картофельными очистками.
Довольная сделанным, Хуршидбай подошла к двери, ведущей во вторую комнату. Как обычно, заперто изнутри. Тру́сы. Она приспособила банановую кожуру, уравновесив ее на ручке двери. Пристроила длинный кусок жирного хряща к самой ручке и разбросала на пороге оставшиеся очистки кожуры и шкурок. На ее костлявых запястьях тихонько позвякивали браслеты – работа на веранде шла под их тонкий аккомпанемент. Хотя звяканье было негромким, оно всегда раздражало Хуршидбай, возвещая о ее присутствии, словно колокольчик на шее коровы. Она потуже их натянула – потуже, вокруг предплечий. Как хорошо было бы избавиться от них, только не хотелось обижать Ардашира. Дорог был ей только один браслет – золотой, свадебный, уже сорок лет обнимавший ее запястье.
Хуршидбай сделала три шага назад и с удовольствием оглядела свою работу, особенно длинный хрящ, мерно раскачивавшийся под тяжестью кости на конце. Оставалось только одно. Возвращаясь из агьяри, она не сразу догадалась подобрать их на мостовой, но потом взяла и теперь швырнула прямо в запертую дверь.
В нижнюю панель двери шмякнулись собачьи экскременты. Какая-то их часть прилипла, остальное упало на порог. За запертой дверью Кашмира пыталась понять, какова природа этого глухого звука. Она сидела дома одна с маленьким Адилем. Звук отличался от шуршания и звяканья последних четырех недель, но Кашмира не двинулась с места, оставаясь под защитой запертой двери. Можно подождать, пока с работы вернется Боман, он и скажет, что это такое. Четыре недели Хуршидбай спокойно, без лишних эмоций разбрасывала мусор, но Кашмира все равно боялась, что однажды та взорвется и превратится в неуправляемую, вопящую благим матом сумасшедшую. Или ноющую беспомощную развалину. «Если этому суждено случиться, то лучше уж второе», – с надеждой думала Кашмира.
Находившаяся по другую сторону двери Хуршидбай осталась довольна результатом. Если бы экскременты полностью высохли, они бы не прилипли. А так – лучше не придумаешь. Она смяла газету и повернулась, чтобы уйти, но вдруг остановилась. Ей пришла в голову еще одна мысль – Хуршидбай с благодарностью подняла глаза к небу и разорвала на мелкие кусочки страницы «Индиан экспресс». Она подбрасывала их, раскидывала во все стороны, и бумажные медальончики плавно опускались, украшая пол, подоконник и дверь. В ее походке появились признаки одновременно гордости и радости, она вновь почувствовала себя маленькой девочкой, предающейся запретному развлечению. Хуршидбай кидала бумажки налево, направо и под потолок и смотрела, как они медленно летят вниз. Сари сползло с головы (она всегда покрывала голову) и с левого плеча (она ловко уложила его на место), а ее браслеты, предпочтя свободу запястий, съехали с предплечий и зазвенели сильнее. Вместо тоненького позвякивания послышался громкий брякающий звук.
Кашмире, сидевшей по другую сторону запертой двери, показалось, что Хуршидбай наконец вошла в ту стадию помешательства, которой она так опасалась, и Кашмира забеспокоилась. Обычно Хуршидбай поддавалась уговорам Ардашира, который тихим голосом призывал ее проявить разумность. Кашмира не раз слышала, как он разговаривал с женой спокойно и нежно, и от этого у Кашмиры вставал комок в горле.
C тех пор как четыре недели назад Хуршидбай придумала свой план, Ардашир каждый день пытался ее переубедить. В первое же утро, почувствовав вкус победы после судебного разбирательства, поначалу грозившего им выселением, она проснулась и сказала, что ночью Пестон-джи сделал ей подарок. Посвистывая красным клювиком и хлопая ярко-зелеными крыльями – рассказывала она про свой сон, – он объяснил ей, как проучить живущих в соседней комнате, чтоб они на всю жизнь запомнили. Ардашир умолял ее ничего не делать, хотя сорок лет брака должны были научить его понимать бессмысленность подобных попыток. Когда Хуршид охватывала решимость бороться и мстить, ее ничто не останавливало.
Теперь, после того как она швырнула эту пакость, Ардашир уже был не в силах наблюдать за происходящим. И он отвернулся от двери – прочь, прочь от ее безумного, омерзительного поведения. Ломая руки, он снова и снова упорно проговаривал одними губами слова своей мольбы: «Дада Ормузд, прости ее». Он в отчаянии мерил шагами комнату, иногда останавливаясь, чтобы в очередной раз поправить стоящие на полке фотографии в рамочках. Что ему было делать? Он не мог усомниться в выдаваемых во сне указаниях Пестон-джи, не обидев при этом свою дорогую Хотти. Нет, только не это. Да и вообще, кто может сказать, что такое сны, ведь даже ученые до сих пор слишком мало знают о вселенной и ее тайных силах.
Он подвинул стул, как будто собирался сесть, но потом снова зашагал по комнате. То и дело трогал свою лысину, перебирал пряди волос по краям и пытался поправить на носу и без того плотно сидевшие очки.
Хуршидбай укротила свою резвость и вошла в комнату, когда позади нее опускались на пол последние обрывки «Индиан экспресс». Ардашир взял ее за руку и прошептал: «Хотти, жизнь моя, что ты наделала, что ты швырнула в их дверь! Когда-нибудь нам предстоит отвечать перед Всевышним. Это должно прекратиться, прежде чем…»
Она высвободила руку и подошла к пустой клетке попугая. Несколько мгновений она простояла перед ней, сложив замком руки у самой груди и закрыв глаза, потом повернулась к Ардаширу.
– Это они все начали, так почему мы должны останавливаться? Полгода судов, адвокатов и прочей белиберды. Повестки о выселении! Ха! Он мне вручает повестки о выселении! При галстуке и в пиджаке, хочет быть как сахиб[123]123
Господин (хинди, урду).
[Закрыть]. Все «доброе утро» да «добрый вечер», думает, он лучше меня. – Ее злость на секунду исчезла, когда она вдруг спросила умоляющим голосом: – Я ведь такой раньше не была, правда?
– Но, Хотти, жизнь моя, что… что ты швырнула им в дверь! И ведь ты знаешь, что это их квартира и они имеют право…
– Право на что? Выставить нас на улицу? А у нас, выходит, прав нет? Прав наконец иметь крышу над головой, есть маленькие дар-ротели[124]124
Рисовые лепешки (маратхи).
[Закрыть] и закончить свои дни в мире и спокойствии? Ни у кого не получится разодрать меня в клочья, так и знайте!
– Но мы съедем, как только освободится другая квартира. Скажи им, они хорошие люди.
– У тебя все на свете – хорошие люди.
От ее жеста, охватывающего все человечество, снова зазвенели браслеты. Она сдвинула их к локтям.
– Другая квартира пока не готова. Может, никогда и не будет. В жизни нет ничего определенного. Только рождение, брак и смерть, как говорила моя бедная мамочка. Ты хочешь в нашем возрасте снова идти просить жилье в дхармашале[125]125
Ночлежка, богадельня (санскр.).
[Закрыть]?
– Но эта гадость… то, что ты бросила…
– Это, то – заладил! Прямо весь трясешься в своей пижаме! Нет чтобы помочь! Но если бы Он не хотел, чтобы я их кинула, почему они лежали на мостовой перед агьяри? И почему Он внушил мне эту мысль? Не так-то легко…
Ардашир больше не слушал. Он не обращал внимания на упреки Хуршидбай. Ее беспокоила неопределенность, вот и все. Впрочем, он уже далеко ушел от их жилища и кормил голубей, собравшихся на широких мостовых пляжа Чаупатти. Он подзывал их: «Гули-гули», а птицы танцевали вокруг него и клевали с рук. Накатывающий прилив звучал непрерывным басом, образуя фон беспорядочному хлопанью их легких крыльев.
Сидя в запертой комнате с маленьким Адилем, Кашмира долго слушала гул решительного голоса Хуршидбай и тихие ответы Ардашира. Иногда ей хотелось, чтобы их голоса звучали яснее. Когда Боман придет домой, она отопрет дверь, они, как всегда, уберут мусор и отдохнут на свежем воздухе. Кашмире каждый вечер требовалось по крайней мере час провести перед сном на веранде. Она говорила, что у нее такое ощущение, будто ее кто-то душит. Еще бы – просидеть целый день, как в клетке, в одной комнате, где им приходится и готовить, и есть, и спать. Но два года назад они сами так все устроили. Отказались от кухни и решили оставить только комнату и ванную. Кухня и вторая комната при разделе квартиры отошли жильцам, которые платили им за аренду. Они с Боманом договорились, что ванная важнее, потому что маленький Адиль писается по ночам и, кроме того, они планировали завести второго ребенка. Без кухни можно было обойтись, разделив комнату и используя вторую половину для готовки и еды. Веранда оставалась общей, потому что через нее был единственный вход в квартиру.
Раздел был неудачный, но Боман заявил, что, пока жив, он не допустит, чтобы его жена работала. Платные жильцы – дело временное, не больше двух лет, пока его не повысят и они снова не смогут позволить себе оплачивать квартиру целиком. Таков был его план.
Этот план он и изложил мистеру Карани во дворе однажды вечером, когда оба возвращались домой после работы. Боман искренне восхищался дипломированным бухгалтером-экспертом с четвертого этажа. И всегда следовал его совету по всевозможным вопросам. Нельзя сказать, что ему не хватало уверенности в собственных силах, просто было приятно поговорить с дипломированным экспертом. Что-то особенное таилось в этом звании, тем более если учесть, что сам Боман дошел лишь до бакалавра коммерции, потому что отец больше не мог за него платить.
Мистер Карани предсказал Боману ужасающие последствия. Он предупредил, что легче избавиться от ядовитого канкхаджуро[126]126
Сколопендра (урду, маратхи).
[Закрыть], залезшего тебе в ухо и прогрызшего путь в мозг, чем выселить платного жильца, которого ты пустил в свою квартиру.
Боман пришел в замешательство. Он рассчитывал на солидарность и поддержку своих намерений, а вместо этого нарвался на несогласие и отговоры. Он даже пожалел, что поднял эту тему в разговоре. Проблема с советами дипломированного эксперта состояла как раз в том, что если ты с ними не соглашался, то они сидели у тебя внутри, как комок нездоровой пищи, шумно урчащей и вызывающей несварение желудка.
В течение нескольких дней предостережения мистера Карани клокотали, бурчали и подтачивали план, угрожая ему распадом, а Боман все колебался, переходя от абсолютной уверенности к полной нерешительности. В конце концов Боман не послушался совета дипломированного эксперта, что стало редким исключением из общего правила. Он приступил к осуществлению своего плана и сообщил Кашмире, что поместил объявление в «Джам-э-джамшед».
Вскоре на объявление ответили. Стороны условились о встрече, квартира была показана, договоренность достигнута.
После чего последовало полтора года душевного сосуществования с въехавшими в их квартиру жильцами. Боман уже начал думать, что на этот раз мистер Карани все же преувеличил опасность. Велико было его искушение сбросить дипломированного эксперта с пьедестала.
Но полтора года душевного сосуществования пролетели быстро и завершились в одночасье, когда Ардашир и Хуршидбай получили уведомление о необходимости освободить помещение. Это уведомление имело далекоидущие последствия. Оно принесло новый жизненный опыт всем участникам: разбирательства в залах судебных заседаний; бессонные ночи, полные гимнов восходящему солнцу; ковырявшего в носу садиста-адвоката – для Бомана и Кашмиры; уборку веранды для Кашмиры; знамения и вещие сны для Хуршидбай; голубей (реальных и воображаемых) для Ардашира; густые и удушливые запахи благовоний для Бомана и Кашмиры и, наконец, такси для Ардашира и машину скорой помощи для Хуршидбай.
Однако непосредственным следствием полученного документа было высказанное мужу категорическое заявление Хуршидбай, что никому не удастся заклевать ее и разодрать в клочья. Большую часть жизни глубоко в сознании Хуршидбай сидел этот образ: cтая ворон клюет и раздирает на части лежащее в канаве мертвое существо. Иногда этим трупиком был котенок, иногда щенок, а иногда такая же ворона. Может быть, Хуршидбай когда-то видела подобную картину, а может, этот образ возник из различных жизненных ситуаций и стал для нее главной метафорой, но в тяжелые времена она, стиснув зубы, говорила себе, что никому не удастся заклевать ее и разодрать в клочья, потому что она будет бороться.
Полтора года назад жильцы переехали сюда со своими убогими пожитками: двумя чемоданами, одним вещевым мешком, увесистой клеткой для попугая (пустой, но все еще с именем ее прежнего обитателя: «Пестон-джи Попут»), заводным граммофоном и одной пластинкой «Сахи сурадж»[127]127
«Доброе солнце». Популярная парсийская песня, посвященная восходу солнца (гуджарати).
[Закрыть] с песней-восхвалением утреннему солнцу, хрупкий шеллак которой, делающий 78 оборотов в минуту, был завернут в несколько слоев сари и уложен в чемодан.
В те дни обе комнаты не запирались. Хуршидбай заглядывала к соседям, махала рукой маленькому Адилю и спрашивала, как у него дела. Иногда Кашмира заходила к пожилой чете справиться, не нужно ли им чего-нибудь. Она заметила, что к обстановке прибавились два подержанных стула и небольшой складной стол. На стол водрузили клетку умершего или исчезнувшего Пестон-джи. Однажды Кашмира увидела, как Хуршидбай стоит у пустой клетки и смотрит на качельки внутри, и ее охватила жалость к этой милой седовласой женщине. Она представила, каким тяжким бременем должны лежать воспоминания о дорогом попугае на старых плечах стоявшей перед клеткой Хуршидбай. Та кивком пригласила ее войти и, сжав Кашмире руку своими костлявыми пальцами, сказала:
– Как сладко посвистывал мой Пестон-джи и как он был прав.
Попугай все еще является ей в снах, когда возникают неприятности, поведала Хуршидбай, и своим свистом сообщает ей о будущем, и только она одна может расшифровать его свист.
Когда в тот вечер Кашмира рассказала Боману об услышанном, он заявил, что у старушки определенно винтиков в голове не хватает.
Мелкие неурядицы между двумя семьями легко улаживались. Хуршидбай попросила, чтобы для утренней молитвы в ее распоряжение была полностью предоставлена веранда. Кроме того, ей не хотелось, чтобы Кашмира выходила туда во время месячных. Боман и Кашмира с удивленной улыбкой согласились. Хуршидбай вставала каждый день в пять часов и, почистив зубы, расчехляла свой граммофон, чтобы послушать «Сахи сурадж», истовую дань восходящему солнцу. В качестве соглашения, основанного на взаимном уважении, Боман и Кашмира попросили, чтобы граммофон заводился не раньше семи часов.
Вскоре все в доме привыкли видеть, как Хуршидбай идет в сторону агьяри, на базар или обратно, а иногда под руку с Ардаширом отправляется кормить голубей на пляж Чаупатти. Постепенно до Кашмиры дошли слухи о том, каким образом эта пожилая чета оказалось бездомной в таком почтенном возрасте. Наджамай из корпуса «С» всегда останавливалась поболтать, если узнавала какие-нибудь новости из своих многочисленных источников. Ее беспокоило, что Боман и Кашмира пустили к себе жить незнакомых людей. Ну и что с того, что они тоже парси? В наше время никому нельзя доверять. Этот урок, по ее словам, она извлекла после убийства в храме огня, когда дастур-джи был заколот нанятым на работу чашнивалой. Поэтому Наджамай дала себе зарок докопаться до истины, в чем, однако, не слишком преуспела.
По одной версии, бездомность новых жильцов была следствием семейной распри. Якобы много лет назад Ардашир поклялся никогда не переступать порог собственного дома, пока там живет некий человек. Хотя, чтобы никогда не повышавший голос Ардашир дал такую клятву, казалось весьма сомнительным.
По другой версии, нечто довольно постыдное произошло между Хуршидбай и неизвестным мужчиной, родственником Ардашира, и после этой истории им ничего не оставалось делать, кроме как собрать свои вещи и уехать. Но и в этом случае невозможно было представить, чтобы чопорная, регулярно посещавшая агьяри Хуршидбай с неизменно покрытой головой завела интрижку на стороне.
Но была еще и третья версия, самая печальная. Пожилые люди, всю жизнь тяжело работая и экономя каждую копейку, смогли дать образование своему единственному сыну и отправить его в Канаду. Несколько лет спустя он оплатил их переезд, и тогда они продали квартиру и уехали к нему, однако выяснилось, что сын теперь совсем не такой, каким был раньше, и после разочарования и дурного обращения они вернулись в Бомбей, бездомные и безутешные.
Кашмира не придавала большого значения всем этим россказням. Но иногда, беря с веранды брошенную почтальоном почту, она находила письмо из Канады, адресованное Ардаширу и Хуршидбай. Жестокосердный сын? На обратном адресе стояла та же фамилия. Но, если он плохо обошелся с ними в Канаде, не имело никакого смысла возвращаться в Бомбей. Особенно потому, что здесь им уже негде было жить. Да, сыновья могут оказаться неблагодарными, но что поделаешь? Лучше оставаться там, где, по крайней мере, хорошие еда, вода и воздух.
Кашмира отдавала письмо, вскользь замечая, какая на нем красивая иностранная марка, и надеясь получить хоть какой-нибудь комментарий, возможно, ключ к разгадке авторства. Но кроме «спасибо» Хуршидбай ничего не говорила, брала ее за руку и вела к клетке, где снова рассказывала о жизни Пестон-джи.
Когда врач сказал, что, да, Кашмира беременна, Боман решил, что пора им получить назад всю квартиру целиком. С двумя детьми им понадобятся две комнаты.
Однажды, вскоре после радостной новости, он остановил во дворе мистера Карани. Больше по привычке, чем по другим причинам, он захотел обсудить с ним, как лучше сделать так, чтобы жильцы съехали.
– Боман, дикра[128]128
Сын (маратхи).
[Закрыть], что я могу сказать? – ответил ему мистер Карани, грустно покачав головой. – Какой совет могу дать? Если бы у вас в голове сидел канкхаджуро и вгрызался вам в мозг, я бы сказал: подержите пахучий кусок баранины у уха, и этот соблазн заставит его выбежать наружу со всех его ста ножек. Но что мне сказать о жильцах? От такой проблемы избавить может только смерть.
Мистер Карани некоторое время разглагольствовал в том же духе, но, когда почувствовал, что Боман уже сполна получил свое, предложил ему обратиться в администрацию Фирозша-Баг.
Но и от них помощи ждать не стоило.
Боман нашел человека, которому он полтора года назад сунул конверт с кругленькой суммой, чтобы администрация закрыла глаза (чувствительный зрительный орган, сформированный, чтобы действовать, не поддаваясь милосердию и сочувствию) на появление жильцов, снимающих одну из комнат в квартире на первом этаже корпуса «В». «Невозможно», – сказал ему этот скользкий тип. Причем он говорил, не снимая маску суровой заинтересованности (привычно надевавшейся уже несколько лет), словно объявляя: я являюсь столпом местного сообщества и готов помогать бедным и нуждающимся в любое время дня и ночи. «Невозможно, – повторил он, – ни в одной из квартир Фирозша-Баг не может быть платных жильцов. Это противоречит политике администрации». Боман, вероятно, ошибся. Либо это так, либо Боман нарушил закон.
Боман ушел. Он обратился к своему шурину Рустом-джи из корпуса «А». Рустом-джи был юристом и, конечно, мог порекомендовать что-то дельное. Боман всегда считал брата Кашмиры толковым и серьезным человеком, и, безусловно, именно с ним надо было поговорить в сложившейся непростой ситуации.
– Сала гхела![129]129
Ну и пакость! (маратхи)
[Закрыть] – возмутился Рустом-джи. – Хуже не придумаешь – брать жильцов. Как тебя угораздило? О чем ты думал, когда совершал эту глупость? Надо было спросить меня, прежде чем решиться на такое, а теперь что поделаешь? Ты сначала устраиваешь пожар, а потом бежишь копать колодец.
Боман смиренно ждал, бормоча:
– Ты прав, ты прав.
Неудержимый взрыв эмоций надо терпеливо переждать, если хочешь бесплатно получить толковый и серьезный совет.
Потом Боман рассказал ему о встрече с администратором, что предоставило Рустом-джи удачную возможность излить свое раздражение.
– Аррэ! Эти негодяи не подадут жаждущему и стакана воды. В их кабинетах стульям не нужны подушки, потому что у них под задницами кучи наших денег.
Рустом-джи отвел руки назад и вверх. Боман, одобрительно рассмеявшись, сказал:
– Как верно ты говоришь, яр, как верно!
Рустом-джи любил комплименты.
– Четыре года назад, – продолжал он, – когда у меня в туалете была протечка, эти гнусные ворюги ремонтировали его пять недель. Моя бедная Мехру звонила им каждый день, и какой-нибудь мерзавец говорил, что починят сегодня или уж точно завтра. Пять недель мне приходилось каждое утро ходить в туалет к соседке Хирабай Хансотии. В конце концов я послал им такое грозное письмо, что их задницам, как ты догадываешься, мало не показалось. Отремонтировали ускоренными темпами.
Боман посмотрел на шурина, как делал не раз, – с благоговением и восхищением.
И это помогло. Рустом-джи перешел к тому, чего от него ждал Боман.
– Тебе следует идти юридическим путем. Пусть за тебя решает суд, – сказал он. – Будет нелегко, помяни мое слово, таково арендное право. Но, если тебе повезет, дело не зайдет слишком далеко. Письма от юриста будет достаточно, чтобы они испугались и съехали. Иногда оно оказывается самым лучшим слабительным.
И он написал имя юриста, чья специализация – арендное право.
Когда Кашмира узнала о процедуре, которую они должны пройти, ей категорически не понравилась вся идея. Она хотела пригласить жильцов на чай, объявить им радостную новость о ребенке, а потом перейти к вопросу о комнате. До рождения ребенка оставалось еще семь месяцев. Она могла бы просматривать колонки объявлений в «Джам-э-джамшед» и найти для них другое жилье. Как говорил сам Боман, их жильцам на двоих больше ста лет. В таком возрасте трудно снова переезжать. И Кашмира бы им помогла.
Когда-то она искренне мечтала заняться какой-нибудь общественной деятельностью. Много лет назад Рустом-джи тоже был способен следовать подобным желаниям, когда в колледже Святого Хавьера вступил в Лигу социальной помощи. Но со временем он исключил эти принципы из своей жизни. Теперь он изо всех сил старался создать себе репутацию человека жестокосердного и безразличного, что, как он не стеснялся говорить, необходимо для выживания. Когда Кашмире пришло время вступать в Лигу, ей не разрешили это сделать, потому что девушки и юноши ездили вместе в рабочие лагеря и много всякого рассказывали о том, что там происходит между полами. Ей приходилось постоянно слушать от родителей и брата что-нибудь вроде: благотворительность начинается дома или лучшая помощь – помощь самому себе. Впрочем, все это не имело для нее никакого смысла – ни тогда, ни теперь.
Боман сказал, что о приглашении жильцов на чай не может быть и речи. В наши дни человеческая природа такова, что вежливость будет расценена как слабость. Лучше все сделать твердо и официально, по соответствующим каналам, с письмом от юриста, предписывающим им покинуть помещение в течение двух месяцев.
Когда жильцы получили уведомление, Хуршидбай тут же громогласно заявила, что никто ее не заклюет и не растерзает. Потом она сказала Ардаширу, что для нее письмо не стало неожиданностью, она не сомневалась, что так и будет. Недавно ей приснился Пестон-джи, но клетки нигде не было видно. Бешено хлопая подрезанными крыльями и жалобно крича, он метался по веранде из угла в угол, и она долго не могла его успокоить.
Ардашир собирался сказать Боману, что нет никакой необходимости в юристах и уведомлениях. Им просто потребуется время. Но Хуршидбай запретила. Ей мерещились клювы, готовые ее заклевать, и она собиралась дать им бой. Вот и все. Стоя рядом с клеткой, она качнула пальцем качельки.
– Набожным людям, таким как мы, бояться нечего, – сказала она и вместе с качельками стала раскачиваться туда-сюда.
После этого начались полгода бесполезных и изматывающих действий. Юрист, которого рекомендовал Рустом-джи, был круглый человечек с садистскими замашками, который нагло ковырял в носу в присутствии клиентов. Ему доставляло удовольствие смотреть, как Боман корчится от волнения, когда слышит о законах, регулирующих аренду и субаренду, и о том, как трудно доказать создавшееся исключительно тяжелое положение и выселить человека.
– Есть законы, защищающие бедных, – с горечью сказал Боман, придя домой, – и законы, защищающие богатых. Но люди среднего класса, такие как мы, всегда получают по одному месту бамбуковой палкой.
– Фу! Не говори так! – ответила Кашмира, не выносившая неприличных выражений. Одежда и язык – вот две вещи, которые должны быть чистыми, – настаивала она. В других вопросах она предоставляла Боману поступать, как он хочет. В более счастливые времена она позволяла ему делать то, что ужаснуло бы ее, если бы было описано словами. Как мечтал Боман о таких ночах! Когда в темноте он протягивал руку, после того как маленький Адиль засыпал, она поворачивалась к нему своим мягким теплым телом и точно знала, что делать. Ей нужна была лишь темнота и молчание: никаких слов. Другие звуки – стоны и вскрики – ее не беспокоили, наоборот, даже возбуждали, в этом он был уверен.
Кашмира с горечью продолжала:
– Если бы ты дал мне возможность работать, ничего этого не произошло бы.
Боман, перебирая в уме те ночные мгновения, полные экстаза, мечтательно улыбнулся, но Кашмира не поняла почему.
Недели, в течение которых Хуршидбай по утрам разбрасывала мусор, а Кашмира по вечерам его выметала, начались вслед за последним судебным заседанием. С того же дня стал отсчитываться восьмой месяц беременности Кашмиры. В сны Хуршидбай вновь влетел Пестон-джи. И тогда же закончились бесполезные, изматывающие действия Бомана, направленные на выселение жильцов.
Боман не мог даже предположить, что его ждет полное поражение. В крайнем случае из соображений гуманности жильцам могли присудить более долгий период выполнения судебного решения. Последние несколько недель он реагировал на оскорбления Хуршидбай исключительно вежливо, проявляя воспитанность и благородство, которые мог себе позволить только победитель, каким он, собственно, себя и считал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.