Читать книгу "Карта призраков. Как самая страшная эпидемия холеры в викторианском Лондоне изменила науку, города и современный мир"
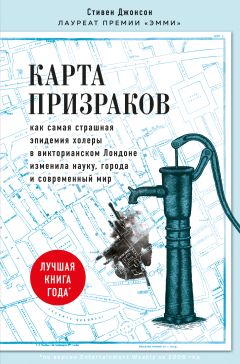
Автор книги: Стивен Джонсон
Жанр: Медицина, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Страх смерти и заразы иной раз держится веками. Во время Великой чумы 1665 года граф Крейвен купил участок земли, который назывался Сохо и располагался к западу от центра Лондона. Там он построил тридцать шесть небольших домов «для призрения бедных и убогих душ», больных чумой. Остальной участок использовали под братские могилы. Каждую ночь с телег в землю бросали десятки трупов. По некоторым оценкам, за несколько месяцев там похоронили более четырех тысяч умерших от чумы. Жители соседних районов дали Сохо зловещее название «Чумного поля графа Крейвена», или, если короче, «Крейвенского поля». Целых два поколения никто не решался там ничего строить, боясь заразиться. Но в конце концов дефицит крова пересилил страх болезни, и чумные поля превратились в модную площадь Голден-сквер, где обитали в основном аристократы и иммигранты-гугеноты. Но в конце лета 1854 года Голден-сквер накрыла еще одна эпидемия, заставившая содрогнуться несчастные души тех, кто нашел успокоение под ее камнями.
Сохо в десятилетия, последовавшие за чумой, быстро превратился в один из самых фешенебельных районов Лондона – если, конечно, не обращать внимания на Крейвенское поле. К 1690-м годам там жила почти сотня дворянских семей. В 1717 году принц и принцесса Уэльские оборудовали себе резиденцию в Лестер-Хаусе в Сохо. Сам Голден-сквер застроили элегантными особняками в георгианском стиле – идеальным убежищем от шумной площади Пикадилли, располагавшейся чуть дальше к югу. Но к середине XVIII века элита продолжила свой неумолимый марш на запад, построив еще более грандиозные дома и резиденции в растущем новом квартале – Мейфэре. К 1740 году в Сохо осталось лишь сорок жителей-дворян. Появился новый тип «обитателя Сохо»; наилучшим олицетворением его можно считать сына чулочника, родившегося в 1757 году по адресу Брод-стрит, 28. Талантливого, проблемного ребенка звали Уильям Блейк, и он стал одним из величайших поэтов и художников Англии. Когда ему было около тридцати, он вернулся в Сохо и открыл печатный двор рядом с лавкой покойного отца, которой теперь заведовал брат. Еще один брат Блейка открыл пекарню напротив, по адресу Брод-стрит, 29, так что в течение нескольких лет семья Блейков создала на Брод-стрит свою мини-империю: целых три лавки в одном квартале.
Эта смесь художественного видения и предпринимательского духа стала определяющей для Сохо в течение нескольких поколений. Город все больше превращался в промышленный, старые деньги заканчивались, и район постепенно мрачнел; домовладельцы разделяли старые особняки на отдельные квартиры, дворики между зданиями заполнялись импровизированными свалками, конюшнями, пристройками. Лучшее описание этому дал Диккенс в «Жизни и приключениях Николаса Никльби»:
В той части Лондона, где расположен Гольдн-сквер[4]4
Этот вариант в переводе А. Кривцовой, Е. Ланна. – Прим. ред.
[Закрыть], находится заброшенная, поблекшая, полуразрушенна я улица с двумя неровными рядами высоких тощих домов, которые уже много лет как будто таращат друг на друга глаза. Кажется, даже трубы стали унылыми и меланхолическими, потому что за неимением лучшего занятия им остается только смотреть на трубы через дорогу… Судя по величине домов, их когда-то занимали люди более состоятельные, чем нынешние жильцы, а теперь в них сдают понедельно этажи или комнаты, и на каждой двери чуть ли не столько же табличек и ручек от звонков, сколько комнат внутри. По той же причине окна довольно разнообразны, так как украшены всевозможнейшими шторами и занавесками; а каждая дверь загорожена, и в нее едва можно войти из-за пестрой коллекции детей и портерных кружек всех размеров, начиная с грудного младенца и полупинтовой кружки и кончая рослой девицей и бидоном вместительностью в полгаллона.
К 1851 году район Берик-стрит в западной части Сохо был самым густонаселенным из всех 135 районов Большого Лондона – 106 704 чел/км2; даже со всеми небоскребами плотность населения Манхэттена составляет «всего лишь» 25 846 чел/км2. В приходе церкви Св. Луки в Сохо на одном квадратном километре размещалось более семи тысяч домов. В Кенсингтоне, например, их было около 500 на одном квадратном километре.
Но несмотря на все более тесные и антисанитарные условия – или, может быть, даже благодаря им, – район был настоящим очагом творчества. Список поэтов, музыкантов, скульпторов и философов, живших в Сохо в тот период, читается как учебник по британской культуре эпохи Просвещения. Эдмунд Бёрк, Фанни Бёрни, Перси Шелли, Уильям Хогарт – всем им в тот или иной период довелось пожить в Сохо. Леопольд Моцарт снимал квартиру на Фрит-стрит, когда в 1764 году прибыл в Лондон вместе со своим восьмилетним сыном-вундеркиндом Вольфгангом. Ференц Лист и Рихард Вагнер тоже останавливались в этом районе, когда в 1839–1840 годах посещали Лондон.
«Новым идеям нужны старые здания», – однажды написала Джейн Джейкобс, и это утверждение идеально подходит для Сохо времен зари Промышленной революции: целый класс провидцев, эксцентриков и радикалов поселился в полуразвалившихся зданиях, которые почти столетие назад бросили богачи. Сейчас подобный сюжет – художники и маргиналы захватывают обветшалый квартал и даже наслаждаются окружающим упадком – хорошо нам известен, но в те времена, когда Блейк, Хогарт и Шелли впервые поселились на людных улицах Сохо, такой метод заселения был в новинку. Царившая вокруг нищета, похоже, лишь придавала им сил, а не вызывала ужас. Вот описание одного типичного дома на Дин-стрит, написанное в начале 1850-х годов:
[В квартире] было две комнаты, одна, с видом на улицу, служит гостиной, другая – спальней. Во всем жилище нет ни одного хорошего, прочного предмета мебели. Все сломано, истрепано и порвано, повсюду слой пыли толщиною в палец, все в полнейшем беспорядке… Когда входишь в… квартиру, внутри все затянуто табачным и угольным дымом, так что поначалу приходится ходить на ощупь, словно в пещере, пока глаза не привыкнут к клубам дыма, и, словно в тумане, начинаешь различать очертания предметов. Все грязно, все покрыто пылью; присаживаться просто опасно.
На этом двухкомнатном чердаке жили семь человек: семейная пара, переехавшая из Пруссии, их четверо детей и служанка. (Судя по всему, служанка не любила вытирать пыль.) Тем не менее это тесное, истрепанное жилье нисколько не сказалось на производительности главы семьи – хотя, с другой стороны, становится понятнее, почему он так полюбил читальный зал Британского музея. Этому человеку было немного за тридцать, а звали его Карлом Марксом.
К тому времени как Маркс переехал в Сохо, квартал превратился в классический смешанный, экономически разнообразный район, который современные «новые урбанисты» прославляют как фундамент для любого успешного города: двух-четырехэтажные жилые здания с торговыми площадями почти по любому адресу, а кое-где – крупные магазины. (Впрочем, в отличие от типичной новой урбанистской среды, была в Сохо и своя промышленность: бойни, мануфактуры, варщики требухи.) Жители района были бедными, практически нищими, по меркам современных индустриальных стран; правда, по викторианским стандартам это была смесь работающей бедноты и предпринимательского среднего класса. (Ну а уж с точки зрения грязевых жаворонков они вообще все были богачами.) Но Сохо был своеобразной аномалией богатого Вест-Энда: островок бедняков и зловонной промышленности, окруженный роскошными особняками Мейфэра и Кенсингтона.
Этот неоднородный состав населения до сих пор заметен в расположении улиц вокруг Сохо. Западная граница района проходит по широкой Риджент-стрит с блестящими белыми фасадами магазинов. К западу от Риджент-стрит располагается изысканный анклав Мейфэр, и по сей день сохранивший прежнюю пышность. Но вот с маленьких улочек и переулков западной части Сохо шумная, находящаяся в постоянном движении Риджент-стрит практически не заметна – в основном потому, что дорог, напрямую выходящих на Риджент-стрит, почти нет. Если пройтись пешком по району, может показаться, словно там построили баррикаду, чтобы не дать вам добраться до знаменитой улицы, находящейся буквально в нескольких футах от вас. И, собственно, улица изначально и планировалась как баррикада. Когда Джон Нэш прокладывал Риджент-стрит, чтобы соединить Марилебон-парк с новым домом принца-регента Карлтон-Хаусом, он сделал ее своеобразным санитарным кордоном, отделявшим богачей из Мейфэра от растущего рабочего населения Сохо. Нэш в открытую заявлял, что его цель – создать «полное разделение между улицами, где живут Аристократы и Дворяне, и узкими Улицами и бедными домами, где живут механики и ремесленники… Моя цель – построить новую улицу, которая будет пересекать все восточные входы улиц, где живут высшие классы, и оставит к востоку все плохие улицы».
В XVI веке на территории современного Сохо по приказу Генриха III был разбит королевский парк, где придворные могли охотиться. Считается, что свое название район получил от окрика, которым егерь подбадривает охотников.
Эта «социальная топография» сыграла ключевую роль в событиях, развернувшихся в конце лета 1854 года, когда ужасная болезнь поразила Сохо, но соседние районы при этом остались совершенно невредимыми. Избирательность эпидемии, как казалось на первый взгляд, подтверждала все возможные высокомерные клише: от болезни страдали развращенные и нищие, а людей первого сорта, живших всего в паре кварталов в стороне, она пощадила. Конечно же, болезнь разорила «бедные дома» и «плохие улицы»; любой, кто бывал в этих нищих кварталах, понимал, что рано или поздно что-то такое случится. Нищета, разврат и плохое воспитание создают среду, где процветают болезни – об этом вам сказал бы любой человек достаточно высокого положения в обществе. Собственно, для этого и были построены баррикады.
Но вот на другой стороне Риджент-стрит, за «баррикадой», ремесленники и механики вполне справлялись с тяжелыми условиями Сохо. Район был настоящим двигателем местной торговли – почти в каждом доме располагалась какая-нибудь лавка. Перечисление, возможно, прозвучит причудливо для современного уха. Были там, конечно, бакалейщики и пекари, которые и сегодня не затерялись бы в городском центре; но рядом с ними трудились машинисты и производители искусственных зубов. Если бы вы в августе 1854 года пошли по Брод-стрит, к северу от Голден-сквер, то встретили бы последовательно: бакалейщика, шляпника, пекаря, производителя седельных лук, гравера, торговца скобяными товарами, парикмахера, производителя пистолетных капсюлей, торговца гардеробами, производителя распялок для обуви и паб «Ньюкасл-на-Тайне». Если говорить о профессиях, то портных там было намного больше, чем любых других представителей сферы услуг; их было примерно столько же, сколько башмачников, домашних слуг, каменщиков, магазинных продавцов и модисток, вместе взятых.
В викторианской Англии были популярны бутылочки и питательные смеси для кормления. Но видные доктора той эпохи, такие как Чарльз Вайн, советовали именно грудное вскармливание, указывая на большое количество микробов на резиновых сосках бутылочек и несовершенство смесей.
В конце 1840-х годов лондонский полисмен Томас Льюис с женой переехал по адресу Брод-стрит, 40, по соседству с пабом. То был одиннадцатикомнатный дом, в котором изначально жила одна семья и несколько слуг. Теперь же там размещались двадцать человек. Дом был довольно просторный для той части города, где в среднем в одной комнате жило пятеро. Томас и Сара Льюис жили в гостиной дома 40, сначала – с маленьким сыном, болезненным младенцем, умершим в десять месяцев. В марте 1854 года Сара Льюис родила девочку, которая с самого начала выглядела куда более жизнеспособной, чем покойный братик. Сара Льюис не могла кормить ребенка грудью из-за собственных проблем со здоровьем, но давала дочери молотый рис и молоко из бутылочки. На второй месяц жизни девочка перенесла болезнь, но почти все лето оставалась относительно здоровой.
С этим вторым ребенком Льюисов связано несколько тайн, развеянных ветрами истории. Например, мы не знаем, как ее звали. Не знаем, какая серия событий привела к тому, что в конце августа 1854 года она заболела холерой – ей и шести месяцев от роду не было. Вспышки болезни наблюдались в некоторых районах Лондона в течение последних двадцати месяцев – в прошлый раз холера проявила себя в революционные 1848–1849 годы. (Эпидемии и политические беспорядки часто циклически следуют друг за другом5.) Но большинство вспышек холеры в 1854 году случались к югу от Темзы. Голден-сквер практически не страдал.
Но 28 августа все изменилось. Около шести утра, пока остальной город пытался выгадать последние несколько минут сна в тяжелую, жаркую летнюю ночь, у малышки Льюисов начались рвота и водянистый, зеленый, зловонный стул. Сара Льюис послала за местным врачом Уильямом Роджерсом, у которого была практика в нескольких кварталах от дома, на Бернерс-стрит. В ожидании врача Сара замочила испачканные пеленки в ведре с прохладной водой. Когда дочка на несколько минут заснула, Сара Льюис прошмыгнула к погребу дома 40 по Брод-стрит и выплеснула грязную воду в выгребную яму перед домом.
Вот так все началось.

Генри Уайтхед
Суббота, 2 сентября
Запавшие глаза, синюшные губы
В следующие два дня после того, как заболела дочь Льюисов, жизнь на Голден-сквер шла своим чередом. Неподалеку, на Сохо-сквер, приветливый священник Генри Уайтхед вышел из комнаты, которую снимал вместе с братом, и отправился на утреннюю прогулку до церкви Св. Луки, на Берик-стрит, где его назначили помощником викария. Уайтхеду было всего двадцать восемь лет; он родился в приморском городке Рамсгейте и учился в престижной государственной школе Чатэм-Хаус, директором которой работал его отец. Уайтхед стал одним из лучших учеников Чатэма, окончив школу с наивысшей отметкой за сочинение по английскому языку, после чего поступил в Линкольнский колледж в Оксфорде; там он быстро получил репутацию общительного, доброго человека, которая сопровождала его всю жизнь. Он стал большим приверженцем интеллектуальной жизни в таверне: очень любил сидеть в кругу друзей за ужином, смакуя трубку, рассказывать истории, или дискутировать о политике, или обсуждать философию морали до поздней ночи. На вопрос об университетской жизни Уайтхед обычно отвечал, что люди дали ему намного больше хорошего, чем книги.
До появления законов, ограничивающих употребление алкоголя, в Лондоне XIX века пиво пили все: мужчины, женщины и даже дети. Это было естественно, ведь люди запивали этим напитком любой прием пищи. На каждые пять домов приходилась одна таверна.
Окончив Оксфорд, Уайтхед решил посвятить жизнь англиканской церкви и через несколько лет был рукоположен в Лондоне. Религиозное призвание, впрочем, никак не уменьшило его любви к лондонским тавернам, и он стал завсегдатаем старых заведений на Флит-стрит – «Петуха», «Чеширского сыра», «Радуги». Уайтхед был либерален в своих политических взглядах, но, как часто отмечали друзья, консервативен в моральном плане. Кроме религиозной подготовки, он обладал острым, эмпирическим умом и хорошей памятью на детали. Больше того, он был необычно открыт для неортодоксальных идей и имел хороший иммунитет против банальностей общественного мнения. Он часто говорил друзьям: «Знаете, что? Если человек в меньшинстве, значит, он практически точно прав».
В 1851 году викарий церкви Св. Луки предложил Уайтхеду место помощника, сказав, что этот приход – для тех, кому «больше важно одобрение, а не аплодисменты». В церкви Св. Луки он работал своеобразным миссионером для жителей трущоб на Берик-стрит и быстро добился уважения в беспокойном квартале. Один из современников Уайтхеда описал хаотичные виды и звуки на улицах вокруг церкви Св. Луки в тот период:
Проходя по Риджент-стрит, невозможно понять, насколько же небольшое расстояние по улицам и переулкам отделяет «неведомое малое от неведующего большого». Но если кто-либо рискнет пройти в неизведанную землю трущоб в Сохо через Бик-стрит или Берик-стрит, он многим поразится и заинтересуется, если, конечно, изучает жизнь лондонской бедноты. Ваш кэб вдруг остановит уличный торговец с тележкой и спросит, не едете ли вы к церкви Св. Луки, что на Берик-стрит; если вы ответите, что да, именно туда и направляетесь, то вам ответят вежливо, но с характерной для Сохо прямотой, что доедете вы туда к концу следующей недели, и вскоре вам придется признать, что в этом пророчестве есть немалая доля истины. Узкая улочка сплошь уставлена лотками и тележками торговцев. Продавец мяса для кошек, продавец рыбы, мясник, торговец фруктами, игрушками, старые тряпичники – все они толкаются и наперебой предлагают товары. «Лучшее мясо! мясо! мясо! купите! купите! Вот! вот! вот! телятина! телятина! свежая телятина сегодня! чего изволите? Продано, продано! рыба задаром! вишня свежая!» Ваша цель – церковь Св. Луки на Берик-стрит; вскоре вы увидите тусклый ряд окон, наполовину готических, наполовину – вполне обычных. Напротив закрытых на засов ворот стоит человек, потрошащий угрей; потом вы слышите крик и сразу понимаете, что несчастная тварь, не желающая покориться судьбе, вырвалась из его рук и пытается улизнуть в толпу.
В конце августа жарко и влажно, так что запахов Сохо избежать просто невозможно – они доносятся из выгребных ям и сточных канав, с фабрик и из печей. Отчасти запах вызывается еще и повсеместным присутствием рогатого скота. Гость из современного мира, перенесшийся в викторианский Лондон, не удивится, увидев на улицах города многочисленных лошадей (и, соответственно, их навоз), но что его определенно поразит, так это огромное количество сельскохозяйственных животных в густонаселенных районах вроде Голден-сквер. По городу бродят целые стада; на главном скотоводческом рынке в Смитфилде за два дня регулярно продают по 30 000 овец. Мясники из бойни на окраине Сохо, на Маршалл-стрит, в среднем убивают по пять быков и семь овец в день, кровь и грязь с туш стекает в сточные канавы. За неимением нормальных амбаров жители переоборудуют обычные жилые здания в «коровьи дома», запихивая в одну-единственную комнату до 25–30 коров. В некоторых случаях коров поднимали на чердак с помощью лебедки и держали там в темноте до тех пор, пока у них не заканчивалось молоко.
Преуспевающий мусорщик в день мог насобирать полное ведро собачьего помета, которое затем продавал в кожевенную мастерскую. Полное ведро стоило от восьми пенни до шиллинга в зависимости от качества продукта. Нечистые на руку собиратели отколупывали строительный раствор со стен домов и смешивали его с экскрементами для большего веса или лучшей консистенции.
Даже домашние питомцы, впрочем, могли заполонить все имеющееся пространство. Житель верхнего этажа по адресу Сильвер-стрит, 38, держал в одной комнате двадцать семь собак, а чудовищное, должно быть, количество собачьих экскрементов выкладывал сушиться под палящим летним солнцем на крыше дома. Работница-поденщица, жившая на той же улице, держала в однокомнатной квартире семнадцать собак, кошек и кроликов.
Не менее тесно жили и люди. Уайтхеду нравилось рассказывать историю о том, как он пришел в один густонаселенный дом и спросил бедную женщину, как ей удается жить в таких условиях. «Ну, сэр, – ответила она, – нам было достаточно нормально, пока не заявился джентльмен посередине». Потом она показала на обведенный мелом круг в центре комнаты, обозначавший место, отведенное этому «джентльмену».
Прогулка Генри Уайтхеда тем утром наверняка была извилистой и долгой, и он, скорее всего, встретил много знакомых: остановился у кофейни, облюбованной машинистами, побывал дома у прихожан, пообщался немного с обитателями работного дома Св. Иакова; там поселили пятьсот лондонских бедняков, и в обмен они должны были целыми днями тяжело работать6. Возможно, он даже заглянул на фабрику братьев Или, на которой трудились 150 работников, выпуская одно из самых важнейших военных изобретений столетия – капсюль, благодаря которому огнестрельное оружие могло работать в любую погоду. (Старые кремневые зарядные системы отсыревали даже при слабом дождике.) Несколько месяцев тому назад началась Крымская война, и бизнес братьев Или процветал.
Семьдесят работников пивоварни «Лев» на Брод-стрит занимались своими делами, попивая солодовый ликер, входивший в их оклады. Портной, живший над семьей Льюисов на Брод-стрит, 40, – он известен под именем мистер Г. – тоже работал как ни в чем не бывало, иногда ему помогала жена. По тротуарам ходили толпы лондонских уличных работников высшего разряда: лудильщики и изготовители, торговцы фруктами и уличные продавцы, предлагавшие буквально что угодно, от пышек и альманахов до табакерок и живых белок. Генри Уайтхед знал многих из них по имени, и его день, наверное, прошел бы как череда приятных, спокойных бесед на улице и в гостиных. Несомненно, главной темой для разговоров была жара: температура уже несколько дней подряд держалась выше 32 градусов, а с середины августа не выпало ни капли дождя. Скорее всего, упоминалась бы в разговорах и Крымская война, и назначение нового главы Комитета здравоохранения, которого звали Бенджамин Холл; он обещал продолжить кампанию по борьбе за санитарию, начатую его предшественником Эдвином Чедвиком, но при этом не выводить из себя столько людей. Горожане как раз дочитали резкую отповедь Диккенса в адрес промышленных «Кокстаунов» на севере страны, «Тяжелые времена», последняя глава которых вышла в журнале Household Words несколькими неделями ранее. И, конечно, нельзя было обойтись без подробностей личной жизни – раннего брака, потерянной работы, ожидания внука, – которые Уайтхед с готовностью обсуждал: он на самом деле хорошо знал своих прихожан. Но, как позже не без иронии вспоминал Уайтхед, ни в одном из разговоров, которые он вел в первые три дня той судьбоносной недели, не упоминалась холера.
Представьте вид на Брод-стрит тех времен с высоты птичьего полета, который показывают на ускоренной киносъемке. По большей части это будет обычная городская суматоха: «буйные и дерзкие, наглые и угрюмые, тщеславные, спесивые и злобные люди стремились… своим обычным шумным путем», как выразился Диккенс в конце «Крошки Доррит». Но и в этом турбулентном потоке начинают появляться определенные закономерности, словно водовороты в хаотично текущей речке. Улицы заполняются народом, на рассвете начинается эдакий викторианский эквивалент часа пик, который постепенно сходит на нет после заката; толпы людей заходят на дневные службы в церковь Св. Луки, вокруг самых популярных уличных торговцев собираются небольшие очереди. Перед домом 40 по Брод-стрит, буквально в нескольких метрах от страдающей малышки Льюисов, целый день собираются люди, каждый раз – разные, словно вихрь молекул, сливающихся в трубу.
Они приходят за водой.
Колонка на Брод-стрит уже давно пользовалась репутацией надежного источника чистой колодезной воды. Насос уходил на двадцать пять футов под поверхность улицы – проходил десять футов накопившегося мусора и обломков, из-за которых почти весь Лондон искусственно поднялся над уровнем моря, через слой гравия, простиравшийся до самого Гайд-парка, к песку и глине, насыщенным грунтовыми водами. Многие жители Сохо, жившие недалеко от других колонок – одна стояла на Руперт-стрит, другая – в Литтл-Мальборо, – предпочитали пройти несколько сотен метров, чтобы попить свежей воды с Брод-стрит. Она была холоднее, чем вода из других колонок, и на вкус казалась слегка газированной. Благодаря всему этому вода с Брод-стрит оказалась встроена в сложную паутину местных питьевых привычек. Кофейня вниз по улице заваривала на ней кофе; многие маленькие магазинчики в округе продавали лакомство, которое называли «шербетом»: смесь шипучего порошка и воды с Брод-стрит. Пабы на Голден-сквер разбавляли ею крепкие напитки.
Более 17 тысяч домов Лондона вообще не имели водопровода, полагаясь на загрязненные колодцы. В беднейших районах 70 тысяч домов снабжались водой из колонок – по одной на 20–30 зданий. Из них три раза в неделю по часу в день текла тонкой струйкой вода. Если житель пропускал очередь или вода кончалась, ему приходилось идти, надеясь на удачу, со своим ведром или кувшином к ближайшей колонке.
Даже переехав с Голден-сквер, люди не забывали о колодце на Брод-стрит. Сюзанна Или, муж которой построил капсюльную фабрику на Брод-стрит, овдовев, переехала в Хэмпстед. Но ее сыновья регулярно доставляли матери на телеге кувшин, полный воды с Брод-стрит. Кроме того, братья Или постоянно держали на фабрике два больших ведра с колодезной водой, чтобы работники могли попить во время трудового дня. Температура в те августовские дни достигала тридцати градусов в тени, ветра, который мог бы освежить воздух, тоже не было, так что прохладной колодезной воды тогда, должно быть, хотелось многим.
Мы знаем очень много о ежедневных питьевых привычках в районе Голден-сквер в те удушливые дни августа 1854 года. Братья Или отправили матери бутылку воды в понедельник, и позже она поделилась ею с племянницей, зашедшей в гости на неделе. Еще мы знаем, что молодой человек, навещавший отца-фармацевта, выпил стакан воды из колонки с пудингом в ресторане на Уордор-стрит. Нам известно, что армейский офицер ужинал у друга на Вардор-стрит и выпил стакан воды с Брод-стрит. Наконец, портной мистер Г. несколько раз посылал жену набрать кувшин воды из колонки, стоявшей прямо рядом с домом.
Кроме всего прочего, мы знаем и о тех счастливцах, которые по тем или иным причинам не пили из колонки на той неделе: рабочие пивоварни «Лев» вместе со своим солодовым ликером пили воду, которую им поставляла популярная компания «Нью-Ривер»; супружеская пара, которая обычно посылала к колонке десятилетнюю дочь, несколько дней сидела без свежей воды, потому что девочка простудилась и лежала в постели. Знаменитый орнитолог Джон Гульд, который очень любил воду из колонки, в субботу отказался выпить стаканчик, сказав, что вода отвратительно пахнет. Наконец, Томас Льюис, живший буквально в нескольких футах от колонки, никогда из нее не пил.
Есть что-то удивительное в том, что мелкие подробности совершенно обычной жизни в ту неделю вот уже полтора столетия являются достоянием истории. Когда сын фармацевта отправлял в рот ложку сладкого пудинга, он вряд ли представлял, что подробности его обеда будут интересовать хоть одного жителя викторианского Лондона, не говоря уж о людях из XXI века. Если большинство мировых исторических событий – великие военные сражения, политические революции – изначально осознаются всеми их участниками как исторические: они действуют, зная, что их решения попадут в летописи, а потом еще десятки или даже сотни лет будут обсуждаться. То эпидемии создают историю «снизу»: они могут изменить мир, но вот участники этих событий – практически всегда самые обычные люди, которые живут привычной для них жизнью и даже не задумываются, что о ней будет известно потомкам. Эпидемии вносят хаос в историю. И, конечно, люди, которых они затрагивают, если и понимают, что живут во времена исторического кризиса, то осознают это обычно слишком поздно, потому что в этот момент обычно уже находятся на смертном одре.
Тем не менее кое-что всегда скрывается от летописей, что-то куда более личное, чем истории о пудингах и солодовом ликере: мы не узнаем, каково это было – подхватить холеру в этом переполненном, страдающем городе, особенно в то время, когда о болезни еще ничего не знали. У нас есть на удивление подробные рассказы о передвижении десятков людей в эту злосчастную неделю в конце лета, есть графики и таблицы жизней и смертей. Но если мы захотим воссоздать эпидемию «изнутри» – описать физические и эмоциональные страдания, связанные с ней, – исторические записи нам не помогут. Придется воспользоваться своим воображением.
Где-то в среду портной мистер Г., живший по адресу Брод-стрит, 40, скорее всего, почувствовал странное беспокойство, сопровождавшееся расстройством желудка. Сами первоначальные симптомы совершенно неотличимы от легкого пищевого отравления. Но на эти физические ощущения накладывалось тяжелое дурное предчувствие. Представьте, что каждый раз, чувствуя небольшое расстройство желудка, вы осознаете, что в течение двух дней, вполне возможно, умрете. Не забывайте и о том, что рацион питания и санитарные условия того времени – отсутствие холодильников, загрязненная вода, излишнее употребление пива, крепких напитков и кофе – были идеальной средой и для других недугов пищеварительной системы, не только холеры. Представьте, что над вашей головой висит дамоклов меч, и любая боль в желудке или жидкий стул могут стать предвестником неизбежной гибели.
Горожанам, конечно, не впервой было жить в страхе, и Лондон не забывал ни о Великой чуме, ни о Великом пожаре. Но вот конкретно холера для лондонцев стала порождением Промышленной революции и глобализации поставок: до 1831 года на британской земле известных случаев холеры не было, хотя сама болезнь очень древняя.
В санскритских текстах, написанных около 500 года до н. э., описывается смертельная болезнь, которая убивает, вызывая обезвоживание. Гиппократ прописывал в качестве лекарства белые цветы чемерицы. Но почти две тысячи лет болезнь практически не выходила за пределы Индии и Юго-Восточной Азии. Жители Лондона впервые узнали о холере в 1781 году, когда началась эпидемия среди британских солдат, расквартированных в индийском Ганджаме; заболели более пятисот человек. Через два года в британских газетах появились сообщения об ужасной вспышке холеры, убившей более 20 000 паломников в Харидваре. В 1817 году холера, по выражению Times, «разлетелась… с невиданной злобою», поразив Турцию и Персию, Сингапур и Японию и добравшись даже до Америки; эпидемия стихла лишь в 1820 году. Саму Англию болезнь не затронула, и эксперты того времени, конечно же, выкатили целый парад расистских штампов о превосходстве британского образа жизни.
Но тогда холера лишь пристреливалась. В 1829 году болезнь начала распространяться по-настоящему: она пронеслась по Азии, России и даже Соединенным Штатам. Летом 1831 года вспышка холеры случилась на нескольких кораблях, пришвартованных на реке Медуэй, милях в тридцати от Лондона. Первый случай на самой британской земле был отмечен в октябре того же года в городке Сандерленд на северо-востоке Англии; первым англичанином, умершим от холеры на родине, стал Уильям Спроут. 8 февраля 1832 года от холеры скончался первый лондонец – Джон Джеймс. Эпидемия длилась до конца 1833 года, собрав «урожай» из более чем 20 000 жертв в Англии и Уэльсе. После первой вспышки болезнь периодически напоминала о себе каждые несколько лет, отправляя в могилу несколько сотен несчастных и затем снова прячась. Но долгосрочные тенденции настораживали. Эпидемия 1848–1849 годов убила более 50 000 англичан и валлийцев.






























