Текст книги "Меч и его Эсквайр"
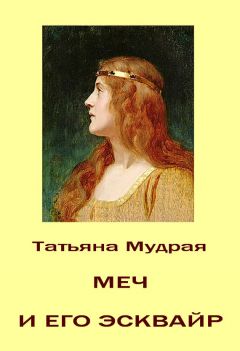
Автор книги: Татьяна Мудрая
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
– Право королей.
И уже тише. Это Эстрелья:
– Королевского медикуса. Лекарей. Носилки. Один пока не погиб, другой не так тяжело, но ранен. Добивать не позволю. Уносить с собой – тоже. Суд у нас в другом месте. Энгерран!
– Я здесь, высокая госпожа мейсти.
– Следи, чтобы всё здесь совершилось как должно. Эй, не теснитесь. Три больших шага назад – один, два, три! Пропустите… Пропустите.
Круг расширился, расцепился. Поднялась суета, но уже отыскавшая для себя границы.
Их кое-как перевязали. Унесли.
Морская волна отхлынула – как я понял из отрывочных реплик, у ба-нэсхин были где-то во вьюках натяжные пологи с циновками, и они собирались ждать развития событий тут же на месте. Королевское войско разошлось по приказу командиров: более охотно, чем эти приказы давались.
Я отправился вслед за Эстрельей и ее отчимом, ибо не знал, куда теперь себя девать.
Они и в самом деле вселились в мою прежнюю гостиницу всей малой семьей: как ни странно, так и суетилась под ногами всякая ребячья и кошачья мелочь, будто я снова был в Скондии. Меня не спросили ни о чем, просто сунули в одну руку миску с чем-то горячим, а в другую – ложку. А потом повалили на какое-то не совсем жесткое ложе – как был одетого и в сапогах.
Утром я от них же узнал новости.
Король Ортос не выжил – да мало кто в этом сомневался. А поскольку сходная помощь обоим поединщикам была оказана вовремя и по всем правилам, вина его в попытке захвата чужих земель, развязывании войны и казни противящихся тому военачальников (даже, оказывается, не одного) не вызывает никаких сомнений. Однако Моргэйну оттого нисколько не легче. Его рана более или менее легко поддается лечению, однако невелика в том радость, ибо потом…
Потом нашего принца ждет тот кошмар, что его отец, к чести последнего, практически вывел из употребления.
Квалифицированная казнь, предваряемая допросом третьей степени.
Знак XVII. Филипп Родаков. Рутения
– Ну ты и садюга, Торри, – произнес я с расстановкой.
– Разве? Эти милые цветочки распустились из твоих собственных бутонов, – хлестко парировал он. – Да ты и сам по себе тот еще божий одуванчик. Кто им всем такие характеры заделал? Кой у кого на чердаке сплошные тараканы, да не простые, а тропические. Как их – мадагаскарские. В ладонь величиной.
– Не на чердаке, а в подвале, – машинально ответил я. Иногда ляпаешь что попало, а попадаешь прямо в яблочко мишени. Как мой любимый дедуся Фрейд говорил.
– Вот именно. В недрах подсознания. Когда б вы знали, из какого сора… Фил, да ты не волнуйся. Всё по большому счету устаканится.
– Разольется по стаканам и выплеснется в глотку, а то и просто на пол….
– Ох, да не сыпь ты мне на раны свою аттическую соль! Одного моего короля загубил и другого норовишь угробить – под свои вечные посмехушечки…
– Ну, что до Ортоса…. Понимаешь, уж такой он человек был: совершенно не получалось «думать вдаль», как говорят в моем милом Вестфольде. Хорош, признаюсь, но заклеймен своей мифической артуровой кармой. Не так уж он детально прочувствовал, на что сына обрекает. Или мстил неосознанно? Хотел гибели воплощенного позора? Я и то не скажу. Знаю одно – что вот Моргэйна обучили мыслить как следует: быстро, широко и многовариантно. И он настолько в этом преуспел, что я, по правде говоря, тогда сомневался в его победе на поединке. Сильный и гибкий разум редко соседствует с таким же умным телом, знаешь ли.
– Успех, – я постарался скривить такую гримасу, что едва не схлопотал себе судороги по всей морде лица. – Это ты будущую казнь так называешь?
– Успех – это досконально, по этапам, запланированное достижение заветной цели, – нравоучительно добавил он. – Конец противостояния. Смерть Короля-Зимы, победа юного Короля и рождение Весенней Царицы. Воплощение мифа. Заметил, что за день они выбрали? Самый что ни на есть сакрально значимый. Крутой поворот календаря. Новый владыка побеждает старого: это куда более древний и лучший обычай, чем описанный в легендах о победе Рустама над Зухрабом, Ильи Муромца над Сокольником. Время не сто́ит поворачивать обратно, понимаешь.
– Ну, ты у нас второй Энгерран Мариньи… тьфу, Энгерран Осудитель будешь. Тошнотворный Рассудитель.
– Опять оговорочка по дедушке Зигмунду. Ну не идет у тебя из головы Монфокон с его фундаментальной виселицей! Кто-то уж точно на ней раскачиваться будет. Ладно, поехали дальше. Открывай, что ли, благословясь. Где штопор? Штопор где, спрашиваю?
Арман Шпинель де Лорм ал-Фрайби. Скондия
По королю объявили малый траур, почти незаметный из моего положения взаперти. Я еще недоумевал, отчего люди за гостиничным окном расхаживают во всем вороньем: черное с серым или почти сплошь черное с оборками-плерёзами у особо кокетливых дам. Оказывается, моего Ортоса уже на второй день отпели и похоронили, нарочито не соблюдая полного обряда. Гроб короля-преступника поместили, однако, в самом лучшем месте старого кладбища: между Олафом из Фалькенберга и Йоханом Тёмным. Ведь наш Орт заплатил за прегрешения с лихвой, не так ли?
И проникнувшись всем этим, я попросил у одной из женщин Акселя такую же одежду, как у него.
– Арми-баба, – улыбнулась эта пожилая красавица, – отчего вы всё: госпожа да госпожа? Не узнали меня разве?
Издихар. Конечно, Издихар! Бывает, что ты не умеешь сопоставить очевидное. Я же видел всех троих – отца, мать и дочку – семнадцать лет тому назад на королевском приеме. Тогда я еще предсказал Орту суровую плату за излечение от ожогов…. Какую – неужели вот эту самую? Бахиру, Моргэйна, бесславную смерть?
– Теперь я вас узнал, дорогая Розамунда.
– Представляете, сьёр Арман, – улыбнулась она печально, – тот мобилюс… Тот воздушный летун на шнурке, его свадебный подарок, еще висит под потолком одной из зал Вольного Дома. Не сносился почти – да и не с чего было. Ни детям, ни внукам играть не даю.
Я переоделся: чёрный камзол, короткие штаны с чулками, плащ. А потом мы с Розой Мира отправились на могилы вробуржских святых, чтобы помолиться за благополучный исход неких дел.
Склеп моей сестры меня впечатлил: весь мраморный и к тому же отделан мраморной крошкой. Могила Олафа была отлично расчищена, надписи обведены яркой бронзой. Королевский холм еще не успел осесть, поэтому, очевидно, его не украсили никакими знаками, кроме той охапки колючих веток, что принесла с собой наша Роза, а обвила нитью недорогих самоцветов Бельгарда.
Потому что принцесса уже молилась над свежей могилой – или вообще не переставала. Длинные бусы из черного с синей искрой лабрадора вперемежку с лунным камнем – так называют мягкий белый минерал со сходным голубоватым проблеском – обвивали тонкое запястье, как четки. При виде нас Бельгарда выпрямилась и протянула нам украшение.
– Они уже намолены. Так у нас принято, дедушка: приносить тем, кто спит, самоцветы двух противоположных цветов с одинаковым отблеском неба.
– Ты за одного короля молилась? – спросил я.
– Не только. Вернее, ни за кого. Пусть сам Господь решит, кому моя мольба нужнее всего, – негромко сказала она.
– Тогда, может быть, за то, чтобы все и для всех нас обошлось благополучно?
– Разве такое бывает? Все мы в руке Господней, только не надо просить Его ни о чем своем – лишь о том, чтобы всё в мире стало по слову Его. И все страхи отступят.
– Мне бы твою веру, девочка. Да пребудет с тобой Он и да заговорят с тобой все его святые сразу….
Сам я хотел услышать лишь двоих из них. Однако по дороге домой отчего-то размышлял лишь об Орте.
Почему он отказался от заместителя? Был по-своему великодушен, не желая ввязывать других в то, что счел семейной распрей? Зачем вообще принес свой Кларент на поле грядущего боя? Хотел – во исполнение древнего закона – вручить сыну после его победы? Или, напротив, желал не только умереть сам, но и потянуть за собой сына-первенца? Вряд ли он был настолько злопамятен, настолько дальновиден и так хорошо всё просчитал, как Моргэйн. Способен на добрые начинания – но не на благое продолжение сих начинаний.
А дома нас, оказывается, ждал суд. Вернее, предварительное расследование. Нет, все-таки скорее – предварительная репетиция судилища.
Оказалось, что в гостинице, как и в любом добропорядочном и благопристойном особняке, имеется обширный подвал. С толстыми стенами в мокрых потеках, здоровенным камином, который ничего толком не умеет согреть, залом и укромными каморами по всем его сторонам. Вот туда, в зал, мы и спустились.
Камин уже не горел, а едва тлел, посылая присутствующим последние отблески света, но щедро струя тепло своих углей. Близ него сидели двое: Энгерран, который весь с головой погрузился в огромное мягкое кресло, и вдовствующая королева. Три остальных моих феи расположились на стульях чуть подальше от огня и раздвинулись, уступая мне почетное место рядом с дочерью. На суровом лице Акселя играли уже скудные блики алого – он попирал собой широкую скамью с обильно наваленным на ней тряпьем, что стояла в некоем отдалении.
– Итак, собрались все, кого я звал, – начал старикан, откашлявшись для приличия: голосок у него был негромкий, однако весьма хорошо поставленный. – Дело в том, высокие господа, что подавляющее большинство из вас на грядущий вскорости суд не явится, кое – кого вызовут лишь в качестве свидетелей, но я обязан буду присутствовать безусловно и, так сказать, в трех ипостасях.
Никто не перебивал этого изящного плетения словес; что удивительно, никто не покушался и на то, чтобы влезть в наступившую паузу.
– Именно – как знаток древних законов и уложений, наблюдатель вьяве многочисленных судебных прецедентов и придворный историк.
Мы дружно помалкивали.
– Поэтому я хотел бы заранее понять, что вам известно по одному деликатному вопросу, косвенно касающемуся того дела, кое будет вскорости предложено к рассмотрению. Именно – по вопросу дальнейшего престолонаследия.
Снова пауза, которую мы держали усерднее, чем музыкант придворного оркестра – свой бесценный псалтерион.
– Слова покойного Ортоса, что в случае поражения он будто бы поступается королевскими правами своих потомков, не имеют законной силы и подтверждения, а тако же и простого смысла. Вдумайтесь сами: ведь именно его первый наследник как раз и восстал против него, тем самым погубив свое право на корню.
– Но не право своих потомков и других потомков отца, – тихо вмешалась в этот речевой поток королева.
– Да, по всей вероятности. Однако судейский триумвират будет пребывать в уверенности, что таковых нет. Во всяком случае, так обстоит дело у самого принца.
– Кажется, сьёр Энгерран, вы тянете нарочно, чтобы хоть кто-то из нас шевельнул мозгами и волей и вмешался, – проговорил Аксель со своего места.
– Именно, – старец кивнул. – Надеюсь, я достаточно вас раздражил? Итак, если отбросить новейшие обстоятельства, мы имеем налицо три фигуры. Самого принца Моргэйна. Законнейшего из законных.
– И, если уж не щадить никого – плод признанного кровосмешения, – глухо раздалось откуда-то позади Акселя. Я попытался вглядеться – тщетно.
– Разумеется, это безо всяких сомнений всплывет на суде. Кровосмешение, безусловно, – обстоятельство крайне прискорбное. Но поскольку намёк на него был брошен в запальчивости и не под присягой, это можно вынести за скобки. Вы согласны со мной, сьёр Арман?
Я слегка вздрогнул от неожиданности.
– Разумеется. Упомянутые слова были безосновательны и нисколько не рассчитаны на то, чтобы их понял кто-то помимо покойного владыки.
– Идём далее. По смерти основного наследника – принцесса Бельгарда.
– Я по закону не имею права царствовать без мужа или сына, – произнесла та своим нежным голоском. – Все знают, что я не хочу никакого мужчины и не способна родить. Это, наверное, сплетня, но мне не хочется ее опровергать.
– Так сказать, в ходе суровой телесной практики. Верно, малыш? – снова донеслось с темной скамьи.
– Да, спасибо, – она легко рассмеялась. – Ну что со мной поделаешь? Люблю я моего Фрейра-Солнышко и не променяю ни на какого короля. Ни живого, ни мертвого. И мама по сю пору его любит.
– Далее. По официальным данным, у короля Ортоса был признанный бастард. Дочь Мария Марион Эстрелья, урожденная дворянка, что ныне присутствует здесь наряду с прочими.
– Бастард не наследует и не собирается, – ответила Эстрелья своим звучным, музыкальным голосом.
– Погодите, благородные господа, – я встал, с силой внезапного прозрения поняв, ради чего они меня потревожили, – более того: сделали самой главной фигурой нынешнего разбирательства. – Брак между Ортосом, тогда еще лишь наследником престола, и девой Издихар был заключен в Скондии с соблюдением всех приличествующих случаю церемоний. Насчет развода я не так уверен и, в отличие от первого, не могу поклясться в его законности. Однако если троекратный талак и не был произнесен, то махр супруге был отдан с избытком.
– Уважаемый сьер Арман Шпинель, – этот законоед круто повернулся ко мне. – Если уважать любое каноническое брачное право, то скондийский брак ценится наравне с франзонским и любым иным и рождённое в нем дитя – также?
– Да, естественно.
– Но – опять-таки, если уравнять перед лицом государства оба вида союзов, – допустим, что развод не состоялся, или в процедуре были допущены неточности, или сам факт развода не подтвержден достоверными свидетельствами….
Он нарочито медлил и тянул из меня жилы.
– Тогда нохри сделали из короля двоежёнца и из его сына – отродье всяческого беззакония, – донеслось из-за крепкой Акселевой спины.
– Погодите, – приподнялась с места сама Розамунда-Издихар. – Это я что, теперь двоемужница оказываюсь?
– Разумеется. Только не теперь, а как раз наоборот. Лишь до теперешних… вернее, недавних и прискорбнейших событий, – кивнул крошка Энгерран. – Но, насколько я понимаю, сие для просвещенной Скондии отнюдь не зазорно, напротив. Тем более что гибель короля окончательно утвердила вас в последующем браке. Безусловно, куда более счастливом.
– Ну ясен пень с колодой, – отозвался Аксель с добродушной иронией. – Куда уж королю до меня, а его сынку – до наших парней и дочек. Особенно старшей. Верно, Розочка?
– Я счастлив, что вы оба со мной согласны, – сухо заключил Энгерран.
Он приподнялся – кресло с явной неохотой выпустило его из своей мягкой складки – и произнес с особой торжественностью:
– Итак, можно признать и при большой нужде с легкостью удостовериться в том, что права мейсти Марии Марион Эстрельи на престол не менее обоснованны, чем права монсьёра её племянника. Так что в ходе будущего разбирательства вопрос о его сугубой незаменимости для отчизны отпадает. Хотя, с другой стороны, для полного утверждения мейсти Марии-Марион в правах и прерогативах будет необходимо, чтобы она достойно вышла замуж и родила царственное дитя. Ибо негоже царским лилиям прясть и ткать….
– И мечом махать, – ответила она своим чу́дным голосом. – Или зубодёрными клещами.
– Не сердитесь, тетушка, – еще глуше, чем прежде, прозвучало из темноты. – Энгерран, и как вас хватает – удерживать в голове все это словоблудие, а в лёгких – воздух? Я вот через каждые два слова… задыхаться начинаю. И путаться в мыслях.
Дьявол, сатана и все святые…
Моргэйн.
Бледный, туго перебинтованный по плечам и поперёк всей груди – и насмешливый.
– Внук, – сам не знаю, как я очутился у той лавки.
– Дед, ты как, целый? Эстрелья говорит, что такого бойкого старикана ей… в жизни не приходилось каргэ-до обучать, – ответил он. – И, можно сказать, понапрасну. Так и не пришлось тебя в бега посылать.
– Плевать на меня. Моргэйн, ты что сам-то с собой сотворил?
– Бабо Арм, нужно было остановить отца, а кроме меня никто бы не сумел и не взялся, – ответил он куда тише прежнего. – А если ты про оплату счетов главного вертдомского трактира говоришь – то все мы платим не обинуясь, а я чем лучше прочих? Тетя Эстре считает, что сердце не задето, но главная приточная жила хорошо попорчена. Достаточно поднапрячься…
– Утешил.
– Уж как смог, бабо Арм.
– Ты что, здесь внизу обретаешься? В камере?
– Ну, не думай, что всё так уж хило. Там трубы такие под потолком, что весь дом водой греют. Почти тепло и почти сухо. Жары я долго не выдерживаю, знаешь. И Фалассо каждый день бегает с перевязками и новостями. Кормят прилично – у меня к этому немалая склонность появилась. Сам на себя удивляюсь.
– А суд?
«Ты что, надеешься не дожить – или думаешь, что такого допрашивать побоятся?» – хотел я передать ему своим взглядом.
Ибо по здешним варварским обычаям нет признания обвиняемого, если оно не подтверждено пыткой. И нет пощады тому, кто покусился на обе главных святыни здешнего патриархального мира.
– Бабо, все вещи на земле уже начертаны несмываемой краской – на лбу, на сердце, на книжных страницах, – ответил он.
Тут Аксель приподнял переднюю часть скамьи, Фалассо – заднюю, и его от меня унесли.
Знак XVIII. Филипп Родаков. Рутения
– Ты куда, стервец, уклонился? – спросил я с пристрастием в голосе. – Я же думал короля всех времен иллюстрировать, а тут сплошной женский пол вырисовывается. Даже две женщины. Нет, собственно говоря, вообще четыре. А то и все пять, коль амфибию считать. Или, наоборот, вместо нее девственницу.
– Матрилинейность как веяние века, – ответил Тор. – Что я могу с ними со всеми поделать? Ведь и плащ мой старший тезка не кому иному, а девчонке подарил. И еще один сувенир, вспомни-ка хорошенько. Нужно это хоть как-то отыграть? Нужно.
Он отхлебнул длинный глоток терпкого вина из горлышка оплетенной бутыли и перевернул перед моими глазами еще одну страницу.
Арман Шпинель де Лорм ал-Фрайби. Скондия
Сам не знаю, отчего я остался среди них. Не из-за Моргэйна – тогда бы я хоть попробовал снять в этих же стенах другой номер, естественно, не очень большой. Деньги на это мне уже соглашалась дать скондийская община, которая, как водится, тихо процвела и здесь. Не из-за Эстрельи, хотя странная, болезненная симпатия влекла меня к ней со всё большей силой.
Вовсе нет. Дело было в том, что, наконец, через декаду или две, когда уже на всех деревьях и кустах налились почки, к нам одвуконь прискакал покровитель всего обширного палаческого семейства. Нет, никаких лошадей и в помине не было – я имею в виду, что они на сей раз бесповоротно соединились. Одно сердце в двух нетленных и непробиваемых телах. Торригаль и Стелла. Торстенгаль ночью, и то не всякой, – добрые любящие супруги днем.
Они и принесли мне весть о том, что суд над отцеубийцей уже состоялся. Был он, по обычаю, строго тайным, присутствия обвиняемого не требовалось, хотя показания с него сняли – неким вполне загадочным образом. Торригаль утешил нас (кроме Эстрельи с ее подручной ба-инхсан, которые дружно отсутствовали) тем, что третья степень допроса – вовсе не то, что мы все подумали. Она заключается в том, что палач остаётся с допрашиваемым наедине, без секретаря, протоколиста, подручных, словом – любых свидетелей. Всё отдаётся на усмотрение исполнителя. И уж его личное дело, как он добьётся искомого признания. Возможно, простым увещанием на фоне специфических инструментов.
– Признания – в чем? Разве дело не происходило на глазах тысяч свидетелей?
– Верхушка гигантской ледовой горы, какие плавают на севере. Помнишь, Арман? Когда тебя взяли на один из твоих изыскательских кораблей. Вот это они могли в самом деле лицезреть.
– А что судьи изыскивают в глубине?
– Разное. Не было ли сообщников. Наущателей всяких. Не берёт ли обвиняемый на себя чужой вины. Честен ли сам перед собой в своих устремлениях.
– И это всё?
– Не знаю, Арм. Меня не посвящали.
– А к чему его приговорили, знаешь?
– Арман, судьи рассудили разумно. Зачем применять к парню сугубый профессионализм, если он и первого действия не выдержит? Тем более палач явно возьмет на душу грех непослушания. Так что решено было смягчить приговор и свести дело к незатейливому усекновению головы.
Я молчал.
– Арман, ты хоть понимаешь, что мальчик сам себе этого не простит? Убийства отца во имя высокой цели? Цель лишь тогда оправдывает средства, когда и если ты берёшь на себя ответственность за то, что их применил. Оплачиваешь протори по высшей ставке.
– Есть ли смысл платить смертью за смерть?
– Не философствуй, тут началась уже типичная конкретика.
– Ты про что?
Но Торригаль снова отмолчался, как тогда, когда я расспрашивал его о допросе. Нет, он не то чтобы лицемерил, просто не желал допускать нас в некие свои или чужие интимности. Я понял это сразу, однако не сказал Торригалю, потому что он раз за разом отучал меня от безоговорочного доверия к своей персоне.
Потому-то и вышел от себя, когда наступила темнота, и с одной свечой отправился в ту комнату, где наши инфернальные супруги проводили ночь на вполне человеческом с виду ложе. Опустил подсвечник на пол и коснулся обнаженной рукой уст женской головы, что была врезана в перекрестье клинка.
И сразу мир передо мной закружился с бешеной скоростью…. Пропал и сложился вновь, как мозаика внутри новомодного калейдоскопа.
Темнота. И двое в темноте. Тесный и тёплый мирок вокруг них мерцает красноватыми бликами, но им всё равно, что его луна – наполовину затухший пыточный горн, его звезды – мерцание углей и огненные отражения в странного вида предметах, что аккуратно развешаны по стенам. Так аккуратно, что у стороннего зрителя возникает сомнение: использовались ли для настоящего дела эти клейма на длинной ручке, ножи, пилы, щипцы и – самое заметное – гротескные маски из тонкого серебра и лакированной кожи, что протянулись по всем стенам чередой немых свидетелей.
Мужчина почти неподвижно возлежит посреди этого ужасающего великолепия на широкой скамье, застланной мягким узорочьем: в изголовье меха, под спиной истрепанные пышные ткани, поверх всего тела – покрышка из атласной мантии старинного кроя. Женщина, в простой серой рубахе и длинной черной тунике, сидит рядом, вложив руки в углубление меж коленей. Кисти рук крупные, изящной лепки, на запястье слегка выпирает косточка. Оба собеседника спокойны и невозмутимы, только изредка в интонациях проскальзывает грусть и некая ироничность.
– Как ты существовала это время – в таком двоемирье и междумирье?
– Как, спрашиваешь? Глупый, мой мир един. В нм постоянно приходится лавировать между жизнью и смертью. Решать, кого оставить жить – родящую мать или ее ребенка. Если я начну спасать обоих – оба и погибнут. Уговаривать родичей явного смертника на рискованную операцию. Делать её – или пускай он доживет остаток своих дней в боли и страхе. Снимать боль или оставить – когда и она, и наркотик в равной мере хотят убить или поработить человека. Что перед этим любая казнь виновного и даже его плотские терзания? Пыток врачевания никто не отменял и не отменит. А те мои пациенты ведь невинны в глазах если не Бога, то людей. Как говорит мой Аксель, меч, топор и вервие лечат от всех хворей куда надежней медицины.
– Затейливая мысль, хоть и не шибко новая. Но вот знаешь, мне, который прошел через суровую воинскую школу, только раз пришлось убить самому. Я же военачальником был. Вернее, Водителем Людей.
– Ты в этом уверен? В счёте, имею в виду.
Молчание. Рука женщины гладит лицо молодого человека, как бы стирая резкость последней реплики.
– Что за право ты выкликала?
– О, ты, значит, слышал. Нет ни у кого права на королевскую кровь, кроме самой королевской крови. Они все это поняли, потому что знают обо мне.
– И потому отдали тебе нынче мою голову.
– Есть и другой обычай, не менее старый. Что обиженный сам творит правосудие над обидчиком.
– Как?
– Тебе для чего надо – нервные жилки пощекотать? Энгерран же намекал. Сначала, в камере, – «стреноженный жеребенок». Потом, на помосте, – удавка не до смерти, растягивание между кольями, отсечение конечностей и в виде последней милости – лишение головы, если переживёшь остальное. Это и показывать стыдно. Так что ничего похожего не состоится, не беспокойся.
– Я и на такое шел.
– Знаю.
– Но ты-то как можешь хотя бы это проговаривать, ты ведь женщина.
– Нет. Однако в твоих силах сделать меня ею.
Юноша вначале не понимает. Потом до него, наконец, кое-что доходит, и он заливисто смеется.
– Круто забираешь, тетушка Эстре.
– Тоже мне – тётка. Тебе сколько – семнадцать? А мне еще тридцати пяти не исполнилось.
– Тебе меня, видать, ради плотской потехи выдали.
– Не мели попусту. Я того, что идет сверх должного, с тебя не возьму. Это ведь как милостынь воровать у нищего. Знаешь, что у тебя осталось еще одно право? Мужское: продолжить род и оставить на земле твое семя. Ты ведь ни одного ребенка не зачал. Ни с веселыми франзонскими девушками, ни с вестфольдскими гордячками, ни с женщинами ба-нэсхин, ни, как ни странно, с их мужами. Оттого, может, и на край решительной битвы их поставил?
– Боюсь, я и этого не смогу, – Моргэйн смеется, приподнявшись на локте, и в смехе этом слышится явная горечь.
Тем временем Эстрелья раздевается. Прочь тунику, прочь рубаху, плотно заколотый узел на макушке развивается, и длинная прядь волос спускается до подколенок. Вся она покрыта ровной смуглотой и откована из лучшей бронзы, точно колокол: плечи, предплечья, талия, бедра, ягодицы, даже груди стоят как литые.
Поворачивается к юноше и подносит ему чашу, над которой курится легкий пар.
– Любисток? – он покачивает головой, но напиток берет и принюхивается к его содержимому.
– В основном корешок валерианы.
– Уже восчувствовал. Кот я тебе, что ли?
– Пей. Ложись так, чтобы сердце в тебе не ворохнулось. На правый бок, что ли. И предоставь остальное мне. Скамья широка, застелена мягко. А я – я, может быть, дам тебе не только обещанное, но и то, что не под силу твоим водяным и водяницам.
Темнота. Плодоносная тьма. Тьма тысячи возможностей и десяти тысяч рождений. Страх, страдание, страсть и радость, которой не предвидится конца, – но он все-таки приходит.
– Что, и помилования никакого не будет?
– А ты его просил? Никто не может отменить смертный приговор, если его вынесла сама природа. Как тебе.
…Наверное, я сколько-то лежал в забытьи рядом со Стелламарис, по-прежнему прижав ладонь к ее устам. Однако придя в себя и увидев, что теперь я говорю уже с Торригалем, ибо живой клинок чудом перевернулся на другую сторону.
… С той поры прошло время. Принято ведь дожидаться, пока пациент не окрепнет настолько, что сам сможет взойти на потребную высоту. Моргэйн шагает неторопливо и опираясь на трость с широким загнутым набалдашником, но вполне уверенной поступью. Народу на площади – и на круговых скамьях, и между ними – набито битком, страже из ба-нэсхин, что стоит двойной цепью на всем протяжении пути, остается только оттеснять толпу, чтобы не повредила узнику. На эшафоте – Энгерран, Аксель, Эстрелья в дамской тунике поверх шаровар, священник, двое Акселевых подростков. Один из них подходит и наклоняется, чтобы помочь Мору забраться на довольно крутую лесенку, но тот вежливо отводит его руку в сторону.
– Я сам, мальчик.
Бросает трость на доски и становится лицом к лицу с палачом.
Энгерран зачитывает приговор во второй раз – не в полный голос, это делается для чистой проформы. Затем Аксель снимает цепи – тонкие, легкие, такой же пустой знак. Священник говорит:
– Принц Моргэйн, ты нуждаешься во мне?
– Я только что исповедался и причастился, отче. Но спасибо тебе – ты и твое присутствие меня поддержат.
И уже готовится подойти к высокой – напоказ – плахе и стать рядом, когда Эстрелья делает к нему шаг, поднимает на уровень груди освобожденную от оков руку и громко, веско возвещает:
– Мое право и право моей крови. Прямо здесь я беру этого мужчину в мужья. Отец Арнульфус, совершите над нами это сокровенное таинство, ибо в подобных случаях свадебный союз полагается заключать здесь и сейчас.
Моргэйн отстраняется – почти в ужасе; но тотчас снова выказывает смирение. На плечи невесте и жениху накидывают старую двуличневую мантию – золотым и алым наружу. Их руки соединяет тонкая золотая цепь с наручниками. Обе вещи – Хельмутово наследство, думаю я. И начинается венчание.
Бормотание, вопросы и ответы длятся недолго. Наконец, мантия уходит с плеч, золото – с правого запястья жениха, левого запястья невесты.
– Объявляю вас мужем и женой, – с торжеством говорит священник.
Я знаю, что палач имеет право взять себе пару из тех, кто приговорен, сердце мое, то и дело замиравшее, когда над обоими читали священные слова, взмывает кверху – и тот же час рухает вниз.
– Такое бракосочетание действенно в любом случае, кроме этого, – по-прежнему негромко и звучно говорит Энгерран Осудитель. Он ведь нынче главный законник. – Оно снимает один смертный приговор, но ведь цареубийца и отцеубийца платит многажды. Снисхождение и без того уже было дано.
– Эсти, извини меня, – бормочет Моргэйн. – Я думал, ты понимаешь.
– Я понимала – хотя и надеялась на иное. Прости, – она прижимается щекой к его здоровому правому плечу. – Снова мои пустые интересы.
– Однако, – неумолимо продолжает Энгерран, – муж и жена имеют право уединиться прямо здесь, на высоком помосте, в подобии скинии, или палатки, или иного укрытия, дабы осуществить и запечатлеть свой союз.
Очевидно, такой исход предвидели, ибо на одном из углов помоста поднимают и водружают стоймя высокую шестигранную ширму. Эстрелья уговаривает мужа, тот противится – недолго. Заводит его внутрь.
Выходят они как-то, по мне, слишком быстро.
– А теперь иди, дочка, – Аксель берёт ее за плечо, подталкивает в направлении спуска. – Что дальше – не твоя забота.
– Лишь королевская кровь… – начинает она.
– Она в тебе, не спорю, – чётко отвечает Аксель. – Именно поэтому. Да и во мне, похоже, что-то этакое имеется. Все вестфольдцы – королевского рода, оттого и драчливые такие. И шибко упрямые.
– Эсти, ты подумай, – Моргэйн берет ее в охапку, чуть морщится от боли в левом плече. – Твой батюшка от меня два дня жизни только и возьмет. Ну, неделю. Ну, полмесяца от силы. И долгую предсмертную агонию в придачу. А сработает ещё и получше тебя. Давай уходи – и береги себя как следует, слышишь?
… Это не Торстенгаль в руках Акселя. И не Кьяртан. Просто оба имени звучат в свисте прямого клинка – вместе с резким ударом морского прибоя о каменистый берег.
…Когда я прихожу в себя, уже утро, и трезвый, бодрый, одинокий Торригаль стоит рядом со своим ложем, на которое впопыхах бросили меня, отпетого старого дурня.
– Тор, ты это сам видел? Ну, обручение, свадьбу… казнь. Или то снова было предвидение?
– Стелламарис. Я. Куда ты на хрен залез? Какое предвидение, Арман?
– Неважно. Он уже умер? Его нет там, внизу?
– Конечно. В любом случае с такой раной, которая только снаружи заросла, а внутри гнилая пленка…. Даже в Рутене, может быть, не прожил дольше.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































