Текст книги "Меч и его Эсквайр"
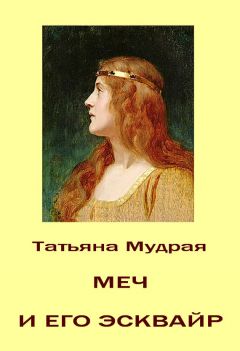
Автор книги: Татьяна Мудрая
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Знак XI. Филипп Родаков. Рутения
Наша кровь – родня воде морской,
это от ученых нам известно,
может, потому такой тоской
мучаемся мы, когда нам пресно?
Б. Губерман. Сибирский дневник
– Как видно, твой Арман окончательно потерял контроль за ситуацией. Что называется, вышибло из игры нашего недавнего владетеля.
– Не стал бы утверждать так категорично, – ответил Торригаль, хмуро посасывая дольку картофеля по-деревенски. – Он куда умнее, чем прибедняется. И активнее, в чем ты еще поимеешь честь убедиться. Просто ответственности за изложенное брать не хочет и скрывается за разными масками. Это же он собирал… даже, можно сказать, инициировал… Ну, не то словцо в контексте Моргэйновых сексуальных испытаний. Видать, Арманчик наш Шпинель, по монастырскому школьному прозвищу «Шпилька», еще в молодости побуждал к написанию нужных себе текстов всяких там относительно кротких нянек и старинных монашков. То и посейчас творит с переменным успехом. А мы с тобой неплохо продвинулись, однако. Давай листай дальше!
– Тьфу, – отозвался я. – Не понимаю: в самой середке орнамента типа ислами – кельтский крест с колесом, вписанный в четырехугольник. И змеи кругом… Погоди, скорее драконы.
– Водные, – комментировал Хельмут, глянув через мое плечо. – Морские. Или змеехвостые русалки – с их русалами, что ли? Не разберу отличий. О, ну разумеется. Морской Народ. Ба-Нэсхин. Ты чего, решил потревожить прах «Левой руки тьмы»? Или, вернее, «Врага Моего»?
– Не знаю даже. Герои святой Урсулы как бы непроизвольно мерцают, а мои статичны. Моложе видом. Вечные подростки, которые способны на всё то, что могут взрослые, но лишь в моменты тяжких душевных и физических потрясений. Прекрасные аксолотли на фоне рыхлых, недозрелых амблистом, которыми являемся мы сами.
– И ведь точно. Я даже помню того человека, что осведомлялся, не чапековских саламандр ли ты поимел в виду, когда задумал Морских Людей. И другого – который с тобой на «Ихтиандра» пять раз подряд в киношку ходил. На «Человека-Амфибию», в общем. Какой главгер красавец был! И девушка Гуттиэре! А другой протагонист, этот… Гарсия! Или антагонист? Повлияло ведь на подсознание, чего доброго.
– Хороша у тебя память, мой милый, и семьсот лет ее не сносили. Ты что, уже в те времена был со мной шапочно знаком?
– Да нет, только читывал изредка по диагонали. Александра Беляева и твои полудетские шалости… Что, покраснел? А ведь весь ты оттуда. Как и Хельмут с его умением делать детишек только в экстремальных условиях. Находясь, так сказать, между молотом и наковальней. И его Марджан. И потомки ихние. Небось, в обоих какие-то заплутавшие морские гены гуляли?
– Ты о чем?
– Жизнь Детей Моря от самого их рождения была полна рискованных ситуаций, которые ты им обеспечил. И зачатие также требовало от них напряжения всех жизненных сил – хотя бы ради того, чтоб привычка к ратному труду не исчезла. Не так, как у остальных: наподобие сначала мягкого пускового крючка, а потом часового механизма биологической бомбы. Да ладно, давай смотреть!
Арман Шпинель де Лорм ал-Фрайби. Скондия
Юное тело порождает дерзкие мысли, старая плоть навевает тяжкие раздумья. Слишком много поколений, слишком много зарубок на трости времени. Оттого, возможно, я и начал тогда читать эти ссохшиеся, покореженные страницы, писанные человеком, умершим еще до моего рождения, а сейчас, когда понадобилось изложить их, продолжил.
Моргэйн во время самого длительного из своих отпусков привез эту рукопись из своей крепости, чтобы дать лучшим нашим мастерам – и мне самому – переписать хотя бы в нескольких экземплярах и, очевидно, с тайной мыслью, что я заинтересуюсь ею сам.
«Смиренный клирик Господа нашего, брат Джунипер Ассизец, обитающий ныне в месте, именуемом Скон-Дархан, пишет сие в воспоминание первых лет пребывания своего на острове святого Колумбануса.
Ибо среди монахов нашего ордена, как франзонских и готских, так и скондийских, постоянно происходят споры о том, являются ли коренные жители моего любимого острова людьми. Можно ли причислить их, как нас, людей, к тем, кто обладает бессмертной душой – несмотря на то, что святой окрестил их, возникают некие сомнения, не поступил ли он, как отшельник, описанный рутенцем по имени Анатолий Франс, что ничтоже сумняшеся окрестил нелетающих морских птиц. И не следует ли счесть ба-нэсхин неведомыми, незнакомыми нам и даже дьявольскими созданиями – ведь хотя они способны плодить отпрысков меж собой и на пару с человеком, сии отпрыски не обычные создания и способны нести свою чужеродность и далее. Более того, в отличие от мулов и лошаков, плодородие этих помесей не теряется, напротив – куда как превышает обыкновенное для Морского Народа. Ибо для последнего каждое зачатое и рожденное дитя равно чуду. Чудо еще большее – что ба-нэсхин несмотря ни на что не вырождаются и не проявляют к тому никакой расположенности.
Но к делу. Я познакомился с Сынами Моря (или, скорее, его Дочерьми), когда прибыл с первой партией паломников. Все жители, видимо, были на рыбной ловле, остались только двое (или, вернее сказать, две): хотя теперь я полагаю, что прочие просто затаились в глубине островка, не зная, чего от нас ждать. Мы немало дивились их виду, однако не склонны были принять их за неразумных, потому что эта пара явно обихаживала гробницу и немного знала церковную латынь. Сооружение над могилой имело, по правде говоря, удивительный вид: трехгранная пирамида из пла́вника со вкраплениями огромных раковин вдоль всех ребер. Наверху было водружено распятие, однако в сердцевине его красовалась огромная морская звезда почти рубинового оттенка. Здешней латынью я также был донельзя обескуражен – десяток-другой имен, в основном древних святых; и даже их местные жители ухитрялись уснащать свистами и щелканьем. Также я принял обоих аборигенов за детей и оттого возмутился еще более, когда пилигримы, едва успев перекинуться с ними несколькими знаками для глухонемых, стали приставать к женщине – вернее, той из двух, что казалась постарше и оттого имела чуть более округлые формы. На сей раз мне вняли, тем более что сама несостоявшаяся жертва весьма ловко увернулась от рук и стала в форменную боевую стойку. Как я сейчас понимаю, у насильников и так и этак ничего б не вышло: женщины закрылись бы, как те раковины, что ущемляют руку жемчужного ловца и навеки оставляют его на дне морском.
Почему я сразу употребил тут слово „женщины“? Из-за первого впечатления от не по-мальчишечьи гибких тел, гладких подбородков, слегка припухших сосков. Но, может быть, потому, что любая или любой из них может понести плод так же легко (или нелегко), как все прочие, и настоящих мужей среди них как бы нет.
Итак, мои готские подопечные пробыли на островке два дня и отбыли. По словам кормчего, надвигался шторм, а я понимал к тому же, что буря загонит хозяев назад в родную бухту, и не хотел встречи.
И вот я сделал непонятное пока самому себе. Препоручил тела паломников кормчему, души – моему диакону, а сам – сам остался на острове в одиночку. Нет, как оказалось, – среди многочисленного народа.
Ибо не праздное любопытство овладело мною, как я понимаю теперь, и не более простительное желание узнать то, что до сих пор пребывало в сокрытии, но не до конца оформившееся пока стремление защитить хрупкость и редкость новонайденных созданий.
Итак, до следующего прибытия людей я жил и смотрел. Мне без слов выделили место под неким рукотворным подобием глубинного моллюска, в каковой распяленной ребрами коже я спал в одиночку.
Через месяц снова повторилось почти прежнее: при первых сигналах впередсмотрящих ба-нэсхин отбыли на плотах, частью – переселились в глубь островка, и на сей раз я наблюдал из отдаления, а не стал ждать высадки пилигримов на месте.
Как оказалось, поступил я так не напрасно. С ними были вооруженные люди, что мне не понравилось, и мои братья по ордену, которые стоили того, чтобы поговорить с ними поздно ввечеру – и тайно. Когда всё кончилось и пришельцы отбыли восвояси, я получил в свое распоряжение троих ученых монахов-ассизцев, о которых знал только хорошее.
Так повторялось не однажды, и под конец мы составили целый отряд.
Да, это мы изучали здешний народ, вели ученые дневники и календарные записи. Это мы составили словари и сочинили краткие литургические тексты на языке наших питомцев.
И это мы тайно и по обоюдному желанию сводили и венчали франзонских, вестфольдских и готских мужей с нашими новокрещенками. Пусть кое-кто счел бы это грехом – и даже смертным, – но мы оказались правы. Ибо как среди самих Детей Моря, так и среди смешанного потомства не встретишь ни одного с теми из жутких недугов, что способны передаваться с кровью и семенем и метить, за грехи их родителей, всех потомков до седьмого колена. Кроме того, полукровки все как один весьма хороши собой, немного светлее кожей и волосом, выше ростом и плотнее телом, чем Дети Моря, а их собственные дети появляются на свет во всех смыслах быстро и легко. Хотя изредка рождаются равнополые, а также мулы и мулицы – но это встречается и у обыкновенных людей.
Какие еще таланты родичей перепали людям со смешанной кровью – я не могу полностью судить. Наши отцы расходятся во мнениях, хотя согласны в одном: таланты сии чаще всего находятся в состоянии латентном, то есть скрытом или, как еще говорят, батин – и могут быть извлечены исключительно путем многих верно направленных браков.
Оттого я убеждаюсь все более, что отцу Колумбану – благодаря неизреченной милости Господней – удалось или сотворить (это вряд ли), или спасти вечную душу каждого из своей паствы и что самый страшный грех он с них всех смыл. Я впадаю в кощунство, но как еще объяснишь дивную крепость их плоти и относительно малое число телесных страданий, кои они претерпевают в своей ближней жизни?
Итак, мы охраняли гробницу в перерывах между нашествиями, исполняли пастырский долг – и продолжали вести свои наблюдения над диморфами, как обозначил их ученый брат Плантагенист. Несколько позже некоторые из нас пришли к выводу, что любимый народ наш всё-таки делится на мужчин и женщин, однако это проявляется поздно и не слишком бросается в глаза – тем более, что никто из них не обрастает волосом помимо того, что пребывает на голове. Можно было бы сказать, что практически до периода взрослости, то есть времени, когда становится возможным зачатие, они носят ангельский чин, если бы это – снова! – не казалось сугубым кощунством. При этом зачинать и оплодотворять – примерно с четырнадцати-пятнадцати лет – могут и те и эти, дело лишь в степени вероятности. Во времена потрясений и катастроф число рождений увеличивается именно за счет мужчин, которые сравнительно легко переходят и к кормлению грудью. Вынашивание младенца и роды по видимости тяжело проходят у обоих полов, по причине малого размера утробы, однако их последствия сравнительно легко преодолимы: смерти родильниц и новорожденных наблюдаются куда реже, чем во Франзонии, Готии и даже в Скондии. Я так думаю, что именно из-за невеликого роста Дети Моря и носят плод не полные девять месяцев, а всего лишь восемь – хотя это считается не с момента зачатия, а с мига, когда плод причалит к своей пристани. Ибо оплодотворенное семя плавает в детородном мешке, не прикрепляясь к его стенке, пока не наступят сытные и покойные времена. Кроме того, будущие матери во время беременности пребывают почти постоянно, да и рожают в родной для них соленой стихии, подражая в том их любимым морским тварям, и это немало им помогает.
Плодоносные частицы по виду совершенно одинаковы у тех и других: размером ближе к женским, количеством – скорее к мужским. Мы рассматривали их через сильнейшие скондийские стекла, оттого и говорим с большой долей уверенности. Что касается тайных членов, то приличие и данные мною обеты мешают мне описать сие с надлежащим тщанием и подробностью; хотя научные устремления, подобные тем, за которые был изгнан и скитался святой Колумбан, в целом уже превозмогли и мой стыд, и мое смятение. Куда уж дальше, подумаете вы!
У них нет семей в нашем понимании – не оттого, что нет ни мужей, ни жен, но просто потому, что дети составляют самую великую ценность Детей Моря и являются достоянием всей огромной морской семьи, включая сюда и Помощников. Я не ведаю также, считают ли ба-нэсхин – и можно ли у них считать – кровосмешением рождение ребенка от двух сестер или даже двух братьев, как случается после военных стычек или особенно разрушительного шторма, ибо все они считают себя одинаково братьями и сестрами, и только матери становятся им безусловно известны.
Добавляю еще. Некоторые наши братья предполагают также, что святой и не уничтожал греха людского рождения, но просто причислил, как бы приписал нелюдей, прямых обезьян к роду человеческому, но это претит мне куда больше иного, ибо унижает сии дивные творения Господа нашего. Здесь я пользуюсь случаем, чтобы воспротестовать против этого еще раз. Также не стоит апеллировать к чуду, если возможно объяснить дело обыденными причинами. Ведь чудо – вещь то ли редкая, то ли не дающая нам себя понять.
И еще. Как многие люди, которые всю жизнь проводят у моря, его Дети – превосходные ныряльщики. Они могут задерживать свое дыхание на неопределенно долгое время, иногда без видимого вреда для себя набирая соленую воду в легкие и тем самым утяжеляя свою плоть. Выйдя на берег с добычей, они почти так же легко от воды избавляются. „Пьют море“ для утоления жажды эти люди с той же пользой для себя, что и пресную воду. Я так думаю, внутри у них есть некий малый орган типа железы или второй печени, который фильтрует, извлекает или расщепляет горькую соль, но мы не смели подступиться с ножом даже к покойникам.
И снова прибавлю, ибо не хотел сразу выдавать их главную тайну. У Детей Моря имеются, как я обмолвился ранее, верные помощники – нет, скорее друзья. Ба-фархи, то есть Водные Скакуны или Морские Кони. Огромные животные, что дышат воздухом, но постоянно пребывают в воде или под нею. Когда всё спокойно, они играют, выделывая прыжки, колеса и пируэты, и невозможно представить зрелище прекраснее, чем эта живая сталь, эта подвижная ртуть, изогнутая, точно сабля. Огромные черные тела, будто покрытые скользким лаком, белое брюхо, глаза сощурены в лукавой усмешке, из воронки наверху изредка вылетает фонтан – гордый плюмаж в виде водяного пера. Но это и почти абсолютные убийцы, что неудивительно в мире меньших наших братьев; хотя милосердие им также свойственно и вообще иногда кажется непостижимым. Не однажды они спасали от потопления, в точности как своих сородичей, и рыбака, чья лодка перевернулась, и даже охотника на акул, что пытался отогнать, обжечь их огненным снарядом, но загорелся сам. Даже тех чужаков жалели они, что охотились на них ради их будто бы целебной крови, скорее красной, как у человека, чем синей, как у рыбы… Хотя и правда: нечто в ба-фархах воистину целебно для человека.
И вот я ныне думаю: можно ли поименовать скотоложеством ту теснейшую близость, что возникает между Морскими Людьми и этими созданиями? Когда сливаются не семя и не тела, а слюна, слизь и слезы человека и зверя – и оттого человек обретает непревзойденную телесную мощь вместе с умением пребывать в чуждой ему изначально стихии, а зверь – гибкий разум и способность к членораздельной речи?
Еще одно. Возможно, по причине доступности природных богатств – кораллов, раковин, жемчуга, сокровищ, поднятых с затонувших кораблей – ба-нэсхин не корыстны: и это также привлекает к ним и побуждает их защитить. Такое желание пробуждается у каждого истинного человека. Таковое стремление будет свойственно, мы надеемся, и нашему неведомому пока владыке с морским прозвищем и долей морской крови в жилах, которого зачнут, вырастят и воспитают для нас в самом сердце Земного Народа.
…Я захожу в море по пояс. Оно приподнимает и ласково колышет мою рясу. Ба-фархи любят есть сырую рыбу из рук человека, хотя в море ее довольно: может быть, чтобы слегка напугать нас своими зубами, возможно, чтобы продемонстрировать свою дружелюбную силу. Это последний раз, дети мои… Завтра я уезжаю от вас – и увожу с собой эти свои записи».
Арман Шпинель де Лорм ал-Фрайби. Скондия
Я свернул рукопись в трубку и вложил обратно в футляр.
– Мор, зачем ты привез мне это из замка Ас-Сагр? Наши ассизцы и так это всё знают. И отчасти именно от этого человека.
– Написано красиво. И сами факты, и пророчество. Это не его рука, однако список древний и пророчество дословное.
– Оно не про тебя, надеюсь?
– Мне говорили, что работа велась еще с нашей Тетушкой Заботой. А что до предвидения и надежды – это обычно для человека.
– Ты не ответил.
– Как я могу знать?
Моргэйн, мальчик… нет, юноша с морским именем, рожденный морской царевной, насупился и наполовину вытянул из ножен свой кинжал: тусклая черная сталь, рукоять из акульей кожи, в перекрестье – смеющаяся женская головка со змеящимися кудрями. Стелла заказала на добрую память или наши Братья подарили в честь первой – или какой-то еще – ступени или степени познания?
Нет, он не был по-настоящему похож ни на Хельмута, ни на свою мать. Сам по себе: смесь диковинных кровей. В нем ждали своего часа многие из тех, кто был нарочито разведен в стороны. Ждали, чтобы слить свою кровь воедино для…
Для чего, спросил я свой внутренний голос. И он замолк на полуслове…
Моргэйн провел пальцем по лезвию, по-детски сунул его в рот. Вбросил кинжал в обтянутые бархатом ножны.
– Острое. Ты знаешь, для чего меня готовят. Надеюсь, через несколько лет я стану хорошим водителем плотов. Настоящим всадником ба-фархов – только уж очень трудно надевать упряжь на такую силищу, а верхом безо всего у меня, боюсь, не получится. И настоящим вождем Сынов Моря тоже сделаюсь. Тогда я успею сделать то, что надо.
– Как князь?
– Или как барашек. Ягненок. Агнец, – он ухмыльнулся, растягивая последнее слово, будто…
Будто мужчина, которому надо лишь пройти последнюю шлифовку. Он шутит, он нисколько не подозревает сути дела, полагая, что вот теперь ему предстоит самое сложное. Но уже преодолены пороги, обогнуты тихие омуты, пройдены главные испытания. Самое неподъемное и впрямь ждет – но лишь в конце.
Я боюсь. Что я сотворил – скажет ли, объяснит ли мне хоть кто-нибудь?
Через сутки мой внук уехал из Скондии – как оказалось, навсегда. И теперь кляну себя: даже собственноручный мой список с монашьей рукописи я не попросил – а он не взял на память.
Знак XII. Филипп Родаков. Рутения
– Вот теперь я точно понимаю про петлю, – сказал я, рассматривая зыбкий абрис. – Что я не соврал в своем предвидении. Свить петлю – значит этакий спиральный узел поверх неправильного овала закрутить на западный манер. В точности как на этой, блин, странице.
– Не бери в голову, старичина, – Торригаль ободряюще хлопнул меня по тощему плечу.
– Напомнил, кстати. Я еще только в глазах приятелей старик, а нашему Арману… погоди… да лет семьдесят без малого? Ах, даже семьдесят один. На неприятные мысли наводит. Сколько у вас в Верте годиков прошло, а?
– Сколько надо. Еще нам всем, однако, не конец. Там самое зубодробительное теперь начнется.
– Ну конечно. Ты ведь выполнил задумку – родил живой клиночек всем на погибель. Тот, что у Мора на поясе или чуток пониже.
– Ах, это? Нет, нимало. Просто небольшой сувенир от моей Стеллы на прощанье. Кто платочки дарит, кто цветочки, а она – железяку. Вот разве что, как говорит, к телу своему выкованный кинжал приложила, как одну икону к другой и малый пхурбу ко всеобщему эталону ростом в тибетского монаха.
Арман Шпинель де Лорм ал-Фрайби. Скондия
Знаешь, просто идет война.
Просто где-то там кто-то умер.
Знаешь, может быть, это наша вина,
Но ты об этом лучше не думай.
Знаешь, а кровь стекает с плахи,
Как по приговору текли чернила.
Ты в них запачкал рукав рубахи…
В смерти других я себя винила.
Знаешь, сейчас ты смотришь во Тьму.
Знаешь, а стал ты очень жесток.
Знаешь, а я всё никак не пойму —
Ты стать другим не захотел иль не смог?
Е.А. Гончарова
Что я могу поделать со своей проклятой жизнью?
Король не разъезжает по гостям, когда зовут в другие страны, он почетный пленник своей земли. Только я не король. Я просто самый главный амир, то есть наиболее высокопоставленный чиновник в Скондии. Разумеется, нам нет нужды далеко путешествовать, нас оберегают совсем как любимую женщину и даже рекомендуют временами накидывать головное покрывало или плащ с куколем. Но это почти ничего не значит.
И когда король Ортос всемилостивейше пожелал, чтобы я прибыл, наконец, в его стольный город Вробург с ответным визитом, я не мог, по совести, ничего возразить. Королева вскоре после того, как я забрал их наследного принца, родила хилую девочку и более не зачинала. Моего внука до сих пор тщились воспринять как того, кто принесет отцу в дар Скондию и остров святого Колумбана, но Скондия никогда не была его достоянием иначе, кроме как для чести, а на острове его личными стараниями вызревало нечто прямо противоположное отцовой затяжной войне, хотя отнюдь не мирное. Ну и, разумеется, сам Ортос ведь уже пятнадцать лет как побывал в Скондии вместе со своей короной и мантией и имел полное право на ответный визит тамошней верховной власти.
А что я, непосредственный виновник главных королевских затруднений, – всего-навсего пятая спица в колеснице, главная дырка в колесном ободе и что одним мною у Скандии не будет ни конно, ни людно, ни оружно (цитата из одной рутенской пьесы о тиране) – это Ортоса не волновало ничуть.
Итак, вначале я от души переговорил с Турайей. С нею у нас постепенно сложились такие отношения, что впору было б и развестись – так мало она меня видела. Махр я выделил бы любой, какой она захотела, – он по-прежнему вращался в том общем хозяйстве, которым от моего имени единолично заправляла она. Турайа, тем не менее, как противилась всегда, так и теперь сказала четкое «нет». Путь будет тень мужа – но моя, Арманова, тень.
Потом я вызвал к себе моих конфидентов и порученцев и выбрал самого из них толкового, чтобы свалить на него управление скондийскими делами. А под конец…
И под самый конец, когда уже, как у нас говорят, увязывали узлы и вьючили их на верблюдов, то есть, в данном случае, на лошадей, я отправился с визитом к сестре.
В часовне святой Юханны хозяйничали новые братья – ветвь ассизцев, грегорианцы. Верховный епископ Вертдома утвердил их лет десять назад и придал им особенный статус – как братьям, которые специализируются на врачевании недугов, передающихся по наследству. Юханна была их личной патронессой или патроном: ибо как она, так и почти все грегорианцы были пришлецами из иных земель. Скондийцы чтили другого покровителя: нашего дорогого Туфейлиуса, о котором никто почти не знал, жив он или уже помер. Ведали только, что он в Аламуте.
Вопреки скондийским обычаям, часовня украсилась статуей Юханны – рыцарские доспехи вышиной в локоть, с закрытым забралом и саблей на боку. Забрало и кривой скимитар вместо прямой шпаги были уступкой хозяевам, которые считали изображение человека ложью и клеветой на него, но что еще хуже – кощунственной узурпацией прав Всевышнего. Так что я преклонил колено перед серебряным паладином и затем обратился к настоятелю этого малого храма с просьбой – на краткое мгновение дать мне сердце моей кровной и молочной сестры прямо в руки. Он понял зачем – и не воспротивился.
Небольшая позолоченная рака содержала в себе еще один футляр, из эбена. В нем покоился резной шар из древней кости животного по имени маммут, или подземная мышь. И уже оттуда священник с благоговением достал как бы розу из черного янтаря, вложив ее мне в ладони.
Как бы искра тотчас прошила мне руки до самых запястий. Я тихо ахнул.
– Он ответил, – монах кивнул мне и бережно отнял святыню.
– Я не слышал ничего – ни ушами, ни сердцем, ни душой, – воспротивился я.
– Ты скоро услышишь, амир, – ответил он. – Слова придут к тебе вместе с семенем, что зачало вас обоих, и с молоком, которое вскормило тебя и Юханну. Только побудь здесь еще немного – или даже того не надо: просто иди и живи дальше таким, как был.
И благословил меня.
Когда во мне появились эти строки? В детстве я слышал их на паперти от безумной вестфольдской нищенки, что, как говорили, потеряла в море мужа, готского рыбака, за которым уехала в другие земли и позже вернулась доживать дни. Она имела привычку трижды, а то и более повторять середину каждой строки, с подвывом поднимая тон к их концу. Но позже слова эти и мелодия стерлись, как я полагал, без следа.
Вот она, эта песня, это смутное и темное предсказание фрайбургской вельвы или сивиллы.
Не вернётся никто – только в дверь постучит чужак,
Тот, что, верно, блуждал – в глуби кромешной могилы.
Нет сказаний про ту – что стояла, зажав в кулак
Из ряднины свой плат – и вряд хоть слезу уронила.
Лишь полуночи свет – загорится в ответ ветрам,
Только ртутная мазь – не сглазь! – на бездну прольется,
Из чешуй твой челнок – в шуршащий войдет песок,
Мой любимый чужак – мой враг – вина изопьет из колодца.
Значило ли это, что я не вернусь в Скон-Дархан? Или вернусь, но совершенно чужим, снова вечным странником, будто бы и не было сих плодоносных лет, когда я вязал и разрешал, расчищал и строил? Я не знал: однако страшиться было уже поздно. Всё уже решилось независимо от того, хотел я того или не хотел. И на пальцах моих уже остался от сердца Юханны еле заметный и такой неправдоподобный черный налет – будто гагат слегка стирался о них, пылил, как говорят ювелиры.
Наш небольшой караван, состоящий из десяти подседланных лошадей, пяти заводных и пяти вьючных, которых тоже можно было при случае использовать под верховое седло, тянулся вдоль улиц и парков Вард-ад-Дунья, будто и он, и земля моя, покрытая заснеженными, спящими садами, рассеченная чешуйчатыми, вьющимися змеиными путями, была бесконечной. Так долго – и так тоскливо.
Однако границу мы пересекли куда раньше, чем хотелось, и дальше двигались по широкой дороге, вымощенной плоскими известняковыми плитами, местами выщербленными. Неважная замена почти не снашиваемой армированной черепице Скандии – новинка, которую я успел внедрить, – однако и то хорошо, что король даже в годы войны не допускал на ней разбоя и потравы. И мы, и наши животные шли невредимо: мы – располагаясь на привал на специально отведенных для того придорожных площадках, кони – выбивая копытом из-под снега мерзлую озимь. Было весьма любезно для местных властей постоянно подсеивать на обочинах главной франзонской дороги кормовой овес, рожь и пшеницу, подумал я. Стоило бы и мне… нам завести нечто подобное. Не для солдат, а для купцов.
И еще мельком проскользнуло в мыслях: что Ортос с нашими беглыми, в таком случае, делает, чтобы не вредили? На бойцовое петушиное мясо пускает?
Вот так шли наши кони – без приключений и без большого почета. Время от времени попадались отдельные пешеходы и тележки, запряженные одвуконь, даже небольшие группы путешествующих, однако воинских отрядов, которые шли в нашу сторону, не попадалось. Нашу – или одну с нами? Снова мысль моя раздваивается не к добру.
Наконец показались более или менее знакомые места. Тут я когда-то охотился с приятелями, покупал на ярмарке наряды, съестные и оружейные припасы, даже на пару с Хельмом, переодевшись, бегал за смазливыми крестьяночками. Только вот всё это поглотил разросшийся город. Здесь огораживали куски земли, возводили загородные дома, иначе – виллы: богатые и не очень. То и дело мелькали прихотливо остриженные деревья, кусты бирючины и кизильника вместо высоких чугунных решеток – последняя мода, также как и держать у такой ограды, и так почти непроницаемой, мощных сторожевых псов.
Когда-то я весело проводил здесь свое молодое время.
А теперь старик ехал отдать долг зрелому мужу…
Укрепленный город на первый взгляд показался мне почти прежним. Те же крутые подъемы и широкие каменные ступени, что мешали всадникам и повозкам, отчего внутрь стен входили по преимуществу пешком или восседая в паланкинах. Стражники, проверяя наши документы, любезно объяснили мне, что теперь здесь находится королевская резиденция, казармы Ортовых гвардейцев, а также особняки самых приближенных к нему лиц. Оттого и врата укрепили и сделали тройными.
Внутри Вробургской цитадели на месте привычных мне ярких сезонных цветов господствовали одни военные краски. Флаги, стяги и вымпелы, узкие раздвоенные косицы – флажки отрядов морской пехоты, гербы на плащах, щитах и фасадах, шнуры, аксельбанты и веревки через плечо. Из-за всего этого нам пришлось петлять и плутать, ища объездных путей, и я кстати полюбовался через щель между домами на памятную мне главную площадь. Арена наших с Хельмом трудов была превращена в амфитеатр с дубовыми скамьями, что были намертво закреплены на земле. Посередине было некое возвышение наподобие древней румийской схены для актеров, из чего я заключил, что тут есть кому продолжить весь букет старинных традиций.
Ближе к концу дня мы расположились в специальном гостевом доме для королевских гостей и чужеземных посланцев и тут же выгрузили свое имущество. Почти всех моих сопровождающих и добрую половину лошадей я отправил назад, оставив себе лишь двоих старинных – то ли слуг, то ли помощников. И дал о себе знать королю – хотя это было скорее данью вежливости. Король и так был осведомлен.
Он принял меня через неделю – как раз были официальные то ли проводы рекрутов, то ли представления вестфольдских и готийских дипломатов. Королева Библис там не присутствовала: в кулуарах говорили, что не отходит от дочки, которой последнее время сильно нездоровится. Бледная немочь, похоже.
Ортосу вовсю шел пятый десяток: по-нашему – муж в полном расцвете сил, да и семя Хельмута должно было сказаться. Однако он выглядел едва ли не моим ровесником: уже не тонок, а просто худ, движения ломкие, как прошлогодняя ветка, щеки впали, глаза, по-прежнему сохраняющие молодой азарт, слегка повыцвели. Словом, сдал позиции он изрядно. На людях мы обменялись малозначащими любезностями, но уже прощаясь со всеми, он показал мне глазами: жди.
В самом деле, почти тотчас же после исхода публики подошел его камердинер (никак не Фрейр, тот явно поднялся повыше) и сообщил, что их величество переоделись в домашнее и ждут меня.
Когда меня привели, Ортос ходил взад-вперед по своим малым покоям, облаченный в теплую распашную камизу скондийского покроя.
– Дэди Арм, рад тебя видеть.
Я молча кивнул и поклонился. И тут он с ходу спросил:
– Ты можешь дедовой властью и отцовским именем урезонить мою жену вместе с ее сыном?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































