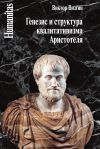Текст книги "Александрийский Мусей от Птолемеев до Октавиана Августа"
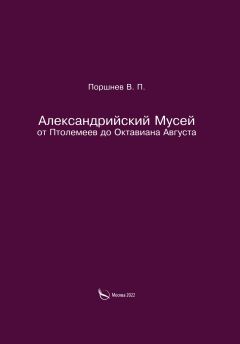
Автор книги: Валерий Поршнев
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Правила мусических застолий в Академии были введены третьим схолархом Ксенократом (Athen., V, 186b; подчёркивается, что такие же были в Ликее у Аристотеля). Ксенократ возглавлял Академию с 339 по 314 годы, но если исключить обряды, непосредственно касающиеся посмертного культа Платона, постепенно превращаемого почитателями в божественного сына Аполлона, прочие установления и традиции могли быть «наработаны» еще при жизни основателя всей школы и мусического союза при ней.
Плутарх рассказывает о застольях, устраиваемых в доме его учителя Аммония, философа, возглавлявшего в 60-е гг. от Р. Х. так называемую Четвёртую Академию, на самом деле представлявшую собой философский кружок, собиравшийся в частных домах, так как собственно Академия была заброшена после сулланского погрома уже сто пятьдесят лет. Но традиции, заложенные Платоном и Ксенократом, неукоснительно соблюдались, поскольку были освящены отеческой религией. Аммоний был настоящим знатоком, разбиравшимся во всех тонкостях мусического культа. Бóльшая часть девятой книги «Застольных бесед» оказывается вложенной Плутархом в уста Аммония лекцией, посвящённой этому культу как в его богословской, так и в обрядовой составляющих.
Для нас важно, что имя Аммоний, восходящее к Аммону – ливийскому Зевсу, якобы – небесному отцу Александра Македонского, указывает на возможное египетское происхождение философа, что подтверждает Евнапий в «Жизнеописаниях софистов» (Eunap. Vit. soph. Qui script. phil. coll., 13). Среди знаменитых александрийцев будет несколько Аммониев. Не исключено, что до переселения в Афины, где он не только руководил школой, но и трижды избирался стратегом, Аммоний получил образование в Александрии и был допущен к трапезам в Александрийском Мусее. Во всяком случае, именно там он мог приобщиться к мусическому культу и досконально изучить его. Это значит, что платоновские традиции долго сохранялись и на египетской земле.
Согласно Плутарху (Quest. conviv., IX, 736с), академики отмечали особые дни, посвящённые Музам. В праздничном календаре Афин таковых не зафиксировано, следовательно, речь идёт о праздниках не государственных, но установленных самими академиками. Логично предположить, что они были приурочены к 7 таргелиона – дню почитания Аполлона и Платона. На Фере сообщество родственников Фойника-Эпиктеты собиралось в Мусее ежегодно, на три дня, в предшествующем месяце дельфинии, соответствующем афинскому мунихию (мунихиону), во второй половине апреля – первой половине мая (IG XII3, 330, lin. 63–65). Это также было время большого праздника в честь Аполлона Дельфиния, приуроченного к открытию навигации. Сколько дней продолжались пиршественные собрания академиков, Плутарх не уточняет; таковых дней могло быть и девять – число, приличествующее Музам (Quest. conviv., IX, 1с). А вкупе с праздником Аполлона оно могло составлять полную декаду. Но, очевидно, что помимо таких больших годичных собраний, устраивались и более частые, однодневные симпосии.
Они начинались с положенного возлияния Музам, за которым следовало исполнение пеана в честь Аполлона Мусагета. После этого собравшиеся, под звуки лиры, пели о рождении Муз по Гесиоду. Началом песни, очевидно, были следующие строфы «Теогонии»:
Радуют разум великий отцу своему на Олимпе
Дщери великого Зевса-царя, олимпийские Музы.
Семя во чрево приняв от Кронида-отца, в Пиерии
Их родила Мнемосина, царица высот Елевфера,
Чтоб улетали заботы и беды душа забывала.
Девять ночей сопрягался с богинею Зевс-промыслитель,
К ней вдалеке от богов восходя на священное ложе.
После ж того как исполнился год, времена обернулись,
Месяцы круг совершили и дней унеслося немало,
Единомысленных девять она дочерей народила,
С рвущейся к песням душой, с беззаботным и радостным духом,
Близ высочайшей вершины одетого снегом Олимпа.
(Hesiod. Theog., 51–63. Перевод В. В. Вересаева).
Плутарх приводит ещё одно подтверждение тому, что академики уделяли большое внимание формальному соблюдению обрядов. Наряду со специальной посудой, важное значение, например, имели возлагаемые на участников симпосия венки. Аммоний подробно объясняет, почему на мусических застольях приличествует носить лавровые венки и порицает тех, кто позволил возложить на себя венки из роз (Quest. conviv., III, 646d-f).
Частью праздника был религиозно-философский диспут, на котором платоники, по жребию, задавали друг другу вопросы (Quest. conviv., IX, 737d; Аммоний нарушал этот обычай, давая слово, по очереди, представителям разных мусических профессий – грамматику, музыканту, ритору).
Как уже было отмечено в первой главе, Плутарх сравнивает участников симпосиев в школе Платона с хором трагедии, где каждый из сотрапезников занимает своё место и должен иметь возможность непосредственно обращаться к любому из остальных (Quest. conviv., V, 678d). К беседам заранее готовились, подбирались темы для обсуждения, тщательно регулировалась численность беседующих; рекомендовалось, чтобы их не было слишком много, дабы, как и в театральном хоре, краспедит (участник хора, стоящий позади) мог слышать корифея (предстоятеля хора). Впрочем, у Платона на симпосиях иногда собиралось столько гостей, что распоряжавшемуся пиром Евдоксу Книдскому приходилось расставлять пиршественные ложа полукругом (Diog. Laert., VIII, 8, 88). Речи, ведущиеся на симпосиях, записывались, и именно этому обычаю следует Плутарх (Quest. conviv., I, 612e). Так элементы мусического агона органично включались в философский диалог, столь любимый Платоном и его последователями. Диалог, в котором истина могла открываться и во внезапном озарении выступающих и слушателей, дарованном по милости почитаемых богинь.
Участие в сисстиях представляется средним звеном между ученичеством и полным посвящением в члены мусического союза, когда ученики Платона могли уже не только дискутировать, но и сами начинали преподавать в Академии, собирая свои «хоры» поклонников. Весь путь складывался примерно так. Молодые люди, в основном – наследники афинских аристократов, праздно гуляя или занимаясь спортивными упражнениями в садах Академии, становились свидетелями открытых лекций, диспутов, публичных чтений платоновских (и создаваемых академиками по их подобию) диалогов. Вспыхнувший интерес к умозрительным занятиям подкреплялся славой учителей Академии, обеспечивавших прекрасное общее образование, а также их особым, безмятежным и уравновешенным образом жизни, столь привлекательным в те годы, когда афинское государство вело непрерывные войны, пытаясь восстановить былое утраченное могущество. И, конечно же, не последнюю роль играла возможность длительного пребывания в священном месте, под покровительством Муз и древних героев. Поступающие в Академию делали добровольный вступительный взнос (обычно – за счёт состоятельных родителей), проходили собеседование или даже экзамен на знание основ математики (знание, обеспечиваемое предварительным домашним образованием), затем несколько лет углублённо изучали риторику, геометрию, астрономию, музыку, после чего приступали к главному делу – занятиям философией. На данном уровне они могли проявлять творческую активность, не только слушая преподавателей и штудируя тексты, но споря на заданные темы, а также сочиняя собственные, пока ещё подражательные диалоги и трактаты. Постоянно совершаемые обряды приобщали их к мусическому культу; это приобщение и включало, в качестве важнейшего этапа, священные трапезы. Здесь, несомненно, осуществлялся отбор наиболее способных и проявивших себя в диспутах учеников (прочие, пришедшие в Академию ради общего образования, достигнув цели, уже покидали её стены). Затем следовало приобщение к ночным эзотерическим занятиям и наконец, открывалась возможность самостоятельного преподавания различных дисциплин.
4Аристотель, за двадцать лет, последовательно, прошёл все эти ступени. Книжные эрудиты Элиан и Афиней, сообщают, что поступлению в Академию предшествовало несколько лет проживания в Афинах, когда Аристотель тратил родительское наследство и пробовал силы в фармацевтике и военном деле (Ael. Var. hist., V, 9). Следовательно, он приходил в Академию сначала на публичные лекции и диспуты. Возможно также, что он какое-то время изучал риторику в школе знаменитого Исократа, фрагменты сочинений которого он станет приводить своим ученикам в качестве образцов красноречия. Риторика станет первым предметом, самостоятельно читаемым Аристотелем в Академии.
Первым преподавателем Аристотеля в Академии стал, скорее всего, Евдокс Книдский, философ-пифагореец, математик, астроном, врач, музыковед, руководивший школой в отсутствие Платона, находившегося тогда в Сиракузах при дворе Дионисия Младшего.
Познакомившийся с Платоном в Таренте, в священной роще Архита, он, по одним сведениям (Strab., XVII, 1, 29, C806) сопровождал Платона в его путешествии по Египту и оставался там тринадцать лет. По другим (Diog. Laert., VIII, 8, 78) отправился туда вместе с земляком, врачом Хрисиппом, основателем школы врачей-пневматиков, впоследствии процветавшей в Александрии, прожил в Египте год и четыре месяца, пройдя какие-то низшие ступени посвящения в гелиопольском храме, перенимая у жрецов египетскую мудрость. Аристотель впервые получил из уст Евдокса сведения о древней стране, вызвавшей у него огромный интерес, хотя в дальнейшем его привлекли не сакральные тайны Египта, а вполне практические проблемы ежегодных разливов Нила и повадки животных и птиц, обитающих в нильской долине.
Геоцентрическая модель Вселенной Евдокса Книдского стала последней промежуточной ступенью на пути от сложных построений пифагорейцев, сочетавших научные наблюдения с числовым мистицизмом (требовавшим непременного включения в структуру Космоса всего числового ряда – божественной десятки), к занявшей господствующее положение на ближайшие полтора тысячелетия у язычников, христиан и на мусульманском Востоке модели Аристотеля-Клавдия Птолемея. Идея совершенного шарообразного Космоса была в ней максимально, насколько позволяли накопленные факты, согласована с результатами наблюдений. Шарообразная неподвижная Земля заняла центральное место в мироздании, вокруг неё расположились невидимые из-за абсолютной прозрачности гомоцентрические (имеющие единый центр вращения вокруг Земли) небесные сферы (числом двадцать семь), создающие сложные комбинации круговых движений, воспринимаемые глазами земных наблюдателей как нарушающие гармонию Вселенной, непонятные и пугающие петли. Кроме того, устранялись все пифагорейские ненаблюдаемые объекты, такие как Противоземля и Центральный Огонь. Наконец, «избавив» Космос от неправильных движений и представив его в виде сложной механической игрушки, Евдокс укрепил академиков, а затем и перипатетиков в убеждении, что такой Космос не мог появиться случайно, например – в результате хаотического сцепления атомов, как учил незадолго до того умерший Демокрит. Он требовал Творца-художника, Демиурга, каковым станет у Аристотеля Мировой Ум и Перводвигатель.
Платон, на идею и даже на прямое указание которого – создать теорию круговых движений, позволяющую «спасти» наблюдаемые явления (блуждания планет по небосводу)[145]145
Выражение о необходимости «спасения» явлений, ставшее знаменитым, приводит живший в VI веке от Р. Х. комментатор Аристотеля Симпликий (Симплиций): «Платон… перед всеми исследователями данного предмета поставил вопрос, при допущении каких равномерных упорядоченных движений окажутся спасены явления, касающиеся движения планет» (Simpl. In Ar. De Cael., II, 219a, 12. I. L. Heiberg; перевод А. А. Россиуса). Об этой же необходимости «спасать» видимые явления говорили александрийские астрономы в полемике с Аристархом Самосским.
[Закрыть] опирался Евдокс, по возвращении из Сицилии, предположительно между 360 и 350 годами, пишет диалог «Тимей». По мнению ряда исследователей, хотя единства мнений тут нет, это произведение появляется уже после того как Евдокс изложил свою теорию ученикам Академии[146]146
Различные точки зрения приведены А. И. Зайцевым в статье, специально посвященной гомоцентрической модели Вселенной: Зайцев А. И. Роль Евдокса Книдского в становлении астрономической науки в Древней Греции // Некоторые проблемы истории античной науки. – Л., 1989. С. 116–119. См. также: Andrev Gregory. Eudoxos, Callipsos and the Astronomy of Timaeos // Ancient Approaches to Plato's Timaeos // BICS Supplement 78. – L., 2003. P. 5–28.
[Закрыть].
В «Тимее» даётся иная космологическая модель, отчасти возвращающая нас к построениям пифагорейцев, но, опять-таки, без Противоземли и Центрального огня. Эта модель, при том, что в диалоге Платон показывает себя эрудитом, не только в области чистой математики, но и в астрономии, биологии, медицине, основана не на эмпирическом опыте, а создана по наитию, в состоянии «мусической одержимости», что подчёркивает спустя девять столетий неоплатоник Олимпиодор, писавший в своих комментариях: «…он [Платон] вдохновляется, обуянный богом, и словно произносит речь творца к небесным силам об их устроении» (Olymp. In. Alcib. II. Praem. Перевод М. Л. Гаспарова). Подобное же состояние Платон, согласно Олимпиодору, испытал, создавая «Государство», когда он был «…обуян Музами» (Ibid.). Заканчивая десятую книгу «Государства» (Resp., X, 616–618), Платон рассказывает о загробном суде и воздаянии душам в небесном мире и набрасывает эскиз своей космологии, подробно изложенной в «Тимее».
Совершенный космический шар, чья оболочка, абсолютно прозрачная и абсолютно прочная, подобная адаманту (буквально – несокрушимый; так называли и прочнейшие сплавы, и драгоценные алмазы), пронизывается от полюса до полюса полым столпом, своеобразной втулкой, являющейся осью вращения мира. В «Государстве» (Х, 617b-c) она отождествляется с веретеном Ананки, богини судьбы, вместе с дочерями Мойрами руководящей вращением. На ось нанизаны восемь сфер, соответствующих Земле и внешним небесным телам. Вкрапленные в сферы, они вращаются в одной плоскости, расположенной под углом к небесному экватору (плоскость эклиптики). Земля находится на ближайшей сфере, следовательно – является центральным телом Космоса по отношению к другим телам. Земля и планеты вращаются как вокруг «веретена», так и вокруг собственных осей. Скорости движений различны, поэтому нам кажется, что планеты «поочерёдно и взаимно догоняют друг друга» (Tim., 38d). Расстояния между сферами подчинены пифагорейским числовым прогрессиям, так что Космос построен как по принципу золотого сечения, так и по законам музыкальной гармонии: вместе сферы образуют октаву. Наделённый Мировой Душой платоновский Космос не только издаёт пифагорейскую музыку сфер, но каждая сфера ещё и светится своим неповторимым цветом. К звуковому символизму пифагорейцев, таким образом, добавляется цветовой символизм.
То, что реальные физические планеты своими движениями лишь приблизительно соответствуют созданной в состоянии «мусической одержимости» конструкции (из-за чего впоследствии неоплатоники избегали понимать её слишком буквально), немного смущает Платона, но лишь немного. Кажущиеся неправильности объясняются нашей неспособностью воспринять сложные, растянутые во времени (и на самом деле совершенные), мировые циклы целиком: «Что касается хороводов этих божеств [планет], их взаимных сближений, обратного вращения их кругов и забеганий вперёд, а также того, какие из них сходятся или противостоят друг другу и какие становятся друг перед другом в таком положении по отношению к нам, что через определённые промежутки времени они то скрываются, то вновь появляются, устрашая тех, кто не умеет расчислять сроки, и посылая им знамения грядущего, говорить обо всём этом, не имея перед глазами наглядного изображения, было бы тщетным трудом» (Tim., 40с-d. Перевод С. С. Аверинцева).
Но и более соответствующая нашим современным представлениям об астрономии как науке, строящейся на базе эмпирических данных (получаемых в результате многолетних наблюдений), концепция Евдокса страдала тем же недостатком: она лишь приблизительно соответствовала видимому движению блуждающих планет Солнечной системы. Евдокс, не выполнивший до конца заказ Платона, наверное, объяснял свою «подгонку» под феномены недостаточностью проделанных измерений. Сад Академии, где он сам, как мы помним, оборудовал астрономическую площадку гномоном и «пауком», исчерпал для него свои возможности. После 365 года, возвратив бразды правления Платону, он покинул Афины и основал собственную школу в родном Книде, где у него была построена и обсерватория (ранее, до афинского периода своей жизни, он имел обсерваторию в Кизике). Его последователи (Калипп Кизикский и затем – Аристотель) «спасая феномены», пошли по пути умножения числа небесных сфер, придавая смоделированным движениям планет всё более замысловатые для земного наблюдателя очертания. К тому же Аристотель откажется от идеи общего центра движения, заменив его множеством отдельных эпициклов.
Вторая важная инновация Евдокса в Академии – его утверждение о том, что идея вещи не существует отдельно от самой вещи, но вечно «примешивается» к ней, создавая определённое качество, например, белизну (Ar. Met., I, 9). Исследователи видят в этом некую промежуточную ступень между системами Платона и Аристотеля, или же между более ранними сочинениями Платона и его «Парменидом».
Диоген Лаэртский в жизнеописании Евдокса, источником которого служили сочинения двух александрийцев – Каллимаха и Сотиона, намекает на разногласия и даже соперничество Евдокса с Платоном (Diog. Laert., VIII, 8, 87). Как бы то ни было, Аристотеля, прослушавшего лекции вернувшегося к преподаванию Платона, вначале захватило платоновское учение, о чём свидетельствуют созданные им 360-е – 350-е годы «проплатоновские» диалоги «Евдем» и «Протрептик». Но изначальный импульс, полученный от Евдокса, в конце концов, сделал его «еретиком» Академии. Самый талантливый из учеников Платона, став полноправным участником мусического союза, был допущен к преподаванию, но преподавал такие «нейтральные» предметы как риторика и поэтика. Попытки его на рубеже 350–340-х годов поправить и развить философию Платона, а на самом деле – излагать уже собственную философию, будто бы заканчивались даже стычками с престарелым учителем (Ael. Var. hist., III, 19; Diog. Laert., V, 1, 2–3).
О разногласиях Платона и Аристотеля в последние годы жизни Платона написано так много, что мы ограничимся лишь теми моментами, которые сказались на структуре будущего Ликея. С одной стороны, устав новой школы, образ жизни перипатетиков, правила поведения, мусические обряды и состязания, обычаи пиршественных собраний как бы дублируют аналогичные порядки Академии. С другой, эмпирический путь познания, полагающий поиски идеальных начал не в мистическом прорыве в запредельный мир идей, а в кропотливом исследовании единичных вещей, их происхождения и свойств, следовательно – интерес к минералам, растениям, животным, человеческому телу как вместилищу бессмертной души, требовал уже не только астрономической обсерватории, но и постоянного наличия перед глазами образцов исследуемых предметов: минералов, гербариев, живых растений, животных, содержащихся в клетках или вольерах, муляжей человеческого тела. Отсутствие всего ряда необходимых для исследований предметов могли возместить их вербальные описания, что неизбежно привело к разрастанию библиотеки и необходимости её каталогизации, к тому, что потом назовут искусством собирать книги, перенятым у Аристотеля Птолемеями (Strab., XIII, 1, 54, С608–609).
В Академии много занимались естественными науками. Филипп Опунтский, один из самых преданных учеников Платона, писал труды по астрономии, оптике, метеорологии. Кроме Евдокса, следуя пожеланиям Платона, Гераклид Понтийский предложил свою модель Солнечной системы, близкую к платоновскому «Тимею». Астрономией занимался Ксенократ. Возможно, что ещё в Академии Аристотель читал лекции, которые легли в основу его будущей «Физики». Но, за исключением факта наличия астрономической площадки, у нас нет сведений о «предметном» обеспечении естественнонаучных исследований. Платон, в частности, порицал Евдокса Книдского и его учеников за то, что те пытались строить геометрические доказательства с помощью механических приспособлений, тогда как это нужно было делать только с помощью разума (Plut. Quest, conviv., VIII, 718f). Скорее всего, и сведения о животных и растениях академики черпали исключительно из книг и опросов очевидцев.
Источники не позволяют сказать с абсолютной уверенностью, покинул ли Аристотель Академию ещё при жизни Платона, или же оставался там до кончины учителя, с которым он осмеливался спорить. Поздние биографии Аристотеля, утверждающие их прижизненный разрыв, восходят к не очень ясной фразе Диогена Лаэртcкого: «От Платона он отошёл ещё при его жизни» (Diog. Laert., V, 1, 2). Но употребляемый Лаэрцием ионический глагол άπίστημι не обязательно означает уход в пространственном значении; можно переводить как уклонился, отступил, то есть – отошёл от учения. Кроме того, Аристотель ушёл не один. Вместе с ним школу Платона оставил Ксенократ, который потом вернётся в Афины и возглавит Академию, и возможно – Феофраст, ближайший друг и будущий преемник Аристотеля. Такой коллективный уход был бы слишком большим ударом по самолюбию Платона и вызвал бы скандал. Кроме того, есть свидетельство, что Аристотель принимал участие в увековечивании посмертной памяти Платона: ему приписывается надпись (элегическим дистихом) на алтаре Филии (богини дружбы) в Академии, в которой Платон прославляется как «благой» (αγαθός) и «блаженный» (ευδαίμων) муж, доказавший эти свои достоинства и творениями, и жизнью[147]147
Текст (цитируемый автором II в. от Р. X. Аристоклом Мессенским, чьи сочинения, в свою очередь, известны лишь по цитатам Евсевия Кесарийского и других позднеантичных писателей) с подробным анализом и аргументацией в пользу того, что стихи посвящены Платону приводит в своём исследовании творчества Аристотеля Вернер Йегер. См.: Jaeger W. Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. – Berlin, 1923. S. 106–111.
[Закрыть].
Платон был погребён в Академии, в присутствии, как подчёркнуто в его биографии, всех учеников (Diog. Laert, III, 1, 41)[148]148
Павсаний (I. 30, 3) пишет о гробнице Платона «недалеко от Академии», но он мог иметь в виду границы общественного парка, не включавшего в себя жилища Платона и его сада со святилищем Муз, которые уже не существовали (Павсаний упоминает лишь о жертвеннике Музам). Напомним, что тогда и гимнасий в Академии подвергся значительной перестройке. Так что могила Платона могла тогда находиться уже за пределами парка и римского гимнасия.
[Закрыть]. Поэтому, имеется больше оснований предполагать, что Аристотель оставался в Академии до 347 года, и разрыв произошёл на почве взаимоотношений не с Платоном, а с его наследником Спевсиппом. Возможно, Аристотель рассчитывал на то, что новый схоларх будет избран путём голосования всем собранием академиков (соответственно, – и членов мусического союза), и таковым станет если не он сам, то его тогдашний сторонник Ксенократ. Но школу неожиданно унаследовал (скорее всего, по предсмертному устному пожеланию Платона) Спевсипп, племянник Платона, его воспитанник и любимец, в молодые годы «склонный к гневу и падкий до удовольствий» (Diog. Laert, IV, 1, 1). Чей нрав Платон терпеливо исправлял своими наставлениями (Plut. De frat. am., 491f–492a).
Спевсипп, как и Аристотель, считал, что он сохраняет приверженность учению Платона и является его продолжателем (Diog. Laert., IV, 1, 1). Но, если Аристотель хотел направить энергию школы на исследование проявлений божественного Ума в чувственно воспринимаемом мире, Спевсипп, разделив процесс познания на автономные чувственную и умопостигаемую сферы, вычленив Мировой Ум в качестве лишь одной из ипостасей платоновского Единого и вернувшись к пифагорейскому числу как идеальной формообразующей сущности предметов, заявил, согласно критическому замечанию Аристотеля (Met., XIV, 3), что математические аксиомы не доказываются исследованием чувственных вещей, но принимаются сразу, «озарением» или «просветлением» души. Следовательно, предпочтение отдавалось старому пифагорейскому молитвенно-созерцательному способу получения вдохновения. Эта тенденция постепенно усиливается: не случайно Диоген Лаэртский (IV, 3, 19) сообщает о затворнической жизни в саду Академии третьего преемника Платона – Полемона. Его ученики, следуя благочестивому примеру, поселились вокруг, поставив хижины (καλύβια) вблизи святилища Муз. Так, самим образом жизни утончённые интеллектуалы-академики выделились в особое элитарное содружество, заменившее многим из них семью.
Кроме того, преобразования, которые Спевсипп произвёл непосредственно в Мусее, помимо уже упоминавшейся установки статуй Харит, превратили академическое святилище, в соответствии с прослеженной нами многовековой традицией, в то, чем были и многие другие античные Myсеи – в мемориал обожествлённого героя-покровителя места.
Спевсипп пошёл дальше формального увековечения памяти основателя Академии. В приписываемой ему эпитафии на гробнице Платона, помещённой в «Палатинскую антологию», он ещё называет земным отцом философа благородного афинянина Аристона, хотя и подчёркивает сверхъестественную сущность души Платона:
В недрах земли материнской покоится тело Платона,
Дух же его сопричтен к сонму бессмертных богов.
(АР XVI, 31 = Diog. Laert, III, 1, 44. Перевод Л. В. Блуменау).
Но в речи, произнесённой на погребальной тризне Платона (Diog. Laert., III, 1, 2), он открыто заявил, сославшись на слухи, ходившие среди афинян, что истинным отцом философа является бог Аполлон. Он рассказал обычную в таких случаях мифологему, хорошо известную сотрапезникам из преданий о других героях: о нисхождении Аполлона в брачную ночь в спальню Аристона, и о том, как тот, поражённый увиденным, поклялся не прикасаться к жене, пока та не разрешится от бремени чудесно зачатым ребёнком.
Аристотель, даже если в душе он не верил в подобные рассказы, конечно же, не возражал против посмертного апофеоза Платона. Более того, мифологему о чудесном зачатии перескажет в «Похвальном слове Платону» его собственный ученик, известный перипатетик Клеарх Сольский (Diog. Laert., III, 1, 2). Аристотель был бы вполне удовлетворён, если бы служители Муз, совершая обряды, к которым он относился с должным почтением, всё-таки занимались бы изучением нашего многообразного мира, и свели бы знания о нём воедино (такую сверхзадачу он попытается решить в Ликее). Вместо этого, духовное развитие Академии пошло в другом направлении, чем у перипатетиков и в птолемеевской Александрии. Оно пошло по пути постепенного, растянувшегося на пятьсот лет, превращения платонизма в религию с последующим воздаянием неоплатониками божественных почестей уже не только Платону, но и другим учителям школы, вещающим, как верили неоплатоники, от имени богов.
Уход Аристотеля из Академии примерно совпадает по времени с написанием им последнего диалогического сочинения, считающегося как бы предварительным наброском будущей «Метафизики» – диалога «О философии», где отвергается тождество идеи и числа и утверждается постепенный, насчитывающий множество ступеней и растянутый на всю жизнь исследователя, путь познания от низшего к высшему, прослеживающий те ступени, которые в своём развитии прошла природа. Но там же утверждается, ставшее ключевым у неоплатоников, положение о единстве всего философского знания, начинающегося от мудрецов и магов Востока, и движущегося по спирали, с вечным обновлением прежде сложившихся философских систем, объединённых стремлением к одной высшей истине – Богу, Мировому Уму, Перводвигателю. При этом, сформулированное в диалоге аристотелевское доказательство бытия Бога, которое средневековые схоласты назовут ex gradibus perfectionis (от ступеней совершенства), подразумевает начало пути познания в поиске закономерностей природного мира, демонстрирующего нам своё движение от низших форм к высшим.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?