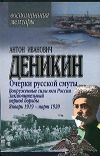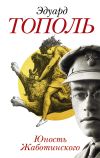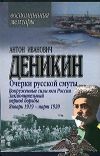Текст книги "Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том I: Россия – первая эмиграция (1879–1919)"

Автор книги: Владимир Хазан
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
Ну, конечно, я понимаю вас с точки зрения векового исторического вашего идеала, но надо же считаться и с материальною стороною дела. Палестина – камень и песок, одичалые горы, запущенные степи, тощие реки, безлесье, отвратительное побережье, солончаки, малярия, бедуины, саранча… Палестина не в состоянии прокормить евреев, если сионистское движение примет широкие размеры. Вы задохнетесь в этой банке с песком хуже, чем даже в вашей злочастной черте оседлости, не говоря уже о том, что в Палестину вас покуда не пускают, да если и пустят, то ни турки, ни европейский контроль не оставят вам той самостоятельности, какую под протекторатом просвещенных мореплаваталей9 вы можете приобрести и развить в Уганде. Не забудьте, что эмиграция свободного еврейства из Палестины началась задолго до Веспасиана!.. Палеcтина не решает экономических вопросов еврейского рассеяния. А Уганда – рай! (Амфитеатров 1905:14).
В ответ на эти вроде бы не лишенные трезвого взгляда на вещи аргументы Нахум приводит притчу, смысл которой сводится к тому, что рай – это не место покоя и удовлетворения телесных желаний, а форма исполнения веры, и с этой точки зрения Уганда раем быть никак не может.
Что мне Уганейда, – говорит он рассказчику, – когда я ищу Сион? Разве Африка – Ханаан? Разве Уганейда – Иерусалим? Если один такой Герцль имеет силу собрать Израиль в Сион, я его человек. Если у Герцля нет силы для Сиона, я скажу ему: «Господин доктор Герцль! Сделайте мне, прошу вас, милость, оставляйте старого Нахума в покое починять часы в Вологде!., (там же: 19).
Свой мятежный характер и антиромановские настроения Амфитеатров продолжал проявлять и в Италии – так, в частности, одну из демонстраций в Риме, организованную левыми партиями в качестве протеста против российской политики (1905 г.), он поддержал, обратившись к демонстрантам с такими словами:
Благодарю римский народ от имени либеральной партии за эту красноречивую демонстрацию и симпатии к нам… (цит. по: Мизиано 1972:120).
Амфитеатров прожил в Италии до 1916 г., после чего вернулся в Россию, но после прихода к власти большевиков, летом 1921 г., вновь совершил эмиграцию и весной поселился в Италии уже навсегда. Оба этих итальянских периода в биографии писателя изучены достаточно полно (см.: Гарэтто и др. 1993: 73-158; Гарэтто 1997: 339–621; Гарэтто 2006: 344-53), однако имеющиеся сведения о его знакомстве с Рутенбергом крайне скудны. Между тем доподлинно известно, что они были хорошо знакомы и поддерживали добрые отношения. См., к примеру, письмо Амфитеатрова Горькому из Кави ди Лаванья (сентябрь 1909 г.), в котором он сообщал:
Провел у меня два дня Рутенберг. Очень хорош и прочен. От мании преследования освободился, подозрительность и неврастению избыл, производит впечатление сильное и рабочее. Всем нашим замечательно понравился (Горький и русская журналистика 1988:162-63).
О том же речь идет и в другом его письме тому же адресату (7 сентября 1911 г.):
Был на днях, проездом к месту служения, Рутенберг, очень веселый, оживленный (там же: 336).
Именно к Амфитеатрову отсылает Горький Е.П. Пешкову, вероятно обратившуюся к нему с просьбой разузнать адрес Рутенберга (письмо от 25 августа (7 сентября) 1912 г.) (Горький 1997-(2007), X: 105).
О том, что Амфитеатрову принадлежит своего рода посредническая роль в знакомстве Рутенберга с Жаботинским, мы еще скажем. Годы спустя, 17 августа 1932 г., писатель обращался к редактору рижской газеты «Сегодня» М.С. Мильруду с просьбой раздобыть адреса Жаботинского и Рутенберга (Абызов, Равдин, Флейшман 1997, II: 320), а до этого упоминал обоих в книге «Стена Плача и Стена Нерушимая» (первое изд.: Белград, 1930)10, где писал о том, что являлся
свидетелем, почти что очевидцем, как В.Е. Жаботинский и П.М. Рутенберг вели с поразительной энергией пропаганду организации 40-тысячного еврейского легиона и заставили еврейский капитал осуществить ее, несмотря на то, что они сами, – не знаю, богаты ли теперь, – но тогда были бедны, как две синагогальные крысы (Амфитеатров 1931: 43).
После Италии Рутенберг и Амфитеатров встретились в революционном Петрограде. Об их близких отношениях свидетельствует, например, такая фраза из дневника В. Амфитеатро-ва-Кадашева, сына A.B. Амфитеатрова, относящаяся к 26 октября 1917 г., т. е. ко времени, когда большевики захватили Зимний дворец, одним из защитников которого был Рутенберг:
О падении Зимнего я узнал лишь сегодня утром. Вчера вечером мы с ночевавшим у нас папой отправились в «Вольность»11, сидели там до выпуска. За это время шел непрерывный телефонный звон: звонил Рутенберг, что не может выбраться из дворца и приехать к нам ночевать, как условились утром… (Амфитеатров-Кадашев 1996: 493).
Следует думать, что в годы послереволюционной эмиграции Рутенберг и Амфитеатров не встречались и не переписывались – по крайней мере, никаких следов ни того, ни другого не сохранилось. В 1924 г. Амфитеатров вспомнил Рутенберга в связи с рассказом Л. Андреева «Тьма» (статья «Русские материалисты»):
«Тьма» возникла из приключения П.М. Рутенберга, сыгравшего некогда столь важную роль в развязке трагикомедии Гапона, а ныне благополучно орошающего Палестину иорданскими водами. Даже наружность «революционера» в «Тьме» написана с тогдашнего Рутенберга. Но кто знает сколько-нибудь последнего, что же общего может он изыскать между Рутенбергом и героем «Тьмы»? В «Тьме» Рутенберг – Андреев, если бы Андрееву случилось быть террористом и укрываться от сыщиков в публичном доме (Амфитеатров 1924: 3).
В Италии Рутенберг познакомился с писателем Андреем Соболем, который после бегства с Зерентуйской каторги в 1908 г. жил в эмиграции, и в частности в Италии. Об этом знакомстве мы судим по более поздней обрывочной записи в дневнике Рутенберга, принадлежавшей, судя по всему, не сохранившейся более пространной записи («Тогда в Италии встретил Андрея Соболя. Позже роман "Пыль”12. Все его мысли были тогда о России»). Сам А. Соболь о встрече с Рутенбергом, насколько нам известно, нигде не упоминал – скорей всего, она ему не запомнилась или не показалась важной или интересной. Зато запомнилась встреча в Сан-Ремо с другим революционером (Соболь примыкал к эсеровской партии) – Савинковым, о котором он писал как о «человеке поразительной яркости».
Я видел его в Италии в Сан-Ремо, в конце 1913 года, – рассказывал Соболь в очерке «Савинков», – когда в петроградском журнале «Заветы» печатался его роман «То, чего не было», когда в редакцию летели письма возмущения, тогда в Париже собирались подписи для коллективного протеста. Среди протестующих были и близкие его друзья, соратники и люди, которых он любил и ценил.
В тот день коллективный этот протест читался вслух. И, помню – на вопрос одного из присутствующих «Что же будет?» – он усмехнулся и ответил:
– Роман будет закончен.
И печатание романа продолжалось (Соболь 1919:1).
Роман Соболя «Пыль», также понаделавший много шуму среди читателей, в котором критика в один голос отметила прямое ропшинское (савинковское) влияние (см.: Михайлов 1915: 21;
Ильинский 1915: 40-3; Полонский 1915: 390-92; Колтоновская 1916: 39–41, и др.)13> в отличие от «Коня бледного» и «Того, чего не было», тематически был сдвинут в сторону антисемитизма, которым оказалась заражена революционная среда, т. е. те, кто решительно взялся излечить людей от всех мировых болезней. «Пыль» задумывалась и писалась именно в то время, когда Соболь встречался с Рутенбергом (1913 г.), и рутенберговская фраза о том, что «все его <Соболя> мысли были тогда о России», возможно, как раз и свидетельствует о каком-то разговоре вокруг этого романа.
Свои отношения Соболь и Рутенберг продолжили и развили в Москве весной-летом 1918 г., где последний оказался после освобождения из «Крестов». В RA сохранилось письмо Соболя Рутенбергу, написанное 20 февраля 1925 г. из Сорренто, где писатель лечился после покушения на самоубийство14. Встречавшийся с ним там Ходасевич писал после его смерти:
Соболя я знал лет десять, но не коротко. Ближе я с ним познакомился лишь в начале 1925 года, когда внезапно приехал в Сорренто и поселился в пансионе «Минерва», всего лишь через дорогу от меня. Иногда мы переговаривались со своих балконов. Из Сорренто Соболь уехал прямо в Москву. Из эмигрантов я, вероятно, был последним, видевшим Соболя.
Могу засвидетельствовать, что большевики в его гибели решительно не повинны. Соболь явился в Сорренто в начале февраля. Месяца, кажется, за два до этого он покушался на самоубийство: отравился морфием. В то же время перенес воспаление легких – и приехал в Италию ради отдыха и поправки. О причинах самоубийства рассказывал он подробно, многократно и правдиво: они были вполне «личного свойства». Ни тени политики или общественности в них не было.
Далее Ходасевич приводит текст соболевской записки, датированной 19 февраля 1925 г. и обращенной к нему и «еще к двум лицам»:
Как будто переписка из двух углов. Если не собираетесь спать – приходите сейчас ко мне в гости: мне очень тоскливо сейчас, я побеседую с вами, угощу вас всех вином. Анд. Соболь. 2 ч. 15 мин. дня (Ходасевич 1926: 3).
Через 10 лет Ходасевич вновь вспомнил о Соболе в связи с годовщиной его смерти. В рубрике «Литературная летопись», которую он вел вместе с Берберовой под общим псевдонимом Гулливер, о Соболе говорилось примерно теми же словами, что и в публикации десятилетней давности – скромное дарование, искренний, но творчески вторичный писатель, запутавшийся, несчастный человек:
Литературное наследие, им оставленное, не представляет интереса. Но в жизни он был очень милым, немного сентиментальным, немного безалаберным, но добрым человеком и хорошим товарищем.
Ходасевич вновь вспоминает встречу с ним в феврале 1925 г. в Сорренто:
В начале февраля 1925 г. он приехал в Сорренто. Был худ, сер лицом, говорил еле слышным голосом. Политические и литературные дела его еще занимали, но от этих разговоров он неизменно переходил к личным своим делам, и о них мог говорить часами, с подробностями, от которых слушателей порою коробило. Кончались эти разговоры неизменно одним и тем же: Соболь объявлял, что кроме самоубийства выхода у него нет (Гулливер 1936: 7).
В этой заметке Ходасевич сообщает новые подробности о тогдашнем состоянии Соболя:
Он пытался работать, но дело не шло дальше нескольких строк. Иногда он ездил на велосипеде по окрестностям, но большую часть времени спал и пил красное вино. От этого состояния его внутренние страдания усиливались. Своего творческого бессилия он боялся и стыдился. Он писал московским друзьям, что работает над романом, что даже закончил уже первую его часть. Потом вдруг написал, что в его отсутствие ветер ворвался в его комнату и унес в окно все исписанные страницы, из которых не уцелело ни одной (там же).
В состоянии привычного душевного кризиса Соболь обратился к Рутенбергу. Причем письмо ему он отправил 20 февраля, т. е. на следующий день после описанной Ходасевичем нахлынувшей на него волны тоски и отчаяния. Едва ли Соболь всерьез рассматривал обсуждаемую в письме возможность перебраться и устроиться в Палестине – слишком сильна была в нем привязанность к России, слишком туманна перспектива того, чем бы он стал там заниматься, и слишком непостоянны одолевавшие и короткое время спустя покидавшие его чувства. Так что обращение к Рутенбергу было продиктовано скорей всего одним из временных соболевских настроений, которые выражали постоянный внутренний разлад писателя с настоящим и были криком-призывом о помощи. Вместе с тем письмо Соболя к Рутенбергу представляет известный интерес и как живое отражение этих метаний, и как сам по себе любопытный факт его биографии, которая до сегодняшнего дня еще не написана, и в особенности как документ, свидетельствующий о том, что Палестина в XX в. представала для русского еврейства не только местом, куда были устремлены взоры сионистов, но и как некая духовно-спасительная утопия, какую рисовало себе совсем несионистское воображение. Письмо приводится по оригиналу, хранящемуся в RA:
Sorrento, 20-го февр<аля> <1925>
Милый, дорогой Петр Моисеевич, неоднократно я старался из Москвы связаться с Вами, найти Вас, писал по различным, часто случайным адресам – так и не нашел Вас.
И вот я заграницей. И опять делаю попытку найти Вас. Вы мне очень нужны, мне нужна Ваша помощь. Если Вы только не успели уже обо мне забыть.
Как я здесь и почему я здесь?
Милый Петр Моисеевич, мне было очень худо и тяжко. Особенно последний год. Причин было много, и мне трудно об этом сейчас говорить. Скажу только пока вкратце и сухо.
Ну, вот – мне было тяжко – нравственно, душевно. В ноябре месяце я травился. Как видите, неудачно. Уцелел, к сожалению. Пришел я на третий день в себя и понял, что я жив и что опять надо тянуть канитель. И уже в больнице я свалился с крупозным воспалением легких. Прохворал 2 месяца. Встал – и понял, что нужно переменить климат на время, чтоб окончательно не обалдеть.
Напряг все усилия – и вот очутился здесь: согреться, прийти в себя.
И, придя в себя, подумать о том, как быть дальше, как жить дальше.
Я пришел в себя. Мне все еще худо и невкусно: тяжело умирать, но еще тяжелее недоумереть.
Ну, ладно. А теперь о деле. Что мне нужно от Вас? – многое, милый Петр Моисеевич.
Рвать с Россией я не могу и не хочу, это свыше сил моих, да и как писатель я без России буду мертв.
Но на года два я должен отойти и от России, и от своих личных всяких дел. Мне нужна, хотя бы на время, но другая жизнь.
Я хочу, чтоб Вы помогли мне перебраться к Вам. Я приму любую работу в любом, хотя бы безлюдном месте. Я готов делать все, что угодно: землю рыть, дрова рубить, глину месить. Я очень вынослив. Я не силен физически, но чрезвычайно вынослив и работы не боюсь.
Но я почти без гроша денег. Чтоб приехать сюда – я напряг все усилия, здесь со своими крохами я долго продержаться не смогу при всей экономии, так что в этом смысле у меня дела дрянь.
Тем более нет у меня связей на предмет получения разрешения на въезд в Палестину.
И вот тут – и в первом и во втором случае – мне нужна Ваша помощь. Когда-то Вы относились ко мне чудесно. Не знаю, помните ли Вы еще меня. Может, забыли?
Хотя нет, – этого не может быть.
Так вот, милый Петр Моисеевич, для чего я хочу найти Вас и в чем мне нужна Ваша помощь.
Я буду ждать Вашего ответа. Так или иначе, но отзовитесь, помните, что я жду Вашего ответа с большим нетерпением, примите во внимание, что я еле держусь материально, потому ответа своего в долгий ящик не откладывайте. Даже если Вам что-либо в этих смыслах сделать трудно – все равно отзовитесь, хотя бы для того, чтоб я мог услышать Вас и знать, что не пропало мое письмо впустую.
И еще одно – милый Петр Моисеевич – это письмо, каков бы ни был Ваш ответ, должно остаться только между нами.
Всего, всего лучшего. И – не забывайте меня.
Ваш
Андрей Соболь
Адр.: Sorrento
Pension Minerva
Andrea Sobol15
Реакция Рутенберга на это послание нам не известна. Представляется, что ответ в любом случае должен был быть отрицательным или его не было вовсе: Рутенберг вряд ли мог помочь Соболю, даже если бы очень захотел. Во-первых, потому что Палестина менее всего была приспособлена в то время служить прибежищем для тех, кто искал отдохновения и смены обстановки, а во-вторых, зная немного Соболя, он понимал, да, собственно, писатель и не скрывал этого, что, если надумает ехать, задержится там ненадолго16.
Даже из этого короткого обзора встреч, знакомств и отношений Рутенберга с деятелями русской культуры и общественной жизни видно, что к одному пересматриванию «в тиши» своего отношения к еврейству и еврейскому вопросу его итальянская жизнь не сводилась. О том, чем она оказалась конкретно заполнена, – об этом в следующих главах.
________________________
1. В 1905 г. демократическая итальянская общественность с напряжением следила за происходящими в России событиями. Итальянский поэт Джованни Пасколи (1855–1912) одну из своих поэм посвятил трагедии 9 января (Tamborra 2002:135).
2. Рутенберг поселился в Италии в январе 1907 и прожил здесь до мая 1915 г.
3. В некрологе В. Жаботинского, опубликованном в «Новом русском слове» (1940. 27 октября), М. Осоргин вспоминал:
Мы познакомились <Осоргин и Жаботинский> в Риме. Думается – в самом начале войны, в 1914 году. Боюсь ошибиться, назвав цель посещения им Рима совместно с Рутенбергом, моим старым знакомым и революционным соратником. Во всяком случае это путешествие было «дипломатическим», и мне довелось познакомить их обоих с тогдашним болгарским послом в Италии Ризовым. О чем они беседовали с Ризовым – дело не мое, но помню, что, вернувшись, на мой вопрос Жаботинский ответил со своим обычным юмором, как отвечают министры любознательным журналистам:
– О, беседа прошла в самых дружеских тонах и с прекрасным результатом. Мы обещали Болгарии Салоники, Ризов обещал нам Палестину (Осоргин 1992: 79).
Осоргин здесь неточен: в начале войны Жаботинский не мог быть вместе с Рутенбергом в Риме – они познакомились только в апреле 1915 г. (см. об этом в 4-й гл. данной части). Но если автор мемуаров ошибается только в сроках, а во всем остальном память его не подводит, то к числу знакомых, которых Рутенберг приобрел в Италии, следует прибавать еще болгарского посла в Италии Д. Ризова.
4. усердие, рвение, поспешность, готовность сделать что-либо’ (Фр.).
5. Николай Степанович Авдаков (1847–1915), горный инженер. Директор Рутченковского горнопромышленного общества, председатель правления Общества Брянских каменноугольных копей, директор правления Макеевского железоделательного завода. Действительный статский советник. Председатель совета синдиката «Продуголь», в течение пяти лет (1900–1905 гг.) возглавлял Совет съездов горнопромышленников Юга России, с 1907 г. председатель Совета съездов представителей промышленности и торговли.
6. Имеется в виду итало-турецкая война 1911–1912 гг., объявленная 29 сентября.
7. О Шалом Алейхеме в Нерви см., например, в воспоминаниях: Чаговец 1984/1939: 214-39.
8. Дом Г.В. Плеханова (С.-Петербург). Фонд Л. Дейча. Ф. 1097. On. 1. № 403. Л. 1.
9. Т. е. англичан. Выражение восходит к реплике Расплюева, одного из персонажей пьесы A.B. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1854):
Англичане-то, образованный-то народ, просвещенные мореплаватели…
10. Основной пафос этой книги – в сравнении того, с каким трепетным чувством относятся евреи к своей главной святыне – Стене Плача и какими варварами являются российские большевики, разрушившие в Москве один из символов национальной истории и культуры – Иверскую часовню. До Амфитеатрова эту параллель – Стены Плача и Кремлевской стены – развивал в рассказе «Стена плача» В. Ютанов. Его главный герой Борис Петрович также сравнивает иерусалимскую Стену с Кремлем, разрушенным в годы революции:
Осенней непогодью, когда холодно и сыро в каморке стало, растапливал он печурку обрывками бумаг и книг с чердака дома церковного и обрел картинку из «Нивы» – останки стены Иерусалима древнего – «стеной плача» называемой… Евреи около нее в талесах и с молитвенниками. Знал Борис Петрович картинку эту и всегда злорадствовал: – Поделом! Так и надо! – А тут задумался. Тоже был город, святой город, и исчез. Исчез по грехам. Так вот и теперь. Погиб Кремль, нет больше его в мире, благоденствии и чистоте, и не будет. А если и вновь явится он и загудит Иван Великий, то уже не для него, Бориса Петровича, ничего общего с новым Кремлем не имеющего (Ютанов 1923: 93).
В эмигрантской критике на книгу Амфитеатрова откликов почти не было. Объясняя молчание рецензентов, Гиппиус 29 июля 1932 г. писала ему:
Теперь два слова из другой оперы, а именно, Вашей. О Вашей книге «Стена плача». Когда начинается дело о книге, то меня уже от правды (моего мнения, только!) не удержать, я его обязана – кратко ли, длинно ли – но с точностью высказать, ни с чем не считаясь. Оттого и не пишу теперь нигде о книгах, ибо никто этих точных моих мнений не любит: нельзя, мол, в эмиграции, на одной, мол, соломе лежим. Впрочем, ругать и «советские ростки» нельзя – не патриотично. Вашу книгу ни одна газета не позволила бы серьезно хвалить (за то, что похвалы в ней достойно), но и бранить тоже не позволила бы, хотя по разным причинам. Вот объясняйте это, как знаете, но – факт. Я его понимаю (Гиппиус 1992: 299–300).
Из немногих отзывов на амфитеатровскую «Стену» следует назвать рецензии A.A. Кондратьева в вильнюсской «Нашей жизни» и на 2-е издание – в «Волынском слове» (1930.18 сентября).
11. Амфитеатров в это время редактировал газету Совета союза казачьих войск «Вольность».
12. См. упоминание об этом романе в приведенном выше фрагменте из письма В.Е. Мандельберга Л.Г. Дейчу. Роман печатался в журнале «Русская мысль» (1915. №№ 1–4), когда Рутенберг находился еще в Италии, и не исключено, что обсуждал его с Мандельбергом.
13. Настроенный по отношению к «Пыли» в особенности критически,
А. Лаврецкий (И.И. Френкель), как кажется, подозревавший автора в некоторых психологических патологиях (и отчасти не совсем напрасно), именно к ним сводил основной пафос романа:
Собственно говоря, никакого романа нет; романическая ситуация слишком уж слабо и бледно намечена. Есть лишь исповедь о своем душевном надрыве (Лаврецкий 1916: 39).
14. См., напр., в письме жившего в это время в Сорренто М.Горького Д.А. Лутохину от 23 февраля 1925 г.:
Приехал Андрей Соболь, рассказывает о литературе (Горький и советские писатели 1963:126).
15. Впервые опубликовано: Хазан 2006а.
16. Это было не первое письмо Соболя в Палестину: 10 марта 1922 г. он писал туда же своему старому и доброму знакомому Л. Яффе (см.: Хазан 2005: 105-08).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.