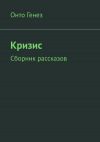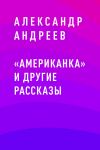Текст книги "Ассоциация содействия вращению Земли. Сборник рассказов"

Автор книги: Владимир Липилин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
Баба Таня и хоккей
В деревне Черновские Выселки живет баба Таня. Она там знаменитость. К ней местные рыбаки за советом ходят. Вот сидит она на скамейке перед домом, картошку чистит.
– Баб Тань, ты на что сазана-то в субботу взяла? – спрашивает тракторист по прозвищу Кутяй, проезжающий мимо на своем чудовищно заляпанном до крыши «К-700».
– На что, на что… На пуговицу, Витя, – отвечает баба Таня, спиралью укладывая в дырявое ведро картофельную кожуру. Чищеные корнеплоды в эмалированную чашку с водой летят.
– Какую ещё пуговицу? – высовывает Кутяй из окна косматую бОшку.
– Какую, какую, от шубы. Я в ней в шестьдесят восьмом году в Саратов ездила.
И ведь не врёт, насчёт пуговицы-то. Ее она прилаживает вместо крючка, сверху накладывает жмых. Сазан подходит, начинает тихонько тот жмых поедать, а тут пуговица мельтешит, он хвать ее и выплевывает, как мусор. Но не через рот, дуралей, выплевывает, а через жабры. И тут баба Таня подсекает. Кутяй – в шоке, давит на газ, едет на ферму навоз выгребать.
А вот старик Николай Петрович Куторкин, трижды ударник социалистического труда.
– Таньжа, – начинает пафосно он, – ты, небось, к финалу-то сил поднакопишь? Не уснёшь, чай? А то я могу прийти, одёргивать тебя буду.
– Верку свою одёргивай, – серьёзно отвечает баба Таня. – Дергач нашёлся.
Для человека постороннего разговор этот, возможно, несколько груб, и, может быть, даже ругателен. Объясняю. Помимо того, что баба Таня Горбаева является в округе одним из самых удачливых, как она говорит, рыбоудов -приезжают на здешнюю реку мужики, со спиннингами, с эхолотами, день сидят – дай бог на ужин коту налавливают, а баба Таня с удочкой из обычного орешника, леской ноль целых двадцать пять сотых миллиметра и крючком пятеркой, карпов по килограмму за смену по несколько штук вытаскивает. Помимо, говорю, всего этого она ещё слывет тут страстным поклонником хоккея. И не просто поклонником. Как формулируют аборигены, баба Таня в этот хоккей «кусками сердце вкладывает». От сердца, молвят они, почти уже ничего не осталось, так – всполохи. Но какие! В прошлом году я сам было тому свидетелем.
В деревню Черновские Выселки я попал случайно. Машина «УАЗ» серии 469 на кочке повредила кордан. Шофер махнул на попутках в район. Чинить деталь, я остался. Тогда-то мне и рассказали про эту бабку. Была средина мая. Сады утопали в цветенье. Когда я пришёл, баба Таня в террасе на газовой плите готовила щи. Она заметно волновалась. «Ты не знаешь разве? Хоккей сегодня», – говорила. – «Матч века. Россия – Канада». Она колготилась, и вместо квашеной капусты из банки, добавила из банки другой ложку вишневого варенья. Невзначай отдавила хвост путавшемуся под ногами коту и растопила монографией дочери по парадигме глагола, русскую печь.
К вечеру изба наполнилась теплом, щи с вареньем подходили, кот на печке обиженно зализывал хвост.
Телевизор у бабы Тани хоть и цветной, но довольно старый. «Рубин» называется. В задней избе, огромный, как гроб, он стоял на четырех тоненьких ножках, занавешенный ажурной салфеткой.
– Так-то хорошо показывает, чисто, – говорила она, откинув с экрана вуаль, но бывает, иной раз зарябит, так зарябит, что Жириновского с Кудриным путаю. Я тогда сразу знаю, опять Ванька Малюгин напился.
Ванька Малюгин – это сторож на ретрансляторной вышке в районе. Ни к каким приборам его, конечно, не подпускают. Но больше баба Таня там никого не знает. Поэтому виноват всегда он.
И вот она включает телевизор, мы усаживаемся. Я на топчане с тренькающими, словно лопнувшая струна, пружинами. Она – прямо перед экраном на стуле со спинкой, в линялом платочке, очках.
Темно и только синие тени от телевизора блуждают по потолку. Отзвучали гимны – российский и канадский. Конец условностям…
– Этот драчун-то американский Айзерман не играет уже. Старый, наверное, стал, – сказала баба Таня неизвестно кому.
– Так он же канадец был, – тихо возразил я.
– Ты меня не путай, – серьезно сказала баба Таня, – Канада-то, где находится? В Америке. Вот.
Бабе Тане 91 год. Однако энергии, как у гусеничного трактора ДТ-75. До сих пор ухаживает за огородом в 15 соток. Держит двух свиней, индюка Федю и кота по имени Беляш. Так, говорит, внуки назвали, коих у неё набралось от шести детей восемнадцать человек. Дети были подняты в одиночку. Муж умер в 57-м году, так и не сумев оправиться от туберкулеза. В войну он командовал партизанским отрядом где-то под Брянском. Она тоже странствовала, работала медсестрой в блокадном Ленинграде, с тех пор, не переставая, вяжет шерстяные носки и консервирует сало, овощи с огорода с запасом, на несколько лет вперёд. Но вот откуда взялась эта страсть к хоккею, баба Таня толком сказать не может.
– После войны, Василий мой играл один раз в Пензе, – вспоминает она про мужа. – Чудной был. В коньках, а с одной рукой. Три гола забил, – вспоминает она в темноте. И тени по потолку перемещаются, бегают. С 60-х годов, с тех пор, как у соседки Романовой Нюры появился первый в деревне телевизор, мимо нее ни один чемпионат мира не прошёл. Впрочем, были, конечно, перерывы. С конца 90-х по 2005-й, уж больно много родственников помирало у неё в этот период, не до хоккея было.
– Да и силы уж не те, – говорит баба Таня. Вот в 2007-м, в Москве, когда играли, полуфинал с финнами, помнишь? Я перед концом третьего периода че-то задремала так, захрапела, сама себя разбудив. Тут нашим и вкатили, шайбу-то. Помнишь?
– Малкин! – крикнул комментатор. – Овечкин!
– На агронома на нашего похож.
– Кто? – в недоумении спросил я.
– Овечкин. Тот тоже носится как угорелый на мотоцикле своем, на этом, как его «ИЖе». У Зинки Вороновой трёх кур задавил, у Верки Ермолаевой – одну. И всех насмерть.
Мы помолчали немного.
– Глянь-ка, сказала баба Таня, – а Быков-то сегодня в новом пиджаке.
– Мне кажется он всегда в чёрном, – спорил я.
– А я тебе говорю, в новом. В полуфинале в ёлку был пиджак, будто драповый. Настенкка на прошлой неделе в свой магазин такой привезла. Стоит, как «Жигули». И калоши, представляешь по триста пятьдесят рублей за пару. А сейчас, погляди, будто атласный пиджак на нем, сатиновый. И главное дело, не улыбнется никогда, Быков-то, с Тихонова, наверное, пример берет. Помнишь Тихонова. Серьезный был, как разведчик.
– Ой, ой, ой, – запричитала вдруг баба Таня. – Зачем же клюшкой-то прямо в лицо. Мать, поди, щас смотрит, сердце кровью обливается. Федоров, а ты куда глядишь. Дай ему в шлем. Будет знать, как лезть, – обратилась она напрямую к нападающему Сергею Федорову. Тот глянул в экран и поехал меняться.
– Эх, Рогулина на них нет, – вздыхала баба Таня. Мы году, в семьдесят третьем, кажется, смотрели с Олечкой Елагиной матч. Тоже с канадцами наши играли. И вот Рогулин-то их прямо за борт кидал. Берет за шкирку и бросает. Берёт и бросает, она жестами показала как. – Как щенков.
Рогулина не было. Наши безнадёжно проигрывали. Баба Таня мяла в руках с вой фартук и всё больше молчала. Иногда только произносила что-то вроде:
– Ну, куда ты, милый лезешь, вне игры же.
А потом случилось вот что. Стул свой баба Таня перенесла в угол. Залезла на него в темноте и чиркнула спичкой. Под потолком закачался скромный пучок света. Разгораясь, лампада осветила иконы. Баба Таня отнесла стул на кухню, встала на колени и зашептала:
– Заступница усердная…
Мне стало как-то неловко сидеть на диване, я встал и зачем-то ушёл в кромешно темную кухню. Хоккей я больше не смотрел, а только слушал. Я слышал, как за несколько минут до конца третьего периода сборная России сравняла счет. Но баба Таня не двинулась с места. Я слышал истошный вопль, когда Илья Ковальчук забросил победную шайбу. Но и тут баба Таня осталась на коленях. Только минут через пять она почти промчалась мимо меня вприпрыжку, проскакала как будто на детской лошадке, у которой только голова, а вместо туловища -палка. Потом неспешно вернулась, зажгла верхний свет. Лицо ее было тихим и усталым.
– Чаю-то с вечеру набуздалась, – степенно произнесла она. Тут в окошко наше постучали.
– Кто? – спросила баба Таня. Это был дед Куторкин. Баба Таня отперла ему в сенях дверь, тот поклонился в косяке и сипло сказал: «Ура, товарищи». Потом попил ковшом из ведра воды колодезной и спросил:
– Отвечай, Таньжа, с какого периода стала молиться? Небось, с начала третьего? Я чуть инфаркт не получил.
– Да на тебе пахать можно, – обессиленная присела на лавку баб Таня, опустила на колени совсем ватные руки.
– Третий чемпионат так, представляешь, – обратился ко мне Куторкин. – Когда в первый раз мы с ней смотрели, я прямо натурально заплакал, представляешь? И в церковь стал ходить.
– Грех мне, Петрович, будет, – сказала вдруг баба Таня.
– Это почему?
– Люди у Бога здоровья просят. Или там счастья. А я ему про хоккей.
Ленин и Америка
Фотограф Кунаев – человек в городке N. известный. Закрутив винтом бутылку водки, он выпивает её за 37 секунд и затем снимает так, что диву даёшься. Впрочем, эта необузданная страсть к выпивке толкает его к вечной изобретательности.
Кого только не притаскивал он в редакцию. Бесчисленных знакомых, собутыльников, каких-то негров с саксофонами.
А как-то звонит вечером, орёт сквозь шум:
– Как ты думаешь? Какой главный прием в репортаже?
– Эффект присутствия, – говорю. – А чего?
– Вот и ты тут, заладил: эффект присутствия, эффект присутствия. А Стенькин говорит, что главное в репортаже – водка. Кстати, хочешь написать про американца одного, скульптора, который Лениных и Сталиных лепил.
– Американец? Ленина?
– Ну, да. Тема – не фуфло. Железно.
– Ты ведь опять подсунешь бомжа какого-нибудь.
– Зуб даю.
Наутро Кунаев притащил в редакцию какого-то шустрого поджарого мужика. Он не просил червонец, и отказался даже от пива. Но по-русски шпарил и матерился.
Я отвел фотографа в коридор.– Какой же это американец. Ты на кирзовые сапоги его посмотри.
– Откуда я знал, – сказал огорченно фотограф, потому что терял бутылку.– Это мне знакомый один рассказал. Говорит, приехал, мол, на выставку упряжи для лошадей. Из самой Америки. А насчет сапог я подумал: ковбой, наверно.
Это потом выяснилось, что Америка – деревня на стыке трех областей – Рязанской, Нижегородской и Мордовии. Что мужик этот скульптор, ныне интересующийся лошадьми.
А сапоги его такие, потому что в кедах не пролезешь там..
Он зазвал нас в эту Америку. Мы еле выбили командировочные и стали собираться.
– Чудно как-то… Америка, – не унимался фотограф. И мужик рассказал.
Когда-то, ещё до революции, неугодных крестьян, какой-то барин отправил на выселки. За удалённость дорог, городов и весей, те прозвали место Америкой. Когда явилась советская власть, к Америке добавился эпитет Сов.
Так и жили люди. В Америке. Но со Сталиным, и.
…И вот мы на трёх лошадях с фотографом и Николаем Казаковым, как всадники, хрустя льдом в апрельских лужах, уносимся вдаль. Казаков зачем-то дал мне кнут. Раза три невзначай, я съездил им по уху фотографу. Из-под шубняка он показал мне увесистый кулак.
От городка К. в сторону Нижегородской области ехать километров 18. От коней валит клубами пар. С галопа они сбиваются на шаг. Начинается так называемая Нижегородская тайга. Елки, ручьи в лощинах, бревенчатый настил, занесенный песком.
В прорехе показывается Америка. Без небоскребов и Нью-Йоркских огней. Советская Америка – это три двора, пруд и памятник Ленину.
В одной избе живет Николай Казаков. Рядом баня, небольшая конюшня. В другой дом летом приезжает пасечник из села Кользиванова. А в третий, какой-то андеграундный музыкант из Москвы.
Этой деревни нет ни на одной карте. Дома были пустые. Председатель, в чьем ведении они находились, отдал их буквально за гроши. Собственно, благодаря удаленности места и лесу, в котором с годами все больше и больше бурелом заполоняет тропы, ничего и не воруют. Так, разве что зеки беглые из Мордовских лагерей или охотники забредут. Двери здесь открыты для всех.
Затапливаем печку, болтаем. Фотограф крутит радиоприемник, ловит, как он говорит, этой Америки «голос». «Голос» молчит.
– Зимой и я тут не живу, – говорит Казаков. – Зимой я в соседней деревне. Там у меня тоже избенка. Так что я вроде буржуя получаюсь. А если серьезно, то там у меня брат живёт, начальник конезавода. В лихие 90-е взял кредит, законтачил с немцами. Они ему породистых лошадей на племя. Сейчас поставляет их богачам из Самары, Перми, Нижнего.
Сам Николай Казаков здесь с 87-го. Когда-то закончил в Питере академию художеств. Помотался по городам. Разной дрянью, говорит, занимался. Бюсты вождей делал, памятники. В Минске, в. Потом скрутила тоска какая-то. Уехал к брату. Но и здесь занимался тем же самым. Чего он еще умел?
– Один раз, помню, – говорит Казаков, – когда я в райцентре жил, приезжает, значит, ко мне один большой чиновник из Нижнего. Как раз тогда мода пошла Лениных, Сталиных в офисах ставить. И вот он покупает у меня за доллары большой бюст Владимира Ильича. Потом звонит и говорит: «Выслал за тобой машину. Никак не могу придумать, куда вождя этого поставить. Ты же все-таки скульптор». Я приехал, глянул. На окошко – нехорошо. На столе – уж больно помпезно. А был в кабинете этого начальника шкаф такой старинный, невысокий. Вот, говорю, туда и поставь. Ну, кто ж знал, что он возле этого шкафа секретаршу свою стоя… это… того самого… пер, значит. Припечатает ее и жарит до посинения. И вот как-то от толчков его необузданных, Ленин возьми – и трах по башке этому члену партии. Он копыта и отбросил. Все человеку дала Советская власть: кресло, машину, деньги. Секретаршу, наконец. А Ленин, спустя 70 лет после своей смерти все и отнял.
Морозит. Тлеют угли. Фотограф хохочет. Выпил бутылку и хохочет. Я иду бродить по Америке. Кроме пустых изб и пруда от людей здесь осталась только околица из слег, береза с двумя скворечнями и этот памятник Ленину.
– Как Мамай прошел, – слышу я голос за спиной. Это Казаков вышел за мной, чтоб я не заблудился. В лощине кричит ребенком какая-то лесная птица.
Набродившись, сидим на крылечке, глядим на спутник, ловко огибающий звёзды.
– Америка, бля, Амурика, – выходит фотограф на крыльцо. – И какой мудак поставил в такой глуши этот памятник. Домов нету, а он, сука, стоит.
– Это я поставил, – тихо говорит Казаков. – Весело жила деревня, хорошо. И тут председатель сказал, что все деревни, как деревни, а в этой Америке все ни как у людей. Ни одного памятника. Вот они с районным начальством и обязали меня. После того, как его сюда привезли, один старик вышел и сказал: – П… дец Америке.
Затушил о ладонь папироску «Беломора» и ушел. И в самом деле, хотя, может, и не от этого, но с тех пор стали тут люди умирать потихоньку. Кто от чего. Половина разъехались. Так и не осталось никого. Домов уж нет, а он стоит. Сколько раз я просил трактористов: «Мужики, давайте снесем. А они ржут. Говорят: сам делал, сам и сноси. Даже за водку не хотят. Чудеса…»
Осень в Мещере
В тридцать девятом году писатель Паустовский явил на свет дивную повесть «Мещерская сторона». Хрустальным своим языком поведал он о тихих закатах, бакенщиках и паромщиках. Другой писатель, Пришвин, за эту повесть на него крепко обиделся. Ежу понятно, совсем не ревность взыграла в великом старце, просто – болел он душой за тот уголок. И в каком-то из журналов Пришвин ругательски ругал Паустовского за то, что туристы в панамках 30-х годов теперь ринутся туда, и истопчут все ромашки и донники.
И вот сегодня в Мещере век XXI. У каждой старухи мобильник, в сельмаге – колбаса семи-восьми видов, трактора по лизингу – немецкие. Но отчего-то больше недели не работают, противятся всем бюргерским нутром.
– Говно, – отрекомендовывают их механизаторы. – К нашей земле непривышные.
Впрочем, у руководства на сей счёт другая, отличная точка зрения. Как только трактора да комбайны приходят, механизаторы тотчас откручивают магнитолы. А поскольку немцы народ до оскомины последовательный, то собирают они эту технику так, что одно без другого не работает.
Вот и выходит, что с тех незабвенных, пришвинских пор здесь мало что изменилось. И хотя до белокаменной отсюда всего – ничего, тамошние события воспринимаются в Мещере не иначе, как события, творящиеся на Луне.
Здесь не любят трындеть о политике. Зато спроси этот люд о бедах, он без утайки выложит тебе все. Но как-то без нытья. Иронизируя и подтрунивая над собой.
Три дня с режиссером одного из рязанских театров мы колесили по тем местам на велосипедах.
…Быть на Рязанщине и не заехать в Константиново – дурной тон. В какое-то тургеневское тёплое, как молоко, туманное утро едва разглядели мы зеленеющую крышу усадьбы помещицы Кашиной, прототипа Анны Снегиной. Бродили по тропинкам. Пили чай на веранде. Здесь создан музей одной поэмы. Фотографии, письма. Уже на выходе из усадьбы экскурсовод показал английскую книгу переводов.
– Самые точные, – сказал он. – И ритм, и рифмы сохранены.
Но поэзия, как говаривал соперник Есенина Клюев, штуковина пресволочнейшая. Растет, как известно, из сора. Начинается, как всякое искусство, «с чуть-чуть». И исчезает, наверное, от едва уловимого, необъяснимого. Мы листали эту книгу. И в самом деле, сохранены были и ритм, и рифмы. Поэзии не было.
– Вот ещё, – сказал экскурсовод, протягивая амбарную тетрадь. – Показываем всем, как курьез. Вести дальше не стали.
Это был отзыв Жириновского, написанный мелким почерком. Целая страница излияний. И начинается так сильно: «Здравствуй, Серёжа…»
Затем мы еще долго бродили по скрипучим половицам музея и к вечеру тронулись дальше
.
Пекли картошку возле озера. На огонек приехал в телеге пастух. Долго сидел, курил. Указал, где спрятана лодка. Дернул за вожжи уснувшего мерина и узвенел телегой в соседнюю деревню за самогоном.
К утру, пастух вернулся без самогона, но с доярками. Они то и дело хохотали и запрокидывали назад головы, как кокетливые курсистки.
Я уложил в лодку удочки, одежду и, огребаясь единственным веслом, уплыл в самый конец водоема. Привязал лодку к сухой ветле, расчистил в водорослях «окно» и таскал оттуда добротных таких карасей. Где-то далеко у пропахших коровьими лепешками калд «били» перепела и дивным матом орали доярки.
Абсцентная лексика в сочетании с удивительными диалектными выражениями здесь вообще своего рода искусство. Если уж пошлют, то так красиво, что и не обидно. Посещавший эти места несколько лет назад немецкий журналист Томас Авенариус был просто в каком-то языческом восторге от крепкого русского словца. Приехав писать об охоте на волков, он два вечера подряд пил с одним трактористом самогон и записывал в блокнот его выражения. Затем у служителя пера из мюнхенской «Zeitung» осоловели глаза, остановилась рука, и он упал на стол. Тракторист влил в себя еще энное количество алкогольной влаги, махнул на немца рукой и ушел.
Но, пожалуй, самый искусный по части мата в Мещере дед по прозвищу Бандит. Немного жаль, что в печати невозможно выдать всех изысков его весьма аутентичной речи. Если бы дед захотел, то мог бы запросто заткнуть за пояс изрядное число академиков из Института русского языка им. Виноградова.
Впрочем, известен Бандит не только этим. Ходить к нему нам не советовали. «Человек он пропащий, – говорили о нём. – Даже кота своего споил».
Бандита дома не было. По старинке подпертая палкою дверь. Ни замка, ни запирки. Меж двойных рам пыльного окна, в паутине, дрожала бабочка. Тощий кот сидел на крыльце и усердно тер лапой правый глаз. Выражение морды у кота было таким, будто он не выходил из запоя неделю или съел что-нибудь непотребное.
Мы уж было, хотели уехать, так и не дождавшись старика. Но тут в вечерней тишине и запахе парного молока раздался скрип его телеги. Я разглядел его. Большие, удивительно свежие голубые глаза. Седая борода. Наполеоновская треуголка и китель времен 1812 года. Распрягая мерина, он выдал несколько матерных тирад, потом спросил:
– Чьи будете?
– Издалека мы. Журналисты, – молвил я.
– А-а… п… болы, – усмехнувшись глазами, сказал он.
– Выпить есть? – отогнув большой палец и мизинец, показал он.
Я кивнул на рюкзак.
– Заходи, – сказал Бандит. Кот брел за нами.
– Иди-и-и, пропойца, – открывая дверь, сказал он. – Веришь – нет, больше меня, сука, пьет. Сперва морщился, чхал, а потом как расчухал. Щас стакан одним махом, – бравадно гиперболизировал дед.
Достал с занавешенной полки стаканы, дунул в них и поставил на стол.
– Вот, гляди, – сказал он. Плеснул коту в порожнюю консервную банку. Кот жадно стал лакать.
– Ети его мать, – ухмылялся старик. – Понимаешь, – обратился он опять почему-то к моему напарнику, – одному пить херово. Этот ещё тут ходит, орёт. Дай, думаю, налью. И, знаешь, жизнь у нас щас пошла йо-о-о.
– Как звать-то его? – спросил я, надеясь услышать что-то вроде Кузьмы. Имя у кота оказалось весьма благородное, подобающее – Дрыщ.
– Больно утром ему паскудно бывает, – сказал дед. – Горлышки у бутылок прямо грызет, орёт… Но я с вечера ему немного оставляю, – нежно добавил он.
Я ерзал на стуле. Не давала покоя его одежка. Треуголка и китель с эполетами.
– Откуда это? поинтересовался я.
– А-а. Был тут у нас театр один из Мурома, – степенно пояснил он. – Сошёлся я с костюмершей. Все гастроли употребляли с ней по чуть-чуть. Ну… по литру после спектакля. Душевная баба. Уезжая, отписала мне эту одежу.
– Рассказывают, что когда-то ты искурил письма Пушкина? – говорю я.
– Кто сказал? – недовольно бубнит Бандит.
– Говорят…
– Говорят. До хрена че говорят, – он старался держать себя в рамках… – А ты в залупу-то не лезь, – сказал он сердито. Затушил папироску о подошву калоши, задумался, кинул бычок к порогу.
– Я ж не знал, что это его письма. Он скрутил новую цигарку и, отплёвывая крупинки махорки, сказал.
– Читал. Писано, как курица лапой. Бабе какой-то писал. Мол, ангел мой, люблю тебя. Тьфу.
– Откуда они у тебя?
– Батя мой раскулачивал усадьбы. Раскулачивали, сам знаешь, как. Расстреляют кого можно. Потом разбираются, че к чему. Батька впопыхах схватил старый ридикюль с бумагами и ассигнациями. Думал, ценное чё. А там денег-то – кот наплакал. Записки какие-то и эти письма. Он закинул его на чердак. Всю войну там пролежал. А году где-то в 50-м собрался я крышу железом крыть. Стащил бумаги. Порылся. Которые в печку, которые искурил. А письма эти долго валялись на окошке. Так и не смог прочесть толком. Почерк был никудышный. Как-то бумаги не было, я их и искурил. Приезжала потом с Питера какая-то фифа и очкарик с ней, спрашивали. «Хватились, говорю им. Уж я из них давно дым пустил. Все —дым, – философично заключил он… «Откуда-то узнали, что это письма Пушкина. Кто ж знал. Но с другой стороны – и правильно. Ежели б письма были какому-нибудь князю Вяземскому – дело другое, – щегольнул он знанием истории. – А тут… бабе. Эти бабы его в гроб вогнали. Скажу тебе: все беды из-за баб. Вот Есенин был. Тоже из-за баб сгинул. Говорят, алкаш был. А из-за кого он пил-то, спрашивается? Ты мне скажи? – дед яро смотрел на меня.
– Не… все беды из-за баб, согласился сам собою.
Помолчав, он поправил эполет и сказал: – Но ведь, б.., и без них никуда. Не будь их – стихов таких, поди, не было бы. Вот так, щелкоперы, – обратился он к нам. – Жизнь – мудреная штука. Это вам не писульки в газете чиркать или начальство обкакивать. Бандит ещё выпил и сказал:
– Завтра утром еду за жердями в Америку.
– Куда?
– В Америку, – степенно ответил он. – Тут недалеко. Верст семь будет.
Я, не отрываясь, смотрел на старика.
– Че глядишь. Деревня есть такая. Советская Америка. Крестьян, которые не поддавались раскулачиванию, сюда выселили. То ли сами они назвали, то ли в райсовете прикололись. Но название прижилось. Кореш у меня оттуда был, у него прямо в паспорте стояло место рождения Сов. Америка. Хотя сейчас нету там ничего.
Часов с четырех утра спать было невозможно. Где-то на дальних озёрах, как барышни, не устоявшие перед курортным романом, кричали журавли. Пахло дымом из печей и горячим хлебом. Сонный кот сидел у порога и щурился от пыльного луча солнца.
Бандит запряг мерина и, чмокнув, потянул вожжи. Темные следы от тележных колес остались на росе. По тихим ещё лугам тянулись копны сена. Пролетела цапля, крикнула.
Мы долго ехали по лесу. Потом блеснуло, как стекляшка в чеховском рассказе, озеро. Сгнивший дубовый крест да одинокая изба. Это все, что осталось от деревни в 33 двора.
– П…ц Америке, – сказал дед.
Я зашел в избу. Выцветшие фотокарточки каких-то людей валялись в старом комоде среди тополиных семян, шпулек без ниток. Керосиновая лампа висела на гвозде. Когда-то кому-то светила она.
Принялись рубить жерди. Бандит сказал, что хочет изготовить длинные оглобли и достать со дна озера свой старый мотоцикл «Panoni». Года два назад он по-пьяни упал на нем с откоса. Сперва, говорит, махнул рукой: хрен с ним. Теперь вот ветра захотелось.
Мы ныряли с товарищем до вечера. Резало глаза, сморщились, как в детстве после ловли головастиков, ладони. Мотоцикла не было.
Дед сидел, засучив штаны на берегу, и командовал:
– Правее, к осоке. Да куда ты, йо-мое. Во-от.
Наконец, мы плюнули и пошли на берег. Развели костер. Бандит достал хлеб и сало.
Еще раз глянул на плотину.
– Вроде отсюда я навернулся. А может, и нет, – рассуждал он сам с собою. – Потом ещё кого-нибудь попрошу. Хороший был мотоцикл, трофейный.
– А когда утопил? – поинтересовался мой товарищ.
Дед сощурился, вскинул глаза к небу:
– В семьдесят девятом, кажись. Точно. Я тогда еще здесь начальником был. Тюремной фермой заведовал. Ну, свиней, овец выращивали. План перевыполнял. Пятилетку давал за два года. У, что ты. Денег как у короля было.
Мы переглянулись.
Уже темнело. Я снял с телеги велосипеды.
– Чешите щас во-о-он на тот огонек. Потом возьмете влево и езжайте вдоль Оки до самой станции, – объяснял Бандит дорогу.
– Ну, бывайте.
Сухими, с черными ободками под ногтями, пальцами, Бандит сжал нам ладони и ухмыльнулся. – Хорошие вы ребята, хоть и п… болы…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.