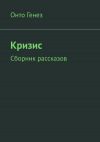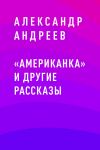Текст книги "Ассоциация содействия вращению Земли. Сборник рассказов"

Автор книги: Владимир Липилин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Дядя Лёша Андеграунд
1
Я переобулся. Только что купленные в райцентре Салми бродни сияли на солнце. Посидел, покурил, и обошел берег. В травах, завалившись на бок, лежали старые облупленные карбасы, ржавели отходившие свое усталые винты, поблескивали на солнце круглые, как линзы телескопов иллюминаторы. Никто не окликнул меня, не спросил, чего надо.
Покоцанная лодка нашлась у рыбачки Лиды.
Но везти меня на остров Лида ни разу не собиралась.
– И чего все прутся к этому е… нутому? – зудела она. – То сектанты, то нудисты, то зеки. Балабол он и гондон, – вполне внятно отрекомендовала рыбачка моего будущего героя. – Я не удивлюсь, если он вотрет тебе, что только он и есть хозяин того острова.
Она напялила галоши, мы спустились меж облепленных пушистых камней. Во дворе, как знамена чужих и совсем неведомых стран, полоскались на веревках нарядные половики.
– Вон, – кивнула она на лодку. – Правда, течет, паскуда. Но до острова, поди, дотянешь. Там, если что, ковшик.
Лида подоткнула подол, обнажив незагорелые величиной с переспевшие дыни колени, уперлась в камень и спихнула суденышко. Тугая волна долго не давала отчалить. Наконец, изловчившись, я кое-как вскарабкался на одну, будто на холм, стал виден рыжий проселок, ведущий к двум по-северному сработанным домикам, нужник и пес, дефилирующий меж медовых сосновых стволов с озабоченным видом, будто он из налоговой. Лида крикнула, пересиливая ветер:
– Как хоть тебя звали-то?
2
Говорят, Мантсинсаари в переводе с финского означает Земляичный остров. Место и в самом деле упоительное. Это самый крупный остров на северо-востоке Ладожского озера. Даже в выкладках сухой цифири характеристика его отчаянна и не скучна: 16 километров в длину, 7 в ширину. Два маяка. Шесть медведей, семь рысей, двадцать пять лосей, тридцать лис, два поселения бобров, несколько сотен зайцев, змей, ужей, енотов. И единственный ныне обитатель Клюня. Клюня – это не кличка, фамилия такая. Полное имя Алексей Иванович. По национальности – белорус. Хотя бравадно утверждает, что имеет внушительные французские корни.
Я греб к нему на лодке, как подыхающий во время перехода через Суэцкий канал, галерщик. Мне просто хотелось увидеть воочию, что за нахал такой этот Клюня, разрешивший себе жить так, как велит его заполошное сердце. Кто дал ему такое право? Какое такое ведомство разрешило? Минфин, пенсионный фонд? Быть может, какое-нибудь загадочная структура под кодовым названием Агентство тёплых дождей?
Через час болтанки оказался в бухте с растрепанными веревками водорослей. Привязал лодку к дикой яблоне, и зашлепал голенищами резиновых ботфортов меж греющихся на камнях гадюк по дамбе. Когда-то здесь шесть раз в день ходил паром, перевозил технику, людей, скот на пастбище. Но это было так давно, что теперь не вспомнит ни одна местная чайка, только вода.
Дорогу утягивает в ельник, идти по ней легко и приятно. Она прямая, как спица.
Километров через пять распахивается поляна, поросшая белым по грудь цветком. Продираешься сквозь травы, путаешься в нитях, дуреешь от запахов и вдруг наталкиваешься на забор с коровьим черепом. Чуть дальше дом с шиферной крышей, которую почти разобрали ветра. В некоторых местах, как древние автомобили знакомого всем чудака, стоят только печки.
Мятые тропы уводят в сторону. «Наверно, туристы», – думаю я, затем обнаруживаю вытоптанное место, как для привала. Но ни мусора, ни следов кострища, ни консервных банок. Только несколько раскопанных муравейников. И тут до меня, идиота, доходит, что это простой русский мишка. Обыкновенный, проще говоря, бурый медведь, Ursus Arktos. Наелся муравьев, валялся тут, кайфовал, слагал из облаков воздушных лошадок и овечек.
Колени стали ватными, по спине, будто уж прополз. Я ускорился и нервно грянул: «Не для меня, пряде-о-о-от вясна. Не для меня Дон разольется».
Каким чудом отыскал потом дом аборигена, до сих пор не представляю.
Островитянин стоял у поленницы ко мне спиной и тягал пудовую гирю.
– Пять, четыре, три, два, один, – кряхтел он.
– Вы Алексей Иваныч Клюня? – как можно спокойнее, чтобы не напугать старика, уточнил я.
Он опустил гирю на траву и только потом обернулся:
– Ну и?
3
– А знаешь, какой самый верный способ, когда встретишься с медведем морда к морде, избежать смерти? – веселился он, выслушав о растревоженных муравьиных кучах. – Медведи очень не любят человеческого говна. Прямо терпеть его не могут. Поэтому надо немедленно набрать в ладонь как можно больше этой субстанции и кинуть ему в морду.
– А где ж так быстро взять-то?
– Хм. К тому времени, как ты увидишь его, такого добра у тебя будет предостаточно, – улыбнулся он своей, вероятно, не раз уже использованной шутке.
– А вообще, если серьезно, при встрече с медведем надо истошно орать и смотреть ему в глаза. Они не любят шума и уходят.
– Хотелось бы глянуть на это воочию, – бурчу я.
– А че. Я однажды повстречал в лесу одного задорного. Он встал на задние лапы, посмотрел и как будто сквозь зубы сплюнул. А если медведь встает как в цирке, – это, без дураков, собирается атаковать. И не пройти мне было, не проползти. Ну, я взял громадную ветку, как пишут в милицейских отчетах, похожую на дубину, и как заору на родном наречии, как понесусь на него. Он опустился на четыре лапы и смотрит, мол, что за упырь? Развернулся, подумал маленько и, не торопясь, с достоинством, ушел в тайгу. Показалось, что даже башкой покачал с досады. А я жив остался. Так —то мне не жалко, смородину, малину пусть рвет ходит, но он ведь, засранец, яблони ломает. Осенью явился прямо в сад, Тайга, (собака Клюни, лайка) прямо охрипла, а он обнял ствол, как электрик, трещит ветками, только лапой иногда отмахивается и чавкает, кайфует, глаза прикрыв. Недавно опять приходил, я взял в валенке порох сжег и отнес туда, за сад. Недели две уже не было. Зато рысь двух котов утащила, остался один. Вот он, шкура. Кунак зовут. А умный, паскуда. Живых змей мне приносит. Бросит под ноги, на, мол, хозяин. Жри, добыча.
За час разговоров, пока мы угощались тушеным в моркови хариусом с лапшой «Доширак», Клюня даже не поинтересовался у меня, кто я и зачем вообще сюда приперся. Достаточно было имени. Бубнил что-то радиоприемник на аккумуляторных батареях. В задней избе стояли старинные койки с металлическими шишками, шкаф. К створкам трюмо были прикреплены вырезанные давным-давно из советских журналов портреты Ленина, Сталина и, ясное дело, Лукашенко.
Потом мы шли с ним какими-то неведомыми тропами к северному маяку, в руке его, будто у калика перехожего, была крепкая ореховая палка для пеших походов.
– Алексей Иваныч, как вы тут оказались-то? – сказал я ему в спину.
– Эк, ты хватнул, – остановился, усмехнулся. – Это все равно, что про монголо-татар вспоминать. Мы сюда приехали в 1952-м. Здесь у матери брат во время войны погиб, поэтому из всех предложенных мест выбрали именно это. А вообще же на остров направляли спецпереселенцев, – говорит он, пренебрегая тропой, идет рядом, по травам. – В основном тех, кто не выполнял нормы по трудодням. Русские, белорусы, хохлы, татары, карелы, киргизы, эстонцы, литовцы, немцы, евреи. Даже финны были, только уже наши, советские. Шутка ли, три деревни, почти полторы тысячи человек. Как мы тут весело жили! Чума! Клуб был. Случались, конечно, драки. Но в основном, кто кого любил, тот с тем и шёл.
По слегам преодолели болото.
– А я тогда зда-аровый был бычара. Дизель делали мужики, а я им деталь в сорок килограмм одной рукой подавал. Один раз комсорг увидел, рассказал в правлении. Вызывают меня туда в Пятикарну. Будешь в соревнованиях участвовать сегодня. Ладно, говорю. Чего нам, кабанам. Пришли на стадион, а я в кальсонах под штанами. Ну, гири потягать дали, сказали, только рубаху сними, а это же двоеборье, надо потом стометровку бежать. Там ни в какую. В кальсонах не выпскают. Девчонка знакомая подходит, шепчет на ухо: «Я сегодня новые трусики надела, давай тебе их отдам, ты пробежишь, и обратно вернешь». Я понимаю, что идиотизм, но как колхоз родной подставишь? Пошли мы, значит, в туалет. А там между мужским и женским стенка не до потолка была. Прогал. Я ей кальсоны передал она мне эти трусики свои.
– Рейтузы?
– Зачем? Обычные, голубенькие такие. Из ситеца. И вот я в них как дал жару! Рекорд района десять лет держался. Сделал круг почета и опять к туалету. А там, у женского, уже очередь, злятся «Что за засранка там там уселась» – орут. Смех один. И, знаешь, как было. Легкоатлетам платили командировочные 25 рублей, а двоеборцам – 50. Мы ели в дешевой столовой на деньги нашего руководителя Толи, а потом на мои шли пиво в парк пить. И все чинно, без шума и наглежа.
Он надолго задумывается. Лес обступает нас по обеим сторонам. Сосны кажутся берегами, а небо -рекой. На дальнем озере плачет выпь, как будто в горлышко пустой бутылки дует.
– А потом я сел на три года.
– В смысле? Мотал?
– Ну, да. Будильник одному члену партии об башку разбил.
– Насмерть?
– Будильник да. Его покалечил изрядно. Он ходил такой борзый, везде был прихват, ногу винтом загибать умел. Пришел в один дом, а там мы сидим с девчонками, мирно беседуем. И он одной говорит, опять п… ду на выданье принесла. Представляешь, при всех. А я же шебутной, рьяный. Хотя она и не подружка мне совсем была.
В тюрьме Клюне понравилось.
– Кормили как на убой, деньги всегда имелись. Я мог пойти в магазин и купить себе, допустим, костюм. Или пальто. А если мне не глянется ничего, выбрать материал и сшить в мастерской. Спортивная площадка, тренажеры всякие. Выходной – только твой день. Хочешь – спи, хочешь по городу шатайся.
– Это где такой был непридуманный рай?
– В Желтых водах, Донецкая область. Там уран добывали. Потом, при Ельцине демократы везде трындели, что его извлекали заключенные. Да ни хрена подобного, уран добывали добровольцы. Заключённые строили им жилье. И какие это были квартиры! Хоромы! Если холостой – то двухкомнатная невероятной планировки, если – женатый– апартаменты. Правда, больше полугода из них мало там кто тянул. Пятки гнить у живых начинали. Глядь, а в холостяцкой квартире уже другой живет. Такой же. Выходило, что мы строили тот город для покойников. Тогда не знали, что такое этот уран, и куда он вообще нужен. Что ты, мне девятнадцать лет всего было. Я думал такие чудесные тюрьмы у нас везде.
Мы выходим к маяку, трогаем его теплые из кованого железа бока, усаживаемся на пригорке.
Тихо. Пейзаж – как будто старый коврик, помотавшийся по коммуналкам, к горизонту невидимыми гвоздиками приколотили. Вдалеке на фоне полярного выгоревшего солнца, тарахтел маленький баркас с мигающим зеленым огоньком на борту.
4
До сороковых годов остров Манстинсаари принадлежал финнам.
– Мой сват здесь пулю в задницу схлопотал, – говорит Клюня.– Я его спрашиваю: ты, что тикал, дядь Вась? Финны же знали каждую тропку тут, и сколько здесь их сил было собрано наши даже не догадывались. Чего только стоят их знаменитые «кукушки». Снайперы. Залазили под пургу на деревья, чтоб следов не оставлять и ждали, подпускали поближе. Отсюда нельзя было взять остров, с Пятикарны – тоже. Для финнов Мантсинсаари был чем-то вроде нашей Брестской крепости. Он не был отдан врагу, то есть нам, ни во время советско-финской войны, ни во время Великой Отечественной. Наши уже ушли далеко на север, а взять Мантсинсаари так и не удавалось. Дальнобойные орудия, расположенные на острове, били по печально знаменитой Дороге жизни. Я знаю, где лежат 380 наших десантников.
– Откуда?
– Рассказываю такой случай. Лет пятнадцать назад приезжает ко мне в гости с финнами ихний батюшка, то есть поп. Ну, приехал и приехал, я свозил их на кладбище. Выпили. И тут он говорит, что был тем самым финским командиром, который, по приказу, естественно, расстреливал наш десант. «Мы им кричали, русские сдавайтесь. Но разве русские сдадутся. У них и оружия – то совсем не было, автоматы с рожками, да пулеметы. Они многого не учли, а может, просто хотели отвлечь нас на этот край, наделать шуму. Маленького роста почти все, плавать не умели, мало кто выбрался на берег». В общей сложности на разных берегах, кажется, 800 человек полегло. Но сколько я не пытался, не писал в военкомат – давайте, говорю, хоть крест памятный поставим. Бесполезно.
Остров финны отдали лишь в порядке общей капитуляции в 1944 году.
Здесь до сих пор целы военные объекты: 2 бетонных пулеметных дзота, 2 огневые точки для дальнобойных орудий, бункер командного пункта, казармы, баня, стрельбище и даже казино для офицеров. Эти памятники большой человеческой вражды сохранились гораздо лучше, чем брошенные деревянные дома мирных жителей.
– Я знал русскую женщину, которая была в плену у финнов. Она рассказывала, что их было несколько человек. Финка посылала их за ягодами, но каждый раз, как они возвращались, проверяла язык. Если синий или красный била. А они молодые, есть-то хотелось. И вот придумали, одна ложится на траву навзничь, а другие ей ягоды прямо в горло закидывают. Я к ним, к финнам, честно говоря, не очень хорошо отношусь. Они ко мне тоже. Они относятся ко мне как к оккупанту.
– Но привечаете же их?
– Ну, да. А я всех принимаю. Жалко, что ли. Зек беглый как-то приходил. Я же сразу просек, кто он. Говорю, дорогой мой, я тебя сдавать не буду, три дня ешь, пей, чем бог послал, ночуй, а потом, как пришел, так и уходи. Ушёл. И свидетели эти Иеговы были. Дули мне в уши. Я говорю: ребята, я крещенный, хоть и ненавижу попов. Это с детства у меня. Когда крестили, я вцепился батюшке в бороду, а он меня выкинул в окно. Я в бога верую, а не в попов.. И эти приходят каждый год в августе, как их, изотереки. Они любят на озере чакры свои чистить. Голышом купаются, мать их. Всегда меня зовут, когда концерт устраивают. И, главное, за собой потом все убирают. Ни соринки. А финны любят приезжать тоже, да. Я для них вроде диковинной зверушки, шута, скомороха. Ну, и пусть. Правда, бывает, поступают и серьезные предложения. Одна все звала меня. Муж у ней умер. Фермер. И ей нужен был хозяин. Я не мог ей сразу отказать, говорю, подумать надо. Приезжает через год, подумал? Я говорю, ты же со мной там сбесишься. Я – до работы дурной, но я вольный. Этот, как его менталитет не совпадает. Приезжает правнучка хозяина моего дома. Аня. То топор мне привезет, то пилу. Я уж стар для нее. Сыну говорил, смотри какая веселая. Дурень, приударь. А он сопли жевал. Аа, – машет рукой Алексей Иваныч. Встаёт с травы. Мы трогаемся в обратный путь, но уже другой дорогой, через заросли конского щавеля.
– Я ей говорю, у нас бы звали тебя Анечка. Она так хохотала. У них же нет уменьшительно-ласкательных имен. У них вообще —чума. Один приезжает, рассказывает, разбогател. Спрашиваю, как? Дом дочке продал. Хм.
– А здесь ведь ещё один маяк?
– Да на юге. Финны лет триста назад строили. Но тот кирпичный, капитальный.
– Кто же обслуживает?
– Сами же мариманы, аккумуляторы привозят, потом врубают дистанционно.
После Желтых вод Алексей Иванович вернулся на остров. Работал трактористом, паромщиком. Уходил под лед вместе с МТЗ-50, дрался с начальством, получил партбилет, был крепким общественником.
– Я всегда дурной был до работы. А надо было больше внимания жене уделять. Ведь никогда не бывает виноват кто-то один в разладе. Ладно, – машет он пятерней.
5
Тусклая белая ночь. Остров весь звенит от голосов птиц. Присутствие рядом большой воды умножает все запахи до одури. Алексей Иваныч приносит из сеней большую бутыль, в которой колышется жидкость.
– Спирт? – интересуюсь я.
– Медицинский, – кряхтит он, выдирая зубами из тары скомканную газету. Отплевывает крупинки.– Извини, дерьмом я те поить не буду.
Химичит потом с мерной бутылочкой, разбавляет.
Выпили, по одной, ждем. Тихое счастье уселось, как кот, на загривке.
Клюня несет альбомы с фотографиями.
Вот он штангу жмет 150 кг. Вот с косой идет на покос. Из трактора чумазый торчит.
Вечерняя деревня, вся в огнях. Танцы вприсядку среди стогов сена.
– А сколько детей у вас, Алексей Иваныч?
– Пять. От первой жены сын, и от второй четверо. Но вишь, не заладилось. Поэтому тут и живу, – лукавит он. —Не, я знал, что моя вторая жена б****овала. И знал с кем. Один из них брат мой был. Я пошёл в храм и поставил каждому семь свечек за упокой. И, представляешь, друг за другом ушли. Оба.
– Куда?
– Куда, куда, к богу. И жена слегла. Я потом отмолил её. Но она так ничего и не поняла.
Конечно, езжу, она тут в Миноле на берегу живет, квартира, все нормально. Ладно. Все. Закрыли тему. Не грузи меня. Знаю, что грех на мне.
– Вы же коммунист, даже флаги красные, говорят, над избой развешивали до недавнего времени.
– Да, развешивал. И еще бы повесил. Только кончились флаги. Вова, я под красным флагом родился, под ним и помру. Только к нынешним коммунякам никакого не имею отношения.
– История вашей ненависти с финном, живущим до недавнего времени здесь, обошла чуть ли не все газеты.
– Да, это журналистам надо было. Мол, финский остров, теперь наш, финн и белорус, вместо того, чтобы пить водку, ненавидят друг друга. А никакой ненависти не было. Просто я люблю поговорить, а Мати молчун. Он со своих за баню брал по пять евро, а за трактором, чтобы свозить финнов на их кладбище приходил ко мне. Разные у нас менталитеты, Вова. Ну, ему не нравилось, что ко мне постоянно кто-то ездит, что я барабан себе из бочки сделал, чтобы медведей отпугивать, что флаг красный повесил. Да ради бога. Я шебутной. Ты слышал, я же тут в перестроечные годы партию свою создал. Уникальная была партия, которая называлась «Советская демократия». В нее входил я один. А надо мне было это для того, чтобы получить землю в аренду. Казалось, я просёк все эти игрушки. Хотел стать фермером. Три раза ездил в Москву и, в общем-то, добился своего.
Районное начальство приказ сверху исполнило, землю Клюне выделили. Но в отместку оголтелому демократу тут же обрубили все возможности сбывать молоко и мясо. Все, что они с сыном заработали за два года, -две тысячи рублей долга. Как память о тех временах у Клюни остался трактор, на котором он кого только не возил по острову. Финны прозвали его дядя Леша Андеграунд. Это потому что Алексей Иванович выполнял на острове функцию метро.
Последние четверть века Алексей Иванович трудился на острове егерем. И опять прославился своей норовистостью.
– За яйца чаек, допустим, я никого не брал. За утку в несезон протокол даже не составлял. Но предупреждал. Тут все мое слово знают.
И кулаки. Однажды Алексей Иванович победил в боксерском поединке некоего начальника рыбзавода по кличке Рыжий. Они сошлись без ружей, но, ошалевший от левых боковых Клюни, Рыжий в порыве ярости схватился за лом. Этот лом до сих пор стоит у Клюни в сарае. Потом все проезжающие мимо моряки поили дядю Лёшу до отвала.
А не так давно по ошибке у него застрелили вместо лося любимого коня Алмаза. Который ходил за ним по пятам, как собака. Клюня устроил коню пышные похороны, чем поверг соседа финна в депрессию.
– Многое могу простить, но не это, – говорит чуть захмелевший Клюня. – Я знаю, кто это сделал. Один бандит. Мне не нужны 40 тыщ. Он еще сюда явится.
– И что вы сделаете?
– Так же ошибусь. Люди только спасибо скажут.
– Ну… сядете.
– Хм. А мне-то жить осталось. Самое большее пять лет. Батя во сне приходил, плакал. Я ему говорю: ты чего? А он: чтоб тебе, дурню, жизнь продлить. И обещал мне 80 лет, если, конечно, пить меньше буду. Я уже всех клюней пережил. Так долго никто в моем роду из мужиков не тянул.
Когда укладываемся спать, он у окошка, где Ленин, Сталин и Лукашенко. Я у печки, Алексей Иванович говорит:
– Знаешь, а у меня живет домовой.
– Не исключено, – бубню я.
– Я прямо уверен, что он есть. Зовут его Гоша. Когда я прихожу с тяжелыми ведрами, Гоша открывает мне дверь. Одеяло поправляет. Злых людей в дом не впускает, они просто останавливаются у порога и не могут войти. Хороший домовой, добрый, потому что и я не злой. Вот только пукает иногда.
Девятнадцать берез
Ездили мы, ездили тут на великах по карте лета. Отяжелевшие колосья ржи нам по кедам хлестали. Меж колеями – ромашки. Поля, как впервые забеременевшие жёны, испуганно прислушивались к себе. Не шевельнулось ли чего там внутри? Живёт ли?
А если дождик – две плащ-палатки между собой сцепим, посерёдке палку воткнем. Сидим, в карты режемся. Я, дурак, туза козырного всегда до последнего берегу.
После дождя вылезем – кони-радуги из далеких невидимых рек воду пьют. Молнии ушли далеко-далеко, в сливовых тучах видны только слабые всполохи. И начинают спектакль перепелки.
Ездили мы ездили, кунались в давно забытые запахи и явления. И как будто возвращались туда, где было только хорошее.
Так вот катишь вечером по просёлку, и вдруг попадаешь в теплую область, как в остывающую баньку, как в душистый, набитый скошенной теплой травой мешок или облако. И можно в месте таком остановиться, опереться на раму задницей, постоять, поболтать.
А дороги подсовывают, выталкивают тебе после дождей то подкову кривенькую, то щеколду от чужих сеней, то свечу от ГАЗ-53, то медальку «За доблестный труд».
Ездили мы так ездили и решили навестить Егорыча – волшебного человека.
Егорыч – мущщина с распростёртыми объятьями. Когда за стол садится – кулаки как нечто от организма отдельное кладёт. Отмеченные глубокими шрамами на костяшках, кулаки эти сизые, словно обожравшиеся на элеваторе голуби.
Егорыч настоящий мордвин. Который ни в коем случае не туп, но твердолоб. Втемяшит чего себе под лобную кору – обязательно сделает. А потом уж только подумает: зачем?
Он из тех, кто всегда готов и к драке, и к нежности. Причём, с одного на другое переключаться не надо даже.
У Егорыча, шеститонный состав здоровья. В лютую стужу зачитается в сенях, бывает, в домашней котельной какой-нибудь книгой (очень жалует про Древнюю Грецию и такой же Рим) и совершенно трезвый может покинуть эти сени, и пойти в раздумьях в магазин за папиросками. Без ватника, фуфайки или как там у них говорят, душегрейки. И только в магазине спохватится нецензурно, когда продавец укажет.
Егорыч из поколения, чья молодость пришлась на 80-е. Он страшно хотел попасть в Афган. Ну чтоб, утверждает, дури поубавилось. А то в одиночку мог уделать целый клуб юношей в соседнем селе. Они на него со штакетинами от забора, а он на мотоцикле Иже 3-м, подъедет, газ сбросит и цитата «изящненько в рыло». Потом, говорит, заеду на ижаке том прям на сцену и сам себе си-си кэтч втыкаю. Тащусь, аж плачу. На мотоцикле всякие па танцую. Как участковый приедет и турнет – еду домой.
Дури после Афгана меньше не стало. Напротив. В плену был, бежал, легкое пробито. И теперь раз в год в репертуаре, как о нем говорят печника от бога, присутствует действо под названием «оглушительный запой».
Впрочем, печи он кладет зачастую в нерабочее от пилорамы время. Вечерами или в отпуске. В его блокнотике всё чётко расписано.
Приезжают к нему на большой чёрной машине. Егорыч палец слюнявит, листочки перелистывает.
– Не, в августе я не могу.
– Да ты скажи, сколько надо. Я в пять-шесть раз дороже дам.
Егорыч смотрит на лысую голову, торчащую из авто (» чо за мода, если черное большое авто, то харя, если харя, то лысая?», – думает он).
– Я тебя услышал, – говорит он в окно машины, – а ты не понял. Неделю мне надо вот на эту работу, вот у этого человека.
– Ну а потом?
– Потом у меня копка картошки.
– А дальше.
– А дальше, бля, я в запой.
Когда у Егорыча запой, то всё подчиняется только этому. Работа, семья, прочее.
Подчиняется как болезни, которую надо просто переждать.
Жена знает: прятать от него спиртное – бестолку. Поэтому выставляет на стол трехлитровую банку самогона и уходит в школу, учить детей физической географии. После обеда возвращается – пуста банка.
– Когда уж ты только постареешь? – на вдохе говорит всякий раз она.
Егорыч плечами пожимает, сам вот хотел бы знать…
***
Казалось бы, от такого Егорыча надо держаться подальше. Мы и держимся. Такие дела, другие. А Егорыч раз в год всего пьёт. Ну, неделю. От силы две. Остальное время всем рад. Работает день и ночь на пилораме, в часы досуга печки складывает. То ромашек накосит целую люльку-коляску от Ижака своего доармейского жене, то кольцо ей купит, на свой мизинец примерив. Все равно получается великО.
Приезжаешь к нему. И вроде бы ничего особенного не происходит. Разговоры сбивчивые, слова простые, как трава. Но минут через пять ловишь себя на мысли, как же ты нечеловечески соскучился по этому медленному наслаждению беседой.
Если бы слова имели запахи, то наши беседы пахли бы теплым хлебом, копченым бобром, летним вечером после дождя, болотными травами в лощинах, солидолом, пылью, прибитой дождем и прочими прелестями.
Вот к такому Егорчу мы и прирулили. Перед околицей из цельных сосен качели. Если постараться, упереться, можно коснуться носком ботинка какого-нибудь облака.
Жена Егорыча сообщает, что нету барина дома. У него постзапойный синдром. И машет ладонью в сторону заходящего солнца.
Мы-туда. Приезжаем – а там и без нас гостей уйма.
Режиссер Сергей Аркадич командует костром. Егорыч разворачивает из мешковины отбитую косу. Бородатый поэт Шура Б. щиплет в алюминиевую кастрюлю петуха на крыльце. Перья улетают. Еще какие-то люди хлещут пиво за уличным столом в березках.
Картинка эта могла бы выглядеть идиллической, если б не место действия. Если б не антитеза пейзажа. Дом бревенчатый, пятистенный стоит аккурат посередке кладбища.
Дымок от костра витает, блуждает меж берез и крестов, отекает их, как молчаливый сигаретный. Кое-где словно в мареве открываются и пропадают опять в сумерках кафельные овалы, с фотографическими отпечатками лиц. Каких не будет на этой планете больше уже никогда.
***
Дом на кладбище, на погост Егорыч перевез лет 15 назад. Отцовский. Когда не стало того. А он не смог в нем жить тогда. Об отце Егорыч всегда рассказывал, как о герое. Отец помер, и он привез дом к могилке поближе. Отдал деревне, мол, чините тут поминки, храните орудия для копки могил, молитесь. А потом построили храмв селе, и дом стал вроде как ни к чему. Егорыч начал использовать его в минуты кручины, чтоб перегаситься. Одному побыть. Но одному не дают. Егорыч тянет к себе людей. Даже на кладбище.
Он обнимает нас с дороги, наваливает в алюминиевые, огромные чашки щей, берет велик и отчаливает за червяками. Утром все планируют двинуть за карпом.
Сергей Аркадич говорит ему вслед.
– А чё ты за червём-то этим куда-то прешься? Здесь копай. Тут жирный.
***
К ночи все перепиваются. Кто-то уезжает. Поэт в избе ухлестывает за дамой, у которой грудь как будто она себе туда разных тряпок насовала. Муж ее храпит мирно на печке. Поэт всех нас зовет исключительно по имени отчеству, к барышням только на «вы».
Он приглашает усугубившую, путающую окончание глаголов фею, на танец. Она норовисто пятится, спотыкается об порог, и падает внушительным задом в заднюю, между прочим, избу. Раздается нехилый грохот, кукушка вываливается из часов и молча балансирует на тонкой на пружине. Сергей Аркадич, между тем, только-только задремал сладко, слюна в уголке рта затаилась. А у Сергей Аркадича, строго говоря, бессоница. И еще на почве различных воздержаний нервы ни в п… ду, как он формулирует.
– Да что ж вы, суки такие, не угомонитесь никак, – гневается он.
А поэт уже подал даме, обнажившей при падении красивые колени из-под платья, ручку.
Опять увлек в кухню.
– Ну, не хотите танцев, – мурлычет гнусаво, – тогда пожалуйте мороженку. И ставит ей под нос целый таз. Та бежит в сени, прикрывая рот. Он за ней.
В это время Сергей Аркадич лезет за образ и ворчит, нащупывая там что-то:
– Щас я вам устрою мороженку.
Идет на кухню, ширкает зажигалкой и возвращается в постель.
Когда парочка приходит, раздается смачный хлопок-взрыв.
Я вскакиваю и бегу туда. Приятели сидят облепленные тем мороженым, будто мокрым снегом.
Режиссер, оказывается, сунул им в мороженку маленькую петарду.
***
Утром Егорыч является. С удочками и червяками. Идём с ним через поле в сторону деревни и пруда. Все погружено в туман. И так мягко прорисовано, что местность кажется чужой, нездешней. Егорыч закидывает. Он уважает только самодельные, гусиные, с крашеным кончиком, поплавки. Тут же на них усаживаются стрекозы. Гладь на малиновой воде. Левее нас окунь гоняет уклеечную мелюзгу, она выпрыгивает из воды и серебрится, светится.
У меня – не успеешь закинуть —поплавок топит. Стрекоза взлетает. Егорыч рыбоудит в метре, но ни единой не ощущает поклёвки.
– Признайся, что ты колдун, – говорит он через полчаса, когда худой пакет с карасями время от времени шуршит, трепыхается под ногами.
Я веду плечом, сам в недоумении.
Солнце поднимается выше, и высвечивает, делает четкими бани на другом берегу.
Мужик ведет по бугру серого жеребца. Кричит нам, впрочем, вполголоса:
– Кому не спится в ночь глухую?
– Литератору Липилину и еще одному х..ю, – как в игре, где ответ обязателен бубнит Егорыч.
И вдруг начинает ржать.
– Ты чего это? – беспокоюсь я.
– Просто понял, почему у меня не клюёт. Я лупанул с утра стопку. А самогон не мой. Жени Никишина самогон. Вонючий. Ты-то вон на червя не плюёшь, а я с детства так привык. Насадил – плюнь. А какой, скажи, рыбе понравится Жени Никикшина самогон? Бормотуха. Вот и не клюёт у меня.
Идем тем же полем с рыбалки – почти полный пакетик у нас. Припекает.
Егорыч рассуждает:
– Можно же не жить в ваших питерах-москвах, а страну чувствовать, хоть вон по маленькой букашке, по колорадскому жуку. Шутю, конечно. Но ты понял. И зря говорят про народ. Что он скурвился. Не. Напустил только этих, как их, понтов. Где-то вычитал, если б понты светились, Россию было б из космоса ночью очень хорошо видно.
Он подобрал с колоска божью коровку, посадил на палец и подождал, когда взлетит.
– Заблудились люди. Каждый делает вид, что боженьку за яйца схватил. И вот это еще: я хочу. Я круче всех. Но, ты знаешь, изящный боковой с левой в челюсть, почти всегда выявляет истинное положение вещей. Раскрывает, так сказать, личность. Двинешь, он очнется и человек вроде простой, и добрым потом оказывается, и отзывчивым. Просто вот игра такая – понты.
Он молчит, потом заворачивает махру в листик бумажки, закуривает с помощью спички, ароматный дымок относит в сторону.
– Я-то вот советский еще. Привык к человеку сразу, изначально хорошо относится, пока он это мое отношение не опровергнет. А так и надо. Как же? А вдруг этот пока еще незнакомый тебе человек председатель колхоза!!!Неудобно будет. Ты сперва узнай, чо он, да как.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.