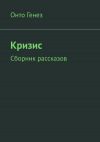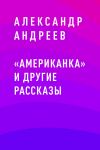Текст книги "Ассоциация содействия вращению Земли. Сборник рассказов"

Автор книги: Владимир Липилин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Он опять задумывается, усмехается.
– Девка недавно ко мне прибегла. Ага, прям на кладбище.
Голая, тряпкой прикрылась, рыдает, рыдает, прям захлёбывается, от всхлипов слова произнести не может. Пацаны, значит, из соседней деревни у неё одежу спрятали и троем пялили ее в доме одном два дня. Она вырвалась и убегла. Ко мне почему-то приперлась. Я воды согрел, отмыл её. Хотел им ебла начистить, но она на колени встала, опять рыдать, глупая, начала. Не надо и не надо.
– И че ты сделал?
– Ну, слушай. Скреативел я. Поехал в Саранск, нашел там магазин этот… интим. Я стока всего повидал, а туда че-то стремно было заходить. Потом сказал себе: да х..ли. Купил этот, наподобие старпома называется, плетку сам сделал. Приехал, время выждал. Сижу один раз на пруду, они едут. Слово за слово, я чё-то у них спросил. Говорю, у меня тут с собою три литра смогона и закусь, будете? А им же надо выпендрится, чо нет-то. Ну, напоил их в хлам. Говорю, давайте купаться голяком. Они, идиоты, пошли. А весна ранняя ещё, вышли – зуб на зуб не попадает. Я им еще накапал. И говорю, идите пока в машину, погрейтесь, они пошли и прям голые уснули там. Я старпом этот на заднее сиденье с плеткой кинул, их запер, ключи в пруд. Уехал. Мужикам деревенским говорю потом: че-то давно на пруду 14-я вон стоит. И людей не видать. Может, утонули нахрен. Они подъехали, все голые спят. Ментов вызвали.
– А с девушкой что?
– Да я ее сразу в город отвёез, одежду нашел в доме том. И отвёз. Спрашиваю: чо ж ты, дуреха, сюда-то прибежала? Может, я по сравнению с этими вообще извращенец. Да не, говорит, вас-то я знаю. И про вас кое-что знаю. Мы однажды с отцом останавливались у вашего дома, вы курили на скамейке. Отец потом и про кладбище, и про вас рассказал. Он, правда, до сих пор не понимает, зачем вы туда этот дом перетащили. И вот вы курили, а рядом лежал толстый том. Александр Блок. Стихи. Я подумала, что вы просто не можете быть плохим человеком.
– Ха, – не выдерживаю я.
– Угу. А вышло-то как… Печку клал в одном селе. Там библиотеку рушили. Я и взял несколько томов со стихами. Бумага тонкая, рыхлая. Букв мало. Полоски широкие получаются. Но с тех пор думаю, надо и правда, Блока начать читать. А то в школе-то нихера толком не учился.
Потом мы жарили карасей в муке, на костре в огромной чугунной сковородке.
И побродили между могил. И Егорыч рассказал про тех, кого помнил.
А вечером отправились дальше по лету. Остановились между деревней и кладбищем. Постояли.
Трактор проехал по плотине, цапля пролетела, роса высыпала такая обильная, аж белая. Как на бутылке запотевшей водки. Но мы и без водки были дико счастливые. И не страшно умирать. Потому что смерть – это только, когда тебя нет. А вот это же вот – перья облаков в озере, запахи луговые, бани, велосипеды, лошади, люди удивительные; это-то пока еще поживёт, останется.
Вальдшнеп
Из дневника путешественника
Доктор биологических наук Дима обмывал в деревне свою ученую степень. В подарок разное привезли. Хлипкие китайские спиннинги, ненужные подробные карты на миллиметровке, фонари на керосине. И только мастодонт визуального искусства Сергей Аркадич подарил собственноручно изготовленный лук.
Все как и полагается – из белой акации, тетива из бычьего сухожилия, оцентрованные стрелы с тупыми наконечниками от веретена. К стреле прикреплена записка с волнующим вопросом «Дашь?»
Просто Дима – болотник. Это не прозвище– специализация. Он изучает эти болота уже много лет. И вот защитился. Оказывается, до сих пор они кому-то нужны. Болота эти. А Сергей Аркадич – режиссер и хулиган. И вопрос в записке вроде бы от имени Димы обращен был, конечно, к болотной лягушке, которая потом превратится… Или не превратится.
Или вот.
Поехал один человек в райцентр на своей «Ниве», Сергей Аркадич ему звонит:
– От тебя там щас винный магазин далеко?
– А чего? – слышит в ответ.
– Подъедешь, зайди за него, в полыни там стопарики пособирай. Рассаду некуда сажать.
В трубке, естественно, брань, мат. Ну, какая рассада, если все там только на выходные.
Такая это деревня. Несерьезная вся. Но нас к ней бешено тянет. Мы выцарапываем право поехать туда мелким враньем и крупными обещаниями. Что вот вернемся и обязательно все доделаем.
А казалось бы, чего уж там такого? Вразумительного ответа нет. Можно было бы, наверное, понять, если б мы сошлись на фоне алкоголя. Банально, конечно, но уж как-то понять наверняка можно. Но и это не совсем правда. Охота? Далеко не все там охотники.
Я давно заметил: все, что ты придумал, сочинил о местности, оказывается потом чем-то весьма приблизительным. А уж родина вообще такова, что тут нельзя обобщать ничего даже в пределах одной географической точки. В каждой «дыре» обязательно случатся люди, которые думают, любят, и делают что-то по-настоящему.
***
Мы – индивиды, живущие на стыке разных явлений и процессов. Как на стыке рельсов. Поэтому примета времени -грохот, а поезд уже уехал. Скомканно как-то все было на вокзале, склизко и промозгло. И не простились добром.
Как подумаешь: целый пласт питающего город деревенского быта, культуры, языка скоро-скоро околеет окончательно. И немножечко грустно. Хотя возвращать это или удерживать – еще грустнее и дебильнее. «Будь же ты вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть».
– Как тока человек изобрел компьютер, он невольно запустил обратный отсчет нашего пребывания тут, – умничает Сергей Аркадич. – А чо, вот смотри. Раньше, чтобы комбинированные съемки организовать, мне надо было столько сил, нервов, денег потратить, зато, когда сделал, закурил – счастье. Щас мне нужен спецэффект в кино – хоп-хоп, – готово дело. Привыкаешь ко всему этому аттракциону быстро. И когда потом нужно в жизни что-то сделать, а не сразу выходит, и нет «горячих клавиш» – тут и наступает ярость. Человек отрывается от реальности. Я вот щас оглядываюсь, все же, чтобы нормально жить, скорости другие нужны, соразмерные с ритмом внутренним человека. Чтобы, например, смотреть кино «Листопад» – нужно то спокойное состояние, которое для многих сегодня уже недостижимо. Скорость внутри нас другая, суеты бестолковой море. А мы, советские вот веселую, наполненную жизнь прожили, хотя много чо и просрали. Но вы-то все просрете, – провоцирует он тех, кто моложе.
Сидим с ним на улице за столом. Кругом снег еще, как «ядра чистый изумруд». Но солнышко в закутке за домом припекает. То левое ухо подставим, то правое. Аркадич говорит:
– Прожил тут неделю в одиночестве. Поехал в соседнюю деревню в магазин за куревом и пивом. Машину оставил на въезде, чтоб залетные гаишники вдруг откуда-то не взялись. Иду в сапогах, и все со мною здороваются. Я одному мужику говорю: какая хорошая у вас деревня. Идешь, а все здороваются. Он такой: а у вас че не так, что ли. Люди такие злые? Я говорю: да просто нет никого.
****
Весна. Вечером, когда все уезжают на вальдшнепа, Евгений Борисыч выносит на воздух самодельный мольберт на трех ногах, сработанный из местного клена. Ящик с красками, кисти. И пишет закат. Весь этот свет, деревья, ландшафт он всегда пишет только с натуры. А сцены из охоты потом наносит по памяти. Он их столько за свою жизнь перевидел.
– А ты чего ж, совсем, что ли, не охотишься?
– Года четыре уже. Че-то такое щелкнуло, вскидываю, веду, а стрелять не хочу.
– Сентиментальность к старости приходит, – декламирую я на манер сонета. Гляжу на него. Не покоробило ли. Нет. Не покоробило.
– А может и так, как ты говоришь. Я вот иной раз в шалаш залягу, шесть часов там кукую, жду, когда прилетят глухари. И вот прилетели, начали токовать. Прям над башкой, на ветках, опустились. Сердце как сваи вбивают. Навел, поглядел. И мысли, которых раньше не было: тебе жрать, что ли, нечего? Вылезаешь, идешь, и ты другой человек. Маленько, но другой. Ясно дело, что все внутри, внутри тебя и гадость, и черт, и бог, но такая радость, что ты еще можешь быть хорошим, что еще не совсем опаскудился. Как вот это рассказать?
– Вот видал сын тут у меня постоянно торчит, внук Женька. Я ведь их гоняю тут охереть как, вкалывать заставляю, дел в деревне всегда по уши. А все равно едут. И так с детства. Мне кажется, преодоление себя, все вот эти шатания по лесам, увязания в болотах нынче один из немногих способов остаться человеком. Превратить неудобство во что– то пригодное для жизни, и получить удовольствие от этого. Вроде вот думаешь, зачем поеду, зима. Есть дорога -нет, откапывать крыльцо, носить воду, печку топить. А приехал, себя преодолел и уже думаешь: а хорошо, что приехал.
Борисыч сам того не зная многому научил нас в лесных делах. И не уметь сделать допустим нодью из бревен в зимнюю ночь, чтобы было тепло и светло, вроде как и стыдно. Это ж простейшее. Или кладку кирпичную. А до этого никто не умел.
– А чего ты вдруг рисовать-то начал?
– Да не вдруг, – носом шмыгает, усом шевелит. – Мы в студенческие времена с другом столько клубов, ленинских комнат оформили. Я ж художественное училище окончил. Потом бросил все это. Женился. Писать перестал. А друг не перестал. Всю жизнь пейзажи крапал. А недавно вот умер. Я приехал, краски, холсты, все забрал. Теперь вот за него дописываю. Понимаешь, щелкнуло че-то…
***
Вчера Борисыч привез ведро раков, запихал их в маленький садок, утопил в воде. И всем стал уверенно заливать, что в ручье нашем водятся раки, не крупные, блин, но с ладонь. «Я те говорю. Хм, не верит». Мы, конечно, совсем не ботаники и не биологи, но даже нам ясно, что в таком водоеме, который можно перешагнуть, неоткуда взяться ракам? Борисыч надевает штаны от ОЗК, лезет, все пузырится, и с той стороны, где дно не затягивает илом, шугает рукой, ведет садок по дну, вытаскивает. А внук снимает на телефон.
Для чего это 60-летнему мужику? А чтоб повеселее помирать было. Чтоб не думалось.
***
Пролет вальдшнепа, повторяющий просеки и извилистые лесные дороги затаен и в то же время стремителен.
Любовь к вальдшнепу нельзя объяснить. На Руси да и не только, охота на него считалась аристократичной, королевской.«Вы спрашиваете, дорогая, почему я не возвращаюсь в Париж, вы удивлены и даже как будто разгневаны. Причина, которую я приведу в свое оправдание, вероятно, возмутит вас: разве охотник возвращается в Париж в дни пролета вальдшнепов?», писал Мопассан своей даме.
Просто тут в одной точке сходилась масса явлений, приятных для ума и сердца.
Весна. Вечер. Оттаявшая земля отдает талые пьяные запахи, в голове хорошо и много беспричинной любви ко всему окружающему. За день ты можешь увидеть столько, сколько не увидишь за целую зиму. Лось встал, вроде бы застрял в кустарнике и шумно нюхает воздух – не хочет никуда идти. Еж плывет на коряге через реку и даже (ловко так) огребается. Бобер точит толщиной в березу для рисования карандаш. Постепенно, как будто выключают голос за голосом, смолкает лес вокруг. Где-то в лощинах еще снег… и холод от него не простой – могильный, как у чего-то уходящего. Навсегда. Незаметно, будто кто-то закурил, образуется туман меж берез. Струями. И наступает тишина! Только выпь на далеком болоте. Выпила бутылку красного сухого в одно лицо, а теперь сидит, не смаргивая смотрит в одну точку, жалеет себя, долю, нас кичащихся, дует в горлышко пустой бутылки -УУ, УУУ. Но через время и она успокаивается. Молчит все, как в театре, перед выходом дяди Вани. И тут: Хорр, Хорр.
Не то сверчок, не то цикада в летний вечер.
Вальдшнеп – смешное, несуразное для русского уха имя. Нечто чуднОе есть в слове этом и во всем его облике. Маленький, с длиннющим клювом, как у сверхзвукового. Сергей Аркадич говорит, что летают они в сумерках, ибо друзей у них нет почти, одни враги, и вот когда враги эти укладываются на боковую, начинается их, вальдшнепиная любовь. Самка летит низко-низко и без звука, а он рассекает воздух на дикой скорости, ждет, когда она сядет под куст. Охотники пользуются этим, и часто кидают невысоко кепку, шляпу, чтобы вальдшнеп резко затормозил, спланировал к ней. Тут и начинается канонада.
Нелепо, пригибаясь в темноте, бежит такой охотник, хрустит валежником и говорит задыхаясь от сердца, мешающего горлу:
– Он думал, что будет ее трахать, а тут кепка моя.
Хохоток такого охотника страшен и зловещ.
Прошлой весной появился какой-то маленький, но ужасно юркий, с подбитой лапой, оттопыренной чуть в бок. Сперва из-за этого увечья хотели его укокошить, мол, бедняга, мучается. Но Исидор (как мы его позже прозвали) был другого мнения. На подлете к просеке, он начинал удивительно лавировать, уворачивался от дроби так, словно он ее видел, и танцы его, тройные тулупы, были в высшей степени чудесны. Охотники вскоре даже стали заключать пари, кто первый его добудет. За неделю джек-пот вырос до 10 тысяч. Но Исидору неведом мир чистогана. У него большой рок-н-ролл в крохотной голове.
– Вы чо, придурки, – говорил режиссер Сергей Аркадич, – это мой вальдшнеп, он каждое утро над моим домом пролетает. Когда только открылась охота, в 3.50 прошел. Я засек время. На следующий день в 3.35 проснулся, кофе себе сделал, вышел, думаю, вот допью, перейду ручей и на полянке сниму его. Только я патрон зарядил – шшшух, цвирь, цвирь, прошел над башкой. Ну, думаю, гад, я тебя завтра кокну. Назавтра только кофе поставил на стол на улице: – Хорр, Хорр.
Так прошла неделя.
Самолюбие охотников зашкаливало. Выйдешь ночью в туалет – уже кто-нибудь сидит за столом с ружьем. Или еще не ложился.
Сергей Аркадич врубает свой прожектор. И ругается.
Вальдшнепа он полюбил. За то, что, по его словам, «он так похож на него. Дерзкий и не пришей к п..де рукав» (цитата).
Ружье убрал в сундук. И всех гонял.
Но охотники таились за баней, не хотели отступать.
– Ладно, – спокойно сказал Сергей Аркадич.
Собрался и куда-то уехал. А потом привез барышню красоты редкой. Через день все перессорились, и уехали на дальние озера. Хотя дама совершенно никому не выказывала симпатий, просто сидела за столом, в основном молчала, улыбалась и пила водку Но почему-то совершенно не пьянела.
Барахла. Точка. Нет
«Барахолка» – выговаривает театральный художник Сева расслабленно, с негой, как будто перекатывает леденец за щекой. Это профессионально-театрально-напускное, чтобы, узрев вещь по всем канонам редкую, с видом пресыщенного знатока сторговать ее за копейки. Но и продавцы ни разу не профаны. Их взаимная игра исполнена глубин и этюдов. Больше, чем шахматы. Очень теневой театр.
Долгое время блошиное хозяйство помещалось у подмосковной платформы Марк. Теперь переехало. В Новоподрезково. И мы туда тащимся. Утро. Рань несусветная. Под подошвами хруст ледяной крошки – результат предсмертного полета сосулек; вниз головой, очумев от весны. Темно ещё совсем. Электрички, трогаясь, набирают скорость с воем, потом точно кинопленки отматываются назад. Предвкушение – сладко-горькое. Как от предстоящей поездки туда, где когда-то было тебе нечеловечески хорошо, и лучше уже не будет. Но ты всё равно прешься.
Мой спутник говорит, что приезжать на такие рынки надо именно на рассвете. Тогда больше возможности зацепить «вещицу реальную». Тут, как на рыбалке, можно быть ушлым и пройдошным, иметь цепкий глаз и навык, а вещица уйдет к тому, кто в ней не смыслит и не нуждается – так просто купил. «Хлам» удивительно притягателен.
Прожженые «винтажники» одеваются по обыкновению неброско, даже с некоторым налетом бомжеватости. Впрочем, среди втридешева торгующих дедов и бабок с отточенными, как лезвие, языками попадаются фигуры подставные, одетые, напротив, почти празднично. Нанятые каким-нибудь мастодонтом– старьевщиком, они шерстят московские помойки, разбираемые дома, общение с клиентом в стиле давилова на жалость или выставления себя полным дураком.
Мы хрустим леденцами. Продавцы уже разложили-свалили своё добро на прилавочки или прямо на изрезанные выцветшие клеенки, на коробки от телевизоров, стиральных машин. Барахло подсвечивается лампочками и фонарями на керосине.
«Блошка» это очень странное место. Здесь есть вещи, которые никогда купить, и ни за что не сделать. Потому как над ними потрудилось время. Его прямо видно. И на ощупь – оно в трещинах и сколах. Наипростейшая машина времени. Я вспоминаю кучу вещей, забытых уже навсегда, погребенных в обывательских слоях памяти. Здесь они вдруг всплывают на поверхность сознания как ни в чем не бывало, ровно такие, какими были забыты.
Наши дорожки с Севой расходятся. Он любит толкаться один, у него свой подход, ну, или он так думает.
Светает. В воздухе запах облаков, пришедших с каких-то морей. Вдыхаешь – вздыхаешь – весна опять, весна. Она без повторений.
Опять же вот дед. В нагрудном кармане – чекушка, иногда он достает ее бережно, как птицу. «Поит» изо рта. Мы – не пьющие, просто – ранимые. И – чуткие.
На импровизированном прилавке – болотные сапоги, несколько френчей цвета хаки и такие же фуражки, как у Фиделя. Запах – сундука или прелого сена.
– Твой размерчик, – подмигивает дед, не выпуская цигарки изо рта, выхватывает за пустой рукав одежу. – Ненадеванный почти. Я в нем только в шестьдесят третьем году женился, а в шестьдесят пятом уж тещу хоронил. Представляешь, как повезло!
Недосказанность тут коронка. Каламбур – азы.
Перед глазами сразу же картина. В таком вот облачении ездил я на картошку на первом курсе универа. Теплыми, прям парными сентябрьскими вечерами встречались в овраге у ручья, за старой баней, топившейся когда-то по-черному, с учительницей Олей. В школе у Оли был один ученик и много свободного времени.
В последний урок я поджидал ее на крылечке, раглядывая китайскую неугомонность муравьев.
Когда мы уходили, единственный ученик с деревенской деловитостью кричал нам в след.
– Намни ее. Побольше намни. А то спасу нет.
В овраге козырек фуражки паскудно мешал целоваться.
Дальше идём. Иностранец.
В толпе они до сих пор вычисляются на раз. Тушуются, ведут себя растерянно. Вот один интересуется у бабки насчёт кукол.
– А вот так если ее повернуть, – без умолку твердит смачно нагруженная косметикой дама, – «мама» говорит. Слышь? Ну, муттер по-вашему.
Йес, йес, – с блуждающей улыбкой на лице твердит покупатель.
Цены ниже смешных, – рекламирует свой товар бабушка с лицом легендарного режиссёра Театра на Таганке. – Все по 10 рублей.
На клеенке у старушки – джинсы, натертые кирпичом, клетчатые рубашки, старый плащ из болоньи, шлем танкиста с вырванной из уха рацией, примус, фонарь «летучая мышь», кипа журналов «Техника – молодежи», перевязанная грубой бечевкой.
Когда-то такими же бабушка растапливала печь. Один из них, аж за 60-й год, помню отчетливо. Статья в нем поразила меня тогда в самое сердце. Это казалось невероятным. Там описывалась маленькая пластмассовая коробочка, которая позволит устно и письменно общаться со всем миром, – по-нынешнему банальный мобильный телефон с функцией SMS. Что эта коробочка будет еще и фотографировать, и записывать небольшие видеоролики, не представляли даже фантасты. Выдумка все ж должна обладать достоверностью…
Уже многим позже, когда сотовые появились, действительность оказалась, как обычно, проще и сложнее этой самой выдумки. Но что есть, то есть: маленькие пластмассовые коробочки вот они – звенят и жужжат из всех сумок и карманов.
Дальше – канделябры с сосульками парафина, чайник со щербинкой, стопка вымпелов «Ударник Социалистического Труда», амбарные замки, бюсты вождей и виниловые пластинки, вышедшие из употребления видео кассеты и диафильмы. Стереорадиола «Симфония» из ценных, однако поддельных пород дерева, с легко отклеивавшимися от сердцевины динамиками, отчего житель демократической Германии Дин Рид пел хрипло, прямо как досточтимые Леонард Коэн и Джей Джей Кейл. Фотоаппарат «Смена-8 М» со встроенным – невероятно! – электронным экспонометром, требующим для работы пальчиковые, именно пальчиковые батарейки, которых в продаже почти никогда не было.
– Парень, купи портфель, – прощупывает меня взглядом дядька с золотым зубом посерёдке рта. – Желтый, мятый, как у Жванецкого. Будешь на работу ходить весь такой деловой.
Зуб светится, дядька улыбается.
Как альтернатива – кипы портретов с советскими артистами. Почти новенькие. Откуда?
Память – штука сопливая, сентиментальная. Она имеет избирательную природу и беспощадно выкидывает в форточку прошлого вещи грубые и позорные. Ушедшее мифологизируется, появляется налёт мейнстрима, попсовости, что ли. Прошлое, как говорит мой любезный собу… собеседник Гордеич, чужая страна.
Да, мы часто пребываем в плену своих представлений об этом прошлом. Ну и что? Мы просто хотели бы рассказать детям, внукам то, что, по сути, рассказать невозможно.
Как на такой же вон точно обтекаемой машинке с фарами, величиной с чебурашкины глаза, ты в детском саду обогнал (ну, подрезав немного), бешено строча педалями, самого Жендоса Володина, дубасившего всех подряд. И как после этого он стал относиться к тебе даже уважительно. Никто не влезет в твою шкуру, да и надо ли? У каждого свой каскад ассоциаций. Такое «кино» придумать невозможно.
Актеры, лежащие в стопке на прилавке, кажется, говорят о жизни больше, чем тома учебников истории. Попробуй рассказать теперь, как они играли. Какая жизнь была в то время. В тех картинах ведь даже воздух другой. Многообещающий. И пусть многое из этих обещаний, назначенных нами самим себе, не сбылось. Но движение к ним было бесконечно прекрасным.
Мы еще могли наслаждаться и гордиться тем, как проникновенно некоторые из нынешних артистов понимают своих персонажей, как сживаются с ролью, не щадя личных душевных сил. А старшие все равно сомневались в том, что эти наши ощущения по остроте и силе вровень тем, которые вызывали у них третий в стопке Олег Борисов, за ним по порядку Смоктуновский, Екатерина Васильева, Дуров. Нынешние театры и производители вещей предлагают потребителю иное. Внешне – это элементарные мизансцены в духе народной цыганской режиссуры с медведем: а теперь, Миша, покажи, как бабы в бане парятся. Сценический характер, характер вещей определяют не интонации, взгляды и любовь к производимому детищу, а сумма простейших жестов. Жизнь души? Кому она теперь интересна? Всё явнее одноразовость всего и всех. Всплывает все тот же Жванецкий: «Мы все еще пахнем потом, хотя давно уже ничего не производим».
Но все ж хорошо, за пазухой сладко ломит, вспоминаешь. Блошиный рынок со скоростью прибывающего света возвращает тебя в детство, которое не умело проигрывать.
Такая же ударная установка была у нас в самарском подвале. Приятель Чича в подражание легендарному барабанщику Deep Purple Яну Пейсу шпарил так, что удерживал дробью пятикопеечную монету на стене. А мы в подражание другой легенде этой группы орали «а-а-аа-аа». Не приемлющие подобных децибелов старушки вызывали милицию, но нам тогда все было глубоко фиолетово.
Народу уже много. Ходят, суют носы в лазейки и прорехи, образованные толпой.
Торгуют здесь не только для заработка. Есть, конечно, такие, для кого «вечером кража – утром распродажа». Сшибут на бутылку водки и сворачиваются. Но таких немного. Вот, допустим, величественная старушка Изольда Андреевна с глазами, подведенными стрелочками, как у Татьяны Самойловой в фильме «Летят журавли». Дородная мамаша с толстым пацаном-балбесом, который исподтишка пинает грязным ботинком плюшевого мишку, клянчит у Изольды Андреевны скидку на советскую мясорубку. На дачу. А та и стоит-то десять рублей. Но Изольда Андреевна полушки не уступает. Деньги тут совсем ни при чем. У Изольды Андреевны в каждом ухе – два брильянта в три карата. Просто покупатели ей не нравятся. И все тут. Здесь еще присутствуют отношения, которые не про деньги, поступиться ими – потом себя не уважать.
Сева позвонил в 12. Для него это момент отчаливать. Дальше отираться бесполезно. В условленное место является довольный. Ему удалось разузнать, что у одной из бабушек, держательницы трех московских квартир, имеется буфет XIX века, там, на дверцах с изнаночной стороны, папа записывал мелким убористым почерком свои мысли о жизни, о будущем, как видит его. Папа был профессор. Для Севы – это подарок неслыханный, удача. Несмотря на то, что бабушка заломила за буфет 15 тысяч. Но дело ведь не в этом. Скоро ничего не останется, сработанного руками, с выдумкой.
Кроме того, он умудрился отхватить два самовара с клеймами всего по две тысячи рублей за каждый, германские часы с кукушкой (исправные). Ну, и по мелочи: туфли-лодочки, малиновый берет, рукомойник, старинные будильники с колокольчиком наверху, ватерпас, нагайка, значок ГТО первой степени. Сева перемешивает это в рюкзаке. Потом быстро сует мне ладонь и исчезает, пышный, лучащийся. «И не совсем в вещах, наверное, дело», – думаю я.
Рядом два парня тоже хвалятся друг перед дружкой приобретенным. У одного в руках маленький фотоаппарат AR-4392F, надпись на объективе Lens Made in Japan, похож на тот, что был у маленькой Амели. Комплект слайдов про Армению, правда, пока не на чем их смотреть.
Дома, вытряхивая содержимое своей сумки, выложил на письменный стол велосипедную фару, пузатую, выпуклую в виде «большого глаза», журнал «На суше и на море» за 1984 год и мельхиоровый подстаканник. Сел и задумался, зачем мне все это, зачем?
И только потом, повертев подстаканник в ладонях, на донышке красивую обнаружил гравировку «Любе в наш самый счастливый день».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.