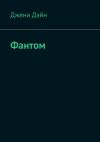Текст книги "Девушка, которой нет"

Автор книги: Владислав Булахтин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
То, кем сейчас стал Кратер, растворялось единственно возможной правдой. В первое мгновение эта правда ощущалась легкой, объяснимой, небольшой частью Кратера. Через долю секунды Кратер и Правда стали величинами почти равнозначными. Наконец, противостояние завершилось единственно возможной комбинацией – Правда заполнила все мысли, все ощущения Кратера и достигла размеров только что исчезнувшей Вселенной.
Правда имела бездну смыслов и граней, но могла довольно точно быть сформулирована самой первой мыслью, которая взорвалась и заполнила все вокруг: «Вселенную выключили».
По сравнению с образовавшейся темной тихой пустотой знакомая, обжитая, бесконечная Вселенная, ее девяносто шесть процентов неисследованной темной энергии, ее грандиозный божественный замысел да и сам Бог, по-детски неловко прячущийся во всех интерьерах жизни, вспомнились домашними и логичными, как лампочка на 60 ватт. Вселенная не исчезла, не свернулась в микрочастицу, не обратилась черной дырой. Ее не стало вместе с мириадами простых, приятных и непостижимых вещей, вращавшихся на невообразимом пространстве невообразимое число лет.
Поэтому нельзя вспомнить Мавзолей, Николь Кидман, вкус пива. Нельзя почувствовать, заорать, открыть глаза. Ничего этого не было, нет и не будет. Вот-вот исчезнет и эта, чудом сохранившаяся мысль, называющая себя уже непонятным, уже бессмысленным, агонизирующим словом «кратер». Еще мгновение – не станет ни этих букв, ни мыслей. И даже чернота, все еще густеющая вокруг, исчезнет.
Ирина Богушевская: «Пароход»
Она отправилась к родителям. Не ухватить, что творилось в душе, в голове, повсюду в теле. Дрожащие коленки, дикий сумбур слов. Сквозь топь безнадежного: «Они умерли… их похоронили… их давно нет… материальность мира незыблема… все, что произошло там, повторилось здесь… смерть нельзя обмануть…» – всплывало: «Умоляю… еще один раз… глазком… спасение для моей заканчивающейся загробной жизни, для моей неуспокоившейся души… мама…»
Кого просила? Всемогущую себя или Всемогущего Бога?
Она и сама не знала. Она умирала от страха. Она умирала от надежды.
На пороге ее встретила постаревшая, поседевшая мама. Вспыхнувшие от радости глаза переполнись слезами. Фея рыдала у нее на груди:
– Мама, мамочка, прости!.. Прости меня!..
Они еще долго плакали и прощали друг другу обиды. Забывали.
Потом сидели, пили чай. Мама говорила о здоровье, о папе. Фея – о колоссальных успехах на работе. Казалось, готовая оборваться иллюзия входит в новое, прочное русло.
Каждая мелочь до боли знакома – кухня, все еще неотремонтированные комнаты, морщинки на мамином лице. Не сосчитать, сколько новых добавилось. Немыслимо думать о том, что все это может быть ловко подстроенной ловушкой сознания.
– Вернешься к нам? – спрашивала мама. – Мы с отцом жутко скучаем. Глупо ведь получилось…
Мать умоляюще смотрела на Фею.
– Конечно, вернусь, мамочка! – Фея улыбалась, не желая чувствовать, как в глубине веет холодом.
«Конечно, вернусь, уже немного осталось, последнее задание…»
Пришел отец. Глаза – как у больной собаки. Моргает, силится сдержать слезы. Обрадовался до заикания, засуетился.
Вечером, пока мама готовила ужин, а папа гудел какую-то прекрасную, пребанальнейшую историю, Фея пошла перебирать свои вещи.
Она доставала из ящиков, снимала с полок старые дневники-тетрадки – не разобрать ни строчки. Впрочем, она не сомневалась – там не осталось ничего содержательного, ничего, что она готова вспомнить. Просто дрожащий пульс чернил. Зачем нужны слова душе на пороге бессмертия, не приспособленного удерживать человеческую память?
Запятые, точки, крючочки.
Когда Фея вернулась на кухню, красное предзакатное солнце било в окно. Квартира вымерла. На кухонном столе две чашки. Фея дотронулась до одной – холодна как лед.
Фея поняла, что еще мгновение – и она навсегда останется здесь. Под лучами пересыхающего солнца, в бесконечном ожидании давно умерших родителей. Ее существование свернется вокруг нее в двух маленьких, давно опустевших комнатках. Желание дождаться станет ее вечностью.
Она поцеловала портреты мамы и папы, развешенные в коридоре, и выбежала из квартиры. Теперь уже навсегда.
Она смогла прикоснуться к тому, что давно обернулось смертью. Она сделала все, что хотела. Но силы вновь не почувствовала.
U2: «Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me»
Кратер очнулся в гостиной у Шамана. Он долго осматривал стены, песочные часы, свет за окном. Судя по красным всполохам заката, пролежал он немало. Ничего не болело, голова не кружилась. Неужели ему когда-то хотелось пить, есть? Тело – пустая никчемная лохань. Кратер напряженно соображал, отчего же ему так плохо. Зудящая тяжесть в центре груди – сгусток нехороших, почти похмельных ощущений не трансформировался в слова. Слова прозвучали бы банально: «Как бы ни было хорошо вокруг, я знаю, что все плохо и будет только хуже… И вообще, за этот мир я не предложу вам даже таблетку нозепама».
Все следующие мысли только увеличивали тяжесть. Кратер понял, что истощающие чувства, тупо пульсирующие в груди, не покинут его до самой смерти. Смерть стала казаться простым, легким, почти приятным выходом из складывающегося положения.
Память о наваждении, которое Кратер испытал на пороге кухни, тускнела, приобретая бытовую близость, словно тиражируя всем органам привычку, уверенность – апокалипсис либо уже случился, либо обязательно случится (как о чистке зубов или вдохе сигаретного дыма).
С этой уверенностью предстояло жить.
Вошел Костя со стаканом воды. Кратер молча взял, выпил, кивнул.
– При любом раскладе Фею ты не найдешь, – первым заговорил Костя.
– Ты не первый, кто об этом говорит. Ты не первый, кто ошибается, – кротко поведал Кратер.
– Ее уже не спасти. – Костя чуть-чуть подумал и добавил: – Во-первых, во-вторых и в-третьих: оттуда – не возвращаются. В-четвертых, мир усопших должен исчезнуть. Зачем они нужны, если есть точно такие же? Если пуповину между мирами не перегрызть, через некоторое время во Вселенной останется горстка людей, не выпутавшихся из собственных иллюзий.
Кратеру не было никакого дела до других людей.
– Я могу твой рекламный ролик продемонстрировать другому скептически здоровому человекообразному? – хрипло спросил он, мысленно лелея надежду убедить Кораблева в том, что увиденный кошмар заслуживает уважения.
– Отдельные мысли и чувства, тем более саморазрушительные, очень легко транслировать, – ответил Костя.
И показал пару приемчиков.
На прощание Шаман повторил:
– Никогда не видел тех, кто вернулся оттуда… – И выпучив глаза шепотом похвастался: – Я – то самое невероятное исключение.
В ответ Кратер громко и сухо сознался:
– Единственный смысл всего, что мы совершаем в жизни, – в том, чтобы делать исключения обыденными и привычными.
ABBA: «The Winner Takes It All»
Несмотря на потрясения, Фея старалась оставаться прямой как графитовый стержень.
Если стояла, казалось – из-под ног невидимой выныривает земная ось и ищет свое продолжение в спинном мозге девушки. Если шла (гвардейская осанка, задранный подбородок) – можно было c жалостью наблюдать, как она тащит эту ось за собой, разрывая плотные, незримые слои мироздания.
Сколько их, невидимых, неизвестных и несчастных атлантов, зацепившихся за жизнь и время, не позволяя этим хлипким конструкциям обрушиться в тартарары? Сколько их, не чувствующих под собой ног, но упорно продолжающих существовать? Переставших узнавать смерть, уставших пугаться кризисов, эпидемий, войн, разрушений, атомных бомб, увяданий империй, потому что узнали – для исчезновения Вселенных достаточно мгновения. Один миг – и сотни миров перестанут быть. И не останется ни праха, ни пепла, ни вечной тьмы, из которой они возникли.
Сколько их, неслучайных, но без срока и судьбы, не замечая перешагивающих из одного мира в другой?
Фея как раз и была тем таинственным типом личности, которая возникает из ниоткуда, может изменять историю и сама изменяться до неузнаваемости и которая сама не знает о своей силе.
Она шла убивать то, что уже умерло.
На то, чтобы жить, любить, помнить, у нее не осталось сил.
…нет меня ни на одном из участков видимой кожи. Полностью вы меня не заметите никогда. Может, возникну в зеркале. Но и там просто тени, зыбь и пустая-глухая, как дерево, скорлупа. Я сама себя ненадолго вижу. Узнаю лишь изредка. Часто прежде меня возникает ненастоящая я – я храню свой образ только как отпечаток тихого шороха-эха усвиставшей вперед мысли, но надеюсь часто, что выживу. Редко верю, что навсегда.
Tori Amos: «Jackie’s Strength» & Albioni-Giazotto: «Adagio»
Приемный отец носил такой сосредоточенный вид, будто без продыху размышлял о фотосинтезе, биотерроризме, кварках и нейронах. Прерывать столь серьезные мысли не хотелось даже сейчас, когда он пришел навестить пасынка и поговорить как мужчина с мужчиной.
«Опять будет ныть, помню ли я, кто меня „изувечил“», – решил Витек и не угадал.
– Илья Юрьевич озабочен – ты снова рассказываешь о родителях, – разразился угрюмым укором отец. («Ио» – как про себя называл его Витек, подхватив прозвище у приемной же матери. «Ты не муж и не отец, а какой-то беспомощный и. о.», – как-то упрекнула она. «Ио» прилипло. Позже Витек разобрался, кто такие эти «и. о.», и термин показался ему очень удачным. Мачеху он называл менее изощренно – Жанетка.)
– Илья Юрьевич – стукач. Змеей подползет, сладко пошипит беззубым ртом, напросится на откровенность. Потом трезвонит… – Как Витек ни старался, остаться спокойным не получалось.
Вообще-то тема усыновления между ними стала почти табу, после того как Ио и Жанетка рассказали Витьку об этом деликатном событии. Причиной негласного запрета оказалась реакция мальчика – он с радостью и гордостью поведал, что прекрасно помнит и настоящего отца, и подробности жизни в другой семье.
Приемных родителей ошпарило. Они точно знали – мальчику не исполнилось и нескольких часов, как его подбросили в родильное отделение. Всю сознательную и бессознательную жизнь до усыновления в двухлетнем возрасте он провел в детдоме.
– Илья Юрьевич хочет помочь, – глубокомысленно заключил Ио, словно окольным путем пришел к известному выводу теоремы Ферма.
Как Ио удалось выбить этот худосочный прямоугольник отдельной палаты? Зачем в больнице так низко навесили облупившийся потолок? Интересно – трех недель затворничества достаточно, чтобы сойти с ума?
Витек был опутан бинтами, поэтому походил на огромную марионетку, до момента выхода на сцену уютно упакованную в одеяло.
– Илье Юрьевичу и самому не помешала бы помощь. Скорая погребальная, – вновь съязвил мальчик.
Илья Юрьевич служил главврачом в этой богадельне. Временами он становился порывисто добр и даже нежен, временами – по-старчески сварлив. Но самое главное – он давно был мертв!
– Жанетка не захотела приходить? – Вопросом Витек произвел болезненный укол сгорбившейся тушки Ио, в которой даже кровь переносила атомы проклятых философских вопросов.
«И зачем выдавать себя растерянным взглядом? Неужели так сложно научиться красиво лгать мне о своей любви?»
Витек часто находил поводы упрекнуть приемных родителей в равнодушии. Даже сверх того, что они заслужили своим предательским неумением приручить живое существо, продолжавшее искать близости.
– Мама заболела, – легко соврал Ио (лукавить в простом они научились). – Тебе принести еще чего-нибудь?
Ио кивнул на россыпи книг, листопадом обрушенных на крошечную палату. Книги выглядывали отовсюду – с тумбочки, батареи, подоконника, кровати, из-под нее.
– Расслабься. Я и так знаю почти все, – почти пошутил Витек.
«Знаю и то, что вы меня скоро забудете. В сущности, меня и не существовало».
Почему же, если он все равно будет вычеркнут из памяти, не произвести еще один жестокий выпад?
– Вы можете сколько угодно таскать меня по психологам. Приносить выписки из детдомовских талмудов. То, что там издревле мое имя, ничего не меняет. Я рос с настоящим отцом. Пока вы меня не забрали.
Ио совсем скис. Казалось, он разом постиг все кошмарные тайны, упрятанные в гранит истории.
– Даже сейчас он кажется мне более реальным, чем уколы и запах лекарств. – Витек зачастил, оправдывая свою память. – У него всегда наготове тысяча историй. Одна интереснее другой. И физику он знает лучше, чем ты. Сначала он носил меня в каком-то нагрудном рюкзаке. Потом старался вышагивать со мною в ногу. Вокруг него всегда лето. Я не помню ни одного холодного дня. Мы играли с отцом. Я постоянно чувствую его где-то рядом. Он любит меня. – Это прозвучало как: «в отличие от вас». – Даже если я все придумал, это лучшая в моей жизни фантазия.
Ио кивнул:
– Я знаю, мы виноваты. Не смогли… Тебе сейчас плохо. Возможно, когда станет лучше, ты поймешь, как жесток.
«Не станет».
Вечерние посиделки стали своеобразной традицией – Илья Юрьевич горячо интересовался выздоровлением мальчика.
Он приковылял вечером. Принес на длинной сморщенной шее маленькую седую голову со слезящимися глазками. Недружелюбно окинул многоэтажную башню из книг на стуле, примостился на краешек кровати.
– Ты сердишься? – начал разведку словом.
– Доктор на больных не обижается, – парировал Витек, как бронежилет натянув одеяло до загипсованной ключицы. Неуклюжие руки выложил поверх.
– Мне кажется, ты запутался.
– И считаете, способны помочь?
– Хочу попытаться.
– Интересно, как вы исцелите того, кто знает свое будущее?
– Посоветую изменить настоящее.
– И тут же увидеть роковые последствия?
Илья Юрьевич покряхтел, прочистил горло, заботливо подоткнул одеяло под ноги Витьку. Мальчик поежился, стараясь унять зуд заживающих ран.
– Нам по силам разобраться в твоих видениях и фантазиях. Попробовать сделать их менее болезненными.
– Разберитесь лучше в своих. – Витек больше не хотел жалеть этот ходячий фантом.
– Я уже так стар, что не в состоянии спорить с реальностью. – Главврач трижды шумно выдохнул воздух, изображая заразительный смех. – Часто стараюсь представить собственные похороны. Не хватает воображения.
– Вот как… Вас, наверное, следует раза три закопать. На «бис». Чтобы вы дотумкали, что уже мертвы.
– Мой мальчик, не надо шутить над смертью, – расстроенно прошамкал Илья Юрьевич дрожащим голосом. – Ты сам чуть не попал ей в лапы…
Витек захохотал. Внезапно, истерично. Расслабленно раскинувшись в колыхающуюся горизонталь. Так же неожиданно он прервал смех, вытер выступившие слезы культей загипсованной руки.
– Я у нее в лапах с самого рождения. Только и делаю, что вожу с ней хороводы.
Илья Юрьевич с опаской взглянул в глаза Витьку (в поисках безумия?) и попытался привстать.
– Не паникуйте, мой наивный Парацельс. Вы второй месяц так же исправно вальсируете.
Главврач решительно приподнялся. Витек отвернулся к стенке. Оттуда пробубнил:
– Я и без укола успокоюсь. Извините, переходный возраст… Ступайте.
Илья Юрьевич вновь сел:
– Предположим, ты не хотел меня обидеть или шокировать. Предположим, у тебя какие-то юношеские тараканы, которые выбегают самым несуразным образом. Танцы, смерть, Кастанеда, Тимоти Лири… Наверное, не очень удобно держать беспокойное хозяйство в голове. Давай сыпь эту кашу сюда… Разберемся.
– Ах, Макаренко! Ах, Владимир Львович Леви! Маладца! – восхитился Витек. – Что ж вы сразу кидаетесь докладывать Ио, стоит мне поделиться с вами чем-нибудь личным?
– Хватит истерик! – срывающимся голосом прикрикнул Илья Юрьевич. – Ты можешь ненадолго перестать пузыриться из-за своих обид? Не изображать средоточие всех бед? Попробуй рассказать о своих пируэтах с родителями, со мной, с дворовыми друзьями. Со смертью, наконец. Отстраненно. Беззлобно. Как сказочку.
– О своих – не хочу. Давайте о ваших пируэтах зарядим повестушку.
На мгновение слезящийся взгляд старика накрыла топкая пелена испуга. Он принялся ходить по крошечной палате, уперев глаза вертикально вниз, отыскивая тропы среди разбросанных книг.
– Говори, о чем хочешь. Главное, чтобы тебя перестало мучить и пучить от всей этой околесицы…
Витек тяжело перевалился на другой бок:
– Договорились. Но только без обид. Представьте себе такой сюжет. Существуют две Вселенные…
– Почему не тринадцать?
– Не ерничайте, Илья Юрьевич! Просили? Получайте. Ровно две. (Старик пробурчал: «Валяй, я и четвертинку Вселенной не могу вообразить…») В одной человек сделал шаг – в другой этот шаг повторился. В одной вспорхнула бабочка с куста – в другой траектория сохранилась до зептометра[13]13
Зепто – (zepto-) – дольная приставка в системе единиц СИ, означающая множитель 1021. Употребляется вместе с метрическими и некоторыми другими единицами измерения. Принята в 1991 году.
[Закрыть]. Не смущает вас подобное?
Илья Юрьевич молча пожал плечами. Не удержался от ироничного:
– Где-то там, в других просторах, кто-то похожий на меня вздрогнул плечами?
– Более того: в голове у него пронесся тот же сумбур, что и у вас. Неужели вас ни разу не посещало ощущение – то, что вы делаете, делаете не совсем вы или не только вы?
– Все это хорошо знакомо мне из медицинской практики. Дежавю. Шизофрения.
– Смейтесь, смейтесь. Что необычного в том, что хаотичные метания мух по стеклу в точности повторяются в другом пространстве? Это же так логично – мысль, царапнувшая вас, тут же отражается на другом носителе. Синхронность полнейшая, вплоть до колебаний электронов в атомной решетке.
– Электроны – это, слава богу, не самое страшное, – облегченно выдохнул главврач.
– Слава богу, – согласился Витек. – Синхронность сохраняется вплоть до того времени, когда для живых существ наступает момент необратимой гибели головного мозга. В одной Вселенной судьба их прерывается, как вы знаете, самыми разнообразными способами. В другой – какое-то время они продолжают существовать, счастливо избегнув неизбежного…
Все эти слова были им найдены в углах больничного склепа. Из хлипкого убежища кровати он высматривал их душными майскими ночами, проговаривал, пробовал на вкус. Витек не просился в общую палату, потому что из сумрака своей одиночки нащупывал дорогу, которая должна не просто вывести из осточертевшей клиники, но и указать путь к отцу.
«Словно важные и прежде неотъемлемые частицы меня рассыпаны и блестят в темноте, а я собираю, вяжу спасительную нить, надеясь миновать грустного финала, который мне удалось прозреть».
Но, составляя цепочки из фраз, заточив их безжалостную, бритвенную остроту, он все больше запутывался, продолжая ждать таинственных сигналов и указаний.
Чем больше проходило времени, тем меньше оставалось надежд, что кто-то прояснит знание, то ли найденное извне, то ли самостоятельно вспухшее в сознании.
– Но позвольте, – от волнения Илья Юрьевич перешел на полемическое «вы», – какая синхронность? Она моментально нарушается! Выжившие тут же начинают перекраивать мир!..
Витек как болванчик качал головой, демонстрируя простоту вопроса и немедленную готовность ответа:
– Многое вы перекроили за месяц?
Илья Юрьевич остановился, уперся нахмуренным лбом в невидимую, но закрытую дверь. Растерянно огляделся в поисках стоп-крана, чтобы прервать движение эшелонов слов и прицепившихся к ним недомолвок. Они охлаждали радостные ощущения теплившейся внутри жизни.
Витек беспощадно продолжил:
– Вы преувеличиваете пассионарный азарт мертвых. Он лишь сейчас стал немного заметен…
По-прежнему не проронив ни слова, главврач присел на книжную башню. Покачнулся, но усидел.
– Когда рухнули американские башни-«близнецы», в одной Вселенной и головешки могли не сыскать, а в другой – везли чудом спасшихся в больницы. Либо они сами выбирались из-под завалов и через весь Нью-Йорк топали домой в пыльных одеждах. Думаете, надолго хватало этих душ, переполненных адреналином? День? Два? Некоторым и нескольких ужасных секунд под щебенкой стало достаточно, чтобы утопить себя в какой-нибудь спасительной фантазии…
Илья Юрьевич мотнул головой, словно стряхивая осыпавшуюся на нее побелку:
– Все равно! Те, кто выбрался… Они же что-то делали… – потускневшим голосом пролепетал он. – Покупали продукты?.. говорили с близкими?.. забивали гвозди?..
– Уходили, и память об этих нескольких днях благополучно стиралась. Все, кто соприкасался с ними после смерти, помнили только головешку и ритуалы захоронения. Чем активней ворочаются обреченные в своих гнездах, тем скоротечней время, отпущенное им на осознание и смирение. Чтобы окончательно исчезнуть, большинству достаточно дурмана снов, которые легко заменяют реальность. Так же прочны, так же вкусно пахнут. Если вам все удается, крепко задумайтесь, не иллюзия ли это. Впрочем, вы прагматичны, поэтому столь долговечны.
Илье Юрьевичу удалось прийти в себя, и он вновь попытался начать игру с возмущенного:
– Витя, ты придумал какую-то свиноферму с очередью на убой! Я раздобуду для тебя статистические данные о смертности. Это же целая армия!..
– Целая армия призраков-однодневок, – перебил Витек, – и почти все имеют удивительное свойство не замечать собратьев по несчастью. Конечно, есть несговорчивые осколки, склонные воображать лучшую для себя действительность. Некоторым даже удается воплотить отдельные хрусталики своей мечты. Если устойчивый особенно неугомонен – оба мира ни с того ни с сего лихорадит. Происходят необъяснимые явления вроде расстрела одноклассников, ритуальных самоубийств или продажи девственности по Интернету.
Илья Юрьевич пересел на кровать. Изобразил на челе сострадание к сумбурным фантазиям подопечного. Сквозь одеяло погладил полено его ноги:
– Понимаешь, мой мальчик… Эта картина миниатюрна и не вмещает буйство явлений нашего мира. История необратима. Может быть, одному твоему призраку достаточно чихнуть – и цепную реакцию не остановить.
– Пока обходилось, – усмехнулся Витек. – Это фантазеры считают – достаточно таежной стрекозе иначе взмахнуть крыльями, чтобы история человечества выпала из проторенной колеи. Дудки! Эти миры на удивление прочны. Даже если оседлать машину времени и упорно отмечать каждое Рождество прошлого века взрывами Белого дома, нынешняя действительность вряд ли изменится. Не надо думать, что история хрупкая, марципановая. Она устойчива как пьяный матрос, на утлом суденышке усмиряющий шторм.
– И еще – ты упустил логику. У каждого явления, даже такого грандиозного, как твои Вселенные, должна быть логика.
Витек охотно предложил оппоненту еще один алмаз, недавно обнаруженный в этой неприглядной комнате:
– Мирозданию просто жаль невоспроизводимых параметров души. Когда она покидает один физический носитель, ей предстоит запечатлеться на втором, где она навсегда останется неизменной. Душа не готова, она еще плавится от инерции жизни. Поэтому этот нематериальный алгоритм какое-то время работает на экспериментальной площадке. Любое движение души представляет такую ценность, что оправданно сотворение любого числа Вселенных.
«Или уничтожение!» – полоснуло мыслью по глазам.
– Вы максималист, молодой человек. Так и запишем в истории болезни…
– Никто не сможет восхититься вашим наблюдением, – жестко прервал главврача Витек. – Ваш дружный медперсонал будет лицезреть каракули Соколова Ивана Дмитриевича, назначенного на ваше место месяц назад.
Илья Юрьевич вновь, хотя и не без труда, изобразил заразительный смех:
– А ты, мой вечный оппонент, будешь столь же забывчив?
Витек не поддержал его:
– Я – нет.
Главврач снова произвел череду громких выдохов.
– Ну вот видишь… Опять внутреннее противоречие…
– Никаких противоречий. Я – редкий случай. Мне посчастливилось родиться в мире мертвых. Я помню всё, а меня…
Он не стал договаривать: «…забудут все».
– Чертовщина какая-то!.. Витализм… Маскировка смерти с помощью симулякров… Завтра переведу тебя в общую палату. Есть у меня хорошие, до безобразия живые пацаны на примете…
С огромным чувством вины Витек смотрел на закрытую дверь, зная – завтра никто, кроме него, не вспомнит о последних тридцати шести днях существования не самого плохого человека той и этой Вселенной, не самого плохого врача – Ильи Юрьевича Ларина. Целый месяц слов и дел его будет невосполнимо забыт всеми, кроме испуганного мальчика, который и сам будет вскоре вычеркнут из памяти. Весь – от макушки до пят, от рождения до предвосхищенной им мучительной смерти.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.