Текст книги "Аукцион"
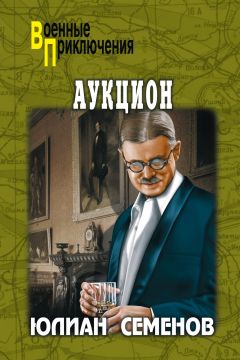
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
3
В квартире никого не было: старшая, Бэмби, уехала за город; Лыс жила у Нади; любит мать, никого так не любит, как ее; Степанов пошел к себе в мастерскую, достал из шкафа пару рубашек, джинсы, кроссовки; мучительно не любил собираться, обязательно забудет что-то важное, а лишнее положит в чемодан; позвонил Зите; смешной человечек, очень хороший и добрый:
– Как у тебя сегодня дела, Буратинка?
– Как всегда. Будни, Митяш; скучаю; о вас думаю.
Степанов давно не звонил Зите; удивился; кажется, раньше она меня называла на «ты». Он терпеть не мог одностороннего «ты», что-то в этом есть от барства.
– С каких пор ты меня на «вы»?
– Я всегда вас так называла.
– Черт, не может быть…
– Правда. Вы просто не обращали внимания… А может, раньше называла на «ты», не помню… Я ж вас забыла. Скучаю и забываю, забываю и скучаю…
– Ну да. – Он усмехнулся. – Я тебя в Доме кино с таким красавцем видел, что просто сил нет. Атлет с разведенными плечами.
– Это когда ж?
– Да с месяц назад.
– А вы с кем были?
– С мужчинами. – Степанов вздохнул. – Пил водку и говорил о тебе.
– Уж и поверила.
– Как-то странно вы, женщины, устроены: чем больше сами в блуде, тем суровее на нас бочки катите. Молчала б, Зитуля, грех.
– Хотите, чтоб я к вам приехала?
– Хочу.
– Надо помыть кухню?
– Попала в десятку. Да и соберешь меня заодно.
– А куда?
– Недалеко.
– Снова на полгода исчезнете?
– На неделю.
– Уж и поверила. Тогда атлетов с разведенными плечами не поминайте. Сами исчезаете постоянно, а бедную женщину попрекаете… Вы один?
– Нет. С детьми и мамой.
Зита рассмеялась:
– Ладно. Еду.
– У тебя деньги есть?
– Нет.
– Одолжить можешь?
– Попробую. А что надо?
– Купи в «Кулинарии» что-нибудь.
– Я девушка безынициативная, вы мне указания давайте.
– Свекольных котлет купи. А если есть ледяная, у нас вообще будет сказочный стол.
– Больше ничего?
– Намекаешь на шампанское?
– Намекаю.
– В холодильнике имеет место быть «Брют» – две бутылки.
«Хороший человек, – снова подумал Степанов, положив трубку. – Их поколение лучше нашего, легче, что ли, беспечнее. Мы-то запрограммированы на дело. А может, это правильно? Может, тревожно, что они так вальяжны? Откуда это? Как откуда, – ответил он себе, – от спокойствия. Войны не знали, карточек на хлеб и ботинки тоже, страшных ночей, когда никто не ведал, будет ли утро, конур в коммуналках тоже не знали, когда один коридор, двадцать жильцов и две плиты, очередь на которые расписана, и на ванную комнату тоже, тридцать седьмого года не знали, да и сорок девятого тоже…»
Степанов однажды – когда еще был жив Режиссер – пришел к нему в студию, на Лихов переулок, и попросил подобрать московскую хронику, начиная с сорок пятого года: улицы, рестораны, дома, театры, магазины, квартиры. Девочки из монтажного цеха работали два дня, приготовили пять коробок; Степанов и Режиссер заперлись в маленьком душном зале, просмотрели материал и долго потом сидели молча, смоля сигареты; хроника того стоила.
– Ты что пишешь? – спросил тогда Режиссер.
– Сорок четвертый год.
– А зачем эта хроника?
– Потому что прошлое всегда опрокидывается в будущее. Если застой – тогда писать нельзя, рука к машинке не потянется. Без ощущения исторического оптимизма нет искусства. Я-то помню нашу Можайку в снегу и грязи, и было это в сорок пятом, и в сорок восьмом так было, когда забрали отца; а как ужасно были одеты люди: черный цвет, сплошная униформа, разве что бурки попадутся, начальственные бурки, белые с желтым кожаным рантом… Мы-то помним с тобою, сколько людей ютилось в коммуналках, но ведь проверить себя необходимо. Вот и проверил. Тридцать лет – не срок для истории, а все же за тридцать лет сделано столько, сколько не было сделано за минувший век и первую половину этого…
– Помнишь, сколько стоили фильдеперсовые чулки?
– Помню.
– А в каком году у нас стали впервые продавать французские духи?
– Лет семь назад.
– А когда ты купил первый телевизор?
– Телевизор-то… Бог с ним, а ведь тридцать лет назад мало кто знал, что такое холодильник. А вот, поди, представь сегодня, как можно жить без холодильника? Можешь?
– А ты?
– Не могу. Хоть убей, не могу. А ведь америкашки почти в каждом доме имели холодильник еще в тридцатых годах… И телевизоры тоже. Так-то вот… Обидно только, что глупим на каждом шагу, так бы могли рвануть, так бы вышли на прямую, так бы нос утерли тем, кто говорит, что система не работает… Вернее не скажешь: вперед, к коммунизму, – значит назад к Ленину… Знаешь, я очень горжусь тем, что мы сделали за последнюю четверть века. Мне не так горько, когда я схватываюсь на Западе, потому как помню, что у нас было в пятьдесят втором… Между прочим, самые красивые девушки на земном шаре – наши. Не согласен?
Режиссер улыбнулся:
– Знаешь, я снял однокомнатную квартиру в Измайлове… Мы там встречаемся с Леной раз в неделю. Она тебе нравится?
– Да, – солгал Степанов.
– Дружочек мой, – тихо сказал Режиссер. – Чудо нежное… Я не знаю, как бы жил без нее. В свой дом вхожу, как в крематорий… Тебе ничего не говорили про… Словом, ты что-нибудь слышал про роман моей жены?
– Нет, – снова солгал Степанов. – Не верь.
Режиссер посмотрел на Степанова внимательно, полез за сигаретой.
– Но ведь если врут, значит, я – мерзавец? Лена появилась после того, как я узнал про этот роман жены… Нет, ты, правда, думаешь, что врут?
– Правда, – солгал Степанов; он не мог поступить иначе, о таком друзьям надо лгать, ибо это ложь во спасение.
Зита пришла со свертком и сразу же стала мыть посуду. Это у нее какая-то страсть, подумал Степанов, – вытирать пыль и мыть посуду; а вообще женщины чистоплотнее мужчин, отмывают Евин грех, в генах заложено, не иначе.
– А масло у тебя есть? – спросила Зита, легко поцеловав его в щеку мягкими холодными губами. (Занятно, подумал Степанов, как это все у них странно: стоит только войти в твой дом и начать мыть посуду, как «вы» исчезает, только «ты», отчего? Он вспомнил фильм «Их было пятеро», боевик пятидесятых годов; там была замечательная актриса, она играла роль проститутки; драматург написал ей прекрасные слова, когда она поднималась с любимым на фуникулере и он предложил ей перейти на «ты»: «Через мою постель прошло так много солдат и они так легко называли меня на “ты”, что высшим благом любви я ощущаю право говорить “вы” тому, кого люблю, и от него слышать это же».)
– У тебя есть масло? – повторила Зита.
– Кажется.
– Если нет – мы погибли. Свекольные котлеты развалятся, положи я их на сковородку без масла.
– У меня тефлоновая, можно без масла.
– Что-то я не верю в эти новшества.
– Дикая ты?
– Очень.
– Картофельный бунт затеешь?
– Отбунтовались, слава Богу.
– Давай сначала сложим мои вещи.
– Две минуты дел.
– Больше. Надо упаковать черный хлеб, две банки икры вместе с кроссовками и спортивным костюмом, бутылку водки с галстуком и шерстяными носками, трусы с книгами и джемпером.
– А джемпер-то зачем? Весна.
– В Лондоне весны холодные.
– Ты в Лондон? Как интересно! А плащ взял?
– Нет.
– Так ведь там постоянные дожди.
– Не больше, чем у нас. Слушай, Зитуля, а почему ты ко мне, старику, ездишь?
Зита рассмеялась:
– «Старик»! Ты знаешь, что такое старик?! Это который тюфяк. Или лентяй. А ты умеешь цветы дарить. Женщине ничего не надо, только б цветы дарили.
Зита поставила посуду в сушилку, оглядела маленькую степановскую кухоньку, села на табурет возле окна, подперла щеку кулачком и вздохнула:
– Жизнь какая-то дурацкая, да, Юрьевич?
– Есть несколько. Что это тебя в минор потянуло?
– Так… Ты женился, когда я в первый класс пошла, а твоя Лыс и мой Колька родились в один год. Ты один, и я одна, а вместе быть нельзя, Колька мне не простит, тебе – Лыс с Бэмби. Ты мотаешься, от себя убегаешь, а меня атлеты с развернутыми плечами обхаживают. Говорят, судьба каждого предопределена заранее. Верно, да?
– Черт его знает. Наверное, все-таки верно.
– Ты счастливый человек, у тебя есть любимое дело.
– Это верно.
– Пойдем чемодан укладывать.
– Айда.
Золотой человек, подумал Степанов; самое страшное, когда в женщине проглядывает хищница; а в общем-то, не мы ли их такими сделали? Унизили до равноправия, им теперь, бедным, после работы и в очереди стоять, и обед готовить, и белье в прачечную нести, а кавалер телевизор смотрит, возлежа на диване. В тапочках. Хоть бы босой, в этом есть что-то хоть мужское, так ведь нет, все норовят в шлепанцы влезть, домашний покой, сплошная благость. Нет бы по совместительству куда устроиться, чтоб денег в дом принести, подарок жене сделать… Хотя поди устройся, мильон справок потребуют, затаскают по отделам, замучают, не до заработка… Сами отучаем молодежь от работы, а может, боимся, что слишком много заколотят, – всех хотим под одну гребенку, – преступно, не думаем, к чему это приведет.
Зита собрала чемодан быстро и споро, так только Бэмби умеет укладывать, подумал Степанов; у Бэмби началась своя жизнь, и слава Богу, я не вправе ее ни в чем упрекнуть, я обязан радоваться этому, иначе все будет противоестественным; годы – это потери, и ничего с этим не поделаешь; Роланд испытывал счастье, только если против него на поле брани выходила сотня; когда ему противостояло пять рыцарей, он испытывал раздражение; с каждым прожитым днем врагов у тебя все больше: болезни, ощущение одиночества, страх перед усталостью, которая не позволяет писать столько, сколько мог раньше, бессилие перед мыслью о том, что не успеешь сказать все то, что обязан; литератор подобен аккумулятору, жизнь, постоянная подзарядка, только только поднялся до понимания чего-то общего, только-только ощутил слово, как вдруг ударяет хвороба, и все уходит вместе с тобою в небытие… Ах, как прав был Уайльд, когда говорил, что слово более могуче, чем музыка и краски, оттого что в нем и страсть, и одухотворенность, и музыкальность, и цвет, и – главное – мысль… Хотя тайна накопления слова вечна, и счастье, если ты окажешься хоть частицей в этом процессе… Средние века подобны потаенному кладу человеческого духа, – аскетизм, отторжение самого себя от красоты и плоти, от дерзкой мудрости сберегло человечеству такой высверк мыслей и чувств, что люди заряжались им пять веков, – после того, как пришло Возрождение… Целое тысячелетие Европа таилась, прячась от самой себя… В этом ее молчании копилось то, что дало Галилея и Леонардо, Рембрандта и Эль Греко, а потом Матисса, Сурикова и Репина, а после Врубеля…
– Знаешь, я иногда думаю, – сказал Степанов, когда они вернулись на кухню и Зита включила маленькую электрическую плитку, – что эти мои трепыхания с нашими картинами не очень-то и нужны…
– Ты еще слушай идиотов… И потом, тебе завидуют… Живешь, как хочешь, девушки к тебе льнут, здоров…
– Здоров, – повторил Степанов. – Мечтаю скорее лечь на койку и уснуть. Думаешь, я смогу заниматься любовью?
– А мне нравится смотреть, как ты спишь. Тебе страшные сны показывают?
– Я их не помню. Только Бэмби помнит все свои сны.
– Бедненькая… Я так ею на выставке любовалась, так восхищалась ею. Какая же она красивая… Очень похожа на Надю.
– На меня тоже.
– А мой Колька похож на отца. Меня это стало пугать.
– Не вздумай ругать отца. Это оттолкнет его от тебя.
– Я знаю. Я хвалю отца, все время хвалю. А знаешь, как трудно постоянно врать?
– Но ведь что-то хорошее у тебя с ним было?
Зита пожала плечами:
– Рыбу прожаривать?
– Ни в коем случае. Я сыроед.
– Знаешь, все-таки самая прекрасная поэтесса – это Цветаева.
– Ты любишь только ее и Ахматову, да?
– Наверное… Великую поэзию создают несчастья.
– У вас с ним было хорошее, – убежденно сказал Степанов. – Разве Колька – это не самое прекрасное в твоей жизни?
– Да, – ответила Зита. – Верно. Где твой «Брют»?
В восемь утра позвонила Бэмби:
– Па, я не опоздала?
– Нет.
– Я сейчас приеду и отвезу тебя в Шереметьево.
– Хорошо.
Зита вздохнула:
– Не говори Бэмби, что ты зря занимаешься своими картинами… Это ужасно больно слышать, так больно, что прямо сердце рвет… Кто тебя обидел?
– Никто. Просто мне так показалось. Я ходил за командировкой в одну газету, и так мне стало грустно…
– Да завидуют они! Не обращай внимания… Сколько у меня еще есть времени?
– Минут десять. Выпей кофе, Буратинка.
– Не хочу. Я поцеловать тебя хочу. И пожалуйста, позвони, когда приедешь; ты ведь только перед отъездами звонишь. А потом коришь атлетами…
– Выходишь за него замуж?
– Да.
– Правильно делаешь.
– Нет, неправильно. Просто он спортсмен, мастер, Кольке это нравится, мальчишка ведь…
– Ты тоже мастер.
Она усмехнулась:
– Я – бывший… А он еще катается… Он гонщик, понимаешь… Но если ты скажешь, что не надо, я не выйду.
Степанов закурил:
– Увы, я скажу «надо».
– Я все равно буду к тебе приезжать.
– Это нечестно.
– Честно. Любви у нас с ним нет, так, мирное сосуществование, очень удобно.
– Ты очень одинокий человек.
– Нет. – Она покачала головой. – Очень одинокий человек ты, Юрьевич. И я ужасно тебя люблю…
«Нет, – подумал Степанов, – не то слово; ты просто привыкла ко мне, человечек, и тебе спокойно со мною, хотя, наверное, с атлетом лучше, да и молод он, следовательно, полон фантазий, а что такое фантазия, как не мечтание о совместном будущем, обязательно счастливом? “Люблю” – особое слово; кто любит попа, кто попадью, а кто попову дочку. Нет еще такого слова, не родилось, которое бы определяло наши отношения; они стали типичными; много молодых женщин тянется к мужикам моего возраста – и не за деньгами или благами, отчего так? Вот бы “Литературке” социологический опрос провести».
– Ты о чем, Юрьевич? – спросила Зита.
– О тебе, – ответил он и погладил ее по щеке. – Спасибо за то, что пришла, я очень тебе рад, Буратинка…
IX
«Дорогой Иван Андреевич!
Слава Богу, Врубель снова в прекрасной форме, недуг его отступил! Как он пишет, бог ты мой, как он вдохновенно работает!
Портрет Забеллы-Врубель на фоне берез сказочен! А “Раковина”? Князь Щербатов сразу же выложил за нее три тысячи рублей! А еще два года назад “Царевна-Лебедь” стоила несчастному триста! Неужели мы признаем гения лишь после трагедии, им перенесенной?! Или – хуже того – смерти?!
А каков его “Автопортрет”?! Какая сила духа, какое моральное здоровье, доброта!
Враги примолкли, имя гремит не только в Париже, но и в России. Враги есть не что иное, как мелюзга, но ведь эк они смогли организовать его травлю, сколь последовательно и упорно рвали его тело своими грязными когтями, до чего изобретательно клеветали, как изощренно топтали любую его работу!
Он вернулся из клиники с ворохом рисунков и заготовок, пишет каждый день и снова не отходит от мольберта по восемнадцать часов, а то и больше.
Порою мне кажется, что он словно бы чувствует нечто, поэтому торопится отдать нам все то, что ему предначертано…
Слава его создалась сама по себе, им одним, его трудом, никто из критиков не уделил ему сколько-нибудь сериозных статей. Вой шавок забыт, исследования творчества гения нету и в помине, поскольку не готовы мы еще к этому; он всех нас обогнал, на двадцать лет вперед живет, но имя его тем не менее известно повсюду. Вот ведь диво-то, а?! Воистину, Иваны, не помнящие родства. Человек, приносящий такую громадную пользу престижу России, ее национальная гордость, невероятно одинок. А может, критики просто не решаются писать об нем, понимая свою малость в сравнении с глыбою?
Но кто же, кто будет радеть о памяти народа?!
Салонная болтовня имени не делает. Труд, только труд во имя Родины, только испепеляющая честность, только талант, Богом данный…
Грустно и пусто, Иван Андреевич, а просвета не видать.
Ваш Василий Скорятин».
4
Розэн вышел из самолета, кутаясь в толстый шарф, купленный в «Березке» (где-то прохватило: последние дни были забиты совещаниями, накурят, откроют форточку, сквозняки; москвичи закаленные, а он почувствовал озноб, испугался, что свалится, постоянно хотелось укутаться, самое страшное ощущение – холод).
В Цюрихе было солнечно, хотя с гор дул пронзительный ветер; пассажиров прилетело немного, после Пасхи все отсиживаются дома; сезон деловой активности в эти недели несколько спадает; пограничник лениво глянул в его зеленый паспорт, пропустил; пошел за багажом – вез, как всегда, черный хлеб, баночную воблу, деревянные сувениры из магазина на улице Димитрова; прощаясь, сказал Степанову, что, если бы ему дали право производить русские сувениры и торговать ими по всему свету, бросил бы станки, стал мультимиллионером; ходите по золоту, не хотите нагнуться; чемодан подвезли через пять минут; взял каталку, пошел к выходу; сначала в отель, оттуда звонок русскому князю; интересно бы понять, каков его бизнес; возможна ли кооперация; завтра в банк, взнос в предприятие десять тысяч «баксов»; жаль, что об этом нельзя писать, – в Нью-Йорке схарчат в два счета, да и Панама в этом смысле не подарочек; конечно, город пахнет золотом, прекрасное место, откуда можно вертеть дела, но что касается поддержки русских, и думать нечего: кругом американские военные базы, совершеннейшие психи, в каждом видят шпиона; конечно, для рекламы это неплохо, меценатов чтят, но не сейчас, года через два, когда в банках Женевы и Цюриха будет столько денег, что не страшны словесные нападки; русские говорят, что на каждый роток не накинешь платок, верно, но в каждый раскрытый клювик можно положить пять тысяч долларов, и клювик закроется – ам, и нету!
– Мистер Розэн, – услышал он чей-то тихий незнакомый голос за спиной и сразу же ощутил в груди холод; Жаклин верно говорит, что у него абсолютное чувствование, совершенно животное.
Он обернулся; мужчина, который окликнул его, был одет в синее пальто тончайшей шерсти; лицо очень сильное, волевое; сила чувствовалась в том, как были посажены его глаза, круглые, птичьи, – очень глубоко; брови вразлет, густые, словно бы наведенные в салоне красоты; резкие продольные морщины по щекам; чуть оттопыренные боксерские уши (по точечкам на мочках было заметно, что ему периодически убирают волоски – квалифицированная работа, специалисты на вес золота, прейскурант невероятно высок), гладкий высокий лоб, красивая седина; последнее, что успел увидеть Розэн, были туфли из лайковой кожи – как правило, такие можно купить только в магазине в Ка Дэ Вэ в Западном Берлине или в лондонском «Сэлфриджес»; лет семь назад подобная обувь производилась в основном в Испании, – куда им девать коровьи кожи, корриды каждый день, быки отменные, с лучших трав; теперь такой обуви нет, гонят расхожую, демократизация общества, рынок точно реагирует на изменение в политической жизни страны.
– Я слушаю вас…
– Меня зовут Луиджи, мистер Розэн. У меня к вам поручение.
– Да, но я не знаю вас, мистер Луиджи. – Розэн говорил по-английски безукоризненно, но с невероятным акцентом; по образованию техник, страсть к точности, в русском-то говорится, как пишется, а в нынешнем родном пишут «бридге», а говори «бридж», «вар», а читай «вор», «хоуарз», а произноси «ауарз», ничего не попишешь, фонетика; потому-то, наверное, русские так недоверчивы по отношению к англосаксам, во всем ищут второй смысл.
– Я – Луиджи Роселли, владелец фирмы по торговле правами на журнальные и газетные статьи. С мафией не связан. – Мужчина улыбнулся; зубы, как у Бельмондо (хотя далеко за пятьдесят), наверное, летал в Штаты, там вживляют новые, вырванные у юношей, погибших в автокатастрофах, – бешеные деньги, но гарантия абсолютная. – Я отвезу вас, – он кивнул на свой «Мерседес», – по дороге поговорим…
– Да, но я не езжу с незнакомыми, – ответил Розэн, ища глазами полицию; увидел двух, успокоился. – Вы можете сказать мне то, что хотите, прямо здесь.
– Хорошо, я подъеду в ваш отель, – сказал Луиджи Роселли. – Право, я не намерен вас ни похищать, ни шантажировать. Меня просили поговорить с вами о том деле, которое касается не вас, но вашей семьи.
– Так говорите! – воскликнул Розэн, сложив на груди свои коротенькие маленькие руки.
– Вы не хотите, чтобы я знал, где вы остановитесь на эту ночь? Хорошо, пойдемте в кафе.
– Да, но у меня чемодан…
– Это, конечно, очень серьезное обстоятельство. – Роселли смешливо дернул кончиком тонкого, хотя и перебитого в хряще носа. – Я занимался спортом, помогу докатить ваш чемодан до кафе; за воду и сандвичи плачу я.
Когда они сели за столик, Роселли попросил наглого официанта, смотревшего поверх голов посетителей, принести два кофе, поинтересовался, не хочет ли Розэн двойной, тот ответил, что он несколько ошеломлен происходящим, кофе вообще не пьет, только чай; сердце; сказал, что ограничится стаканом воды: «Нет, нет, только самой обыкновенной, от минеральной у меня изжога», – и приготовился слушать, как-то при этом странно похлопывая себя по карманам.
– Хотите курить? – осведомился Роселли. – Пожалуйста, только мои без фильтра, я долго жил в Париже, привычка – вторая натура…
– Благодарю вас. Я бросил курить, поэтому не ношу с собою табак, хотя до сих пор не могу себе отказать в двух-трех сигаретах…
– Фокусы, – вдруг жестко и сухо сказал Роселли. – Так вы курить никогда не бросите. Это опасное занятие – сидеть между двух стульев, мистер Розэн.
– Что? – спросил Розэн, снова почувствовав холод в груди.
– То самое. Мне поручено сказать, что мистер Степанов работает на Кремль; так называемый красный князь ведет здесь – по его заданию – пропаганду: «мир и дружба» – словом, понимаете… Если вы действительно решили платить им деньги, вашему предприятию в Панаме может быть нанесен ощутимый урон, мистер Розэн.
– Да, но я имею право тратить мои деньги так, как хочу! Я это делаю в интересах моего бизнеса, в конце концов! Мне никто не поможет, если я не помогу себе сам! И потом, что тут предосудительного – купить пару картин и вернуть их России?!
– Ничего. Ровным счетом. Речь идет лишь о том аукционе, на который пойдут ваши пожертвования. Те люди, которые намерены приобрести полотна Врубеля, не позволят, чтобы они ушли на восток. Эти люди имеют большой вес в банковском мире. Они вас сомнут.
– Да, но откуда вы узнали, что я намерен…
Роселли вытащил из кармана конверт, достал оттуда две странички, протянул Розэну:
– Почитайте. Это запись телефонных разговоров Степанова с князем…
– Вы из разведки?
– Спаси Бог! Вы никогда не прибегали к услугам частных детективных агентств?
– Да, но зачем мне это?!
– Прочитайте, прочитайте, мистер Розэн. А прочитав, подумайте.
– У вас есть очки? – спросил Розэн.
– А у вас нет?
Розэн открыл свой плоский портфель, неожиданно для себя протянул Роселли ложку из Хохломы, которую на самолетах Аэрофлота дарят пассажирам первого класса; достал чехол с очками, прочитал странички, не прикасаясь к ним пальцами, и сказал:
– Да, но это же явная слежка. У вас есть основания следить за этими людьми? Они делают что-то противозаконное?
– Повторяю, меня уполномочили передать вам, что в ваших же интересах взять сейчас же билет на самолет, который идет в Нью-Йорк или Панаму. И улететь. Люди, которые мне поручили эту миссию, относятся к вам с симпатией. Вы – доверчивый человек. Москва втягивает в свои сети с помощью чего угодно – культуры, спорта, медицины, – а потом бизнесмен оказывается в центре паутины, выпутаться из которой по-доброму – невозможно.
– Да, но я заангажирован, мистер Роселли! Я говорил в Москве, что хочу помочь им!
– Понятно, понятно… И под это вам пошли навстречу? Сулили льготы? Обещали наибольшее благоприятствование? Скажите им, что у вас случился сердечный приступ. Если хотите, мы подготовим вам соответствующие справки. Пришлете потом письмо, что вы по-прежнему горите желанием проявить себя на ниве меценатства, скажите только, где будет новый аукцион русской живописи. Вот вам совершенно прекрасный выход из положения…
– Да, но тем не менее ваш ультиматум ставит меня в сложное положение. Может быть, господа, которые поручили вам эту миссию, каким-то образом компенсируют те сложности, что могут возникнуть у меня в Москве?
– Не думаю… Вас никто не вынуждал в Москве к меценатству, я полагаю? Это ведь была ваша инициатива? Или вам кто-то намекнул на целесообразность такого рода комбинации?
Розэн снова всплеснул руками:
– Какая комбинация?! Я был совершенно искренен! В конце концов я обязан им спасением…
– Перестаньте, мистер Розэн. Своим спасением вы обязаны самому себе. И никому другому. – Он обернулся к официанту, щелкнул пальцами (отчего-то именно этот сухой, властный щелчок произвел самое ужасающее впечатление на Розэна, в животе снова похолодело), не глядя на счет, бросил деньги, не считая, положил в карман сдачу (взял и мелочь, в аэропортах сервис включен в счет, интересы официанта гарантированы соглашением профсоюзов с авиакомпаниями) и резко поднялся.
Розэн снова сложил руки на груди:
– Погодите же! Мы ни о чем не договорились…
– Честь имею, мистер Розэн. Я свое поручение выполнил, – ответил Роселли и, повернувшись, ступая мягко, как рысь, пошел из кафе.
– Погодите! – взмолился Розэн. – Вы же говорили о заключении врачей!
Роселли, не оборачиваясь, остановился; секунду стоял, словно бы в раздумье, потом вернулся, склонился над Розэ-ном, который так со стула и не поднялся, сказал – рубяще, властно:
– Я найду вас сегодня в десять вечера в «Савое». По-моему, вы обычно останавливаетесь там?
– Да, но откуда вы знаете?!
– Мистер Розэн, вы не мальчик, и я вышел из детского возраста. Вы комбинируете, вы еще не приняли решения… Напрасно… Взвесьте все, что я вам сказал… Вы ищете выход; вы – умный, но и я не дурак… Смотрите не заиграйтесь. Итак, «Савой», лобби, десять вечера. Честь имею…
…Первым делом Розэн позвонил в Нью-Йорк, Жаклин; продиктовал свой телефон; сказал, что неважно себя чувствует, спросил, как дети, не звонил ли кто из фирмы, все ли спокойно, пожаловался на колотье в боку; на вопрос, как дела, – Жаклин была главным советчиком, умница, – ответил, что все нормально.
Потом разделся, налил в громадную ванну горячей воды и блаженно опустился в зеленопенное озеро; отчего-то испугался, что может захлебнуться, потому что ноги не доставали до краев; высший шик, – утопленные в мраморном полу громадные ванны, – рассчитаны на голиафов или на то, чтобы с тобою рядом нежилась девка; расслабился, закрыл глаза и только тогда подумал, что положение его чудовищно, в Москве появляться невозможно; если не помочь князю, Степанов его «не поймет», это у них такое зловещее выражение, вроде бы ничего страшного, а леденит; нет, сказал он себе, я должен найти выход; наверное, я должен позвонить князю, это прямо-таки необходимо; нельзя, возразил он себе, эти итальянские бандиты слушают все телефоны; а как же поступить? Позвонить в то время, когда князя нет? А что? Верно. Сказать прислуге, что здесь Розэн, времени в обрез, надо кое-что передать, самолет уходит через три часа. А если прислуга его найдет? Или сам князь приедет в аэропорт? Можно дать неверный телефон. А потом сказать, что перепутала прислуга; нет, детство, жалкость. Надо было заранее спросить его счет и перевести деньги, этого никто не узнает, никакие детективы, частные или государственные; детектив детективом, а банк есть банк…
…Телефон в номере прозвонил резко, требовательно; Розэн снова ощутил тошнотную пустоту в желудке, накинул халат, прошлепал маленькими, как у десятилетнего мальчика, мокрыми ступнями по синему персидскому ковру, снял трубку; кто-то прерывисто дышал, на его испуганный вопрос «кто, кто там?!» не ответили; он ощутил озноб в теле, очень тихо вытерся, словно бы в номере был кто-то еще, невидимый, и, достав из портфеля карты, быстро разбросал на судьбу, – «наполеоновская косыночка», очень верил…
Потом позвонила Жаклин; только что приходили; плакала; умоляла вернуться; путано говорила о предчувствиях; «поверь, родной, если ты будешь упрямиться, нас ждет горе…»









































