Текст книги "Аукцион"
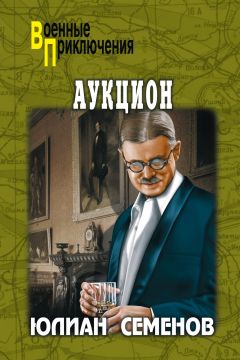
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
– Мне перевели это, – сказал сэр Мозес. – Я был шокирован тоном и содержанием. Но самое ужасное заключалось в том, что после трагической гибели живописца Двор не захотел купить его сериал, и американцы предложили вдове миллион долларов за работы покойного Верещагина. Она умолила вашего государя взять картины за десятую долю американской цены. И вскоре покончила с собою. И брат художника тоже. Какой-то рок тяготеет в России над гениями, страшный, непознанный рок…
– Очень хочется выпить…
– Я тоже выпью, – сказал сэр Мозес, плеснув в стакан виски, – письма того стоят…
– Налейте мне, пожалуйста, чуть больше.
– Скажите, до какого уровня.
– Налейте полный. Мы, русские, пьем так.
– Я пил с русским.
– Да?
– На приеме у посла Майского. Во время войны. Тогда ведь в Москве выходила наша газета, «Британский союзник», была весьма популярна в России.
Ростопчин медленно выцедил виски, взял соленый орешек, обдышал его, есть не стал, положил на серебряную подставочку, задумчиво произнес:
– Значит, вы бились с американцем в Сотби только для того, чтобы утвердить европейскую тенденцию на нашем континенте…
Сэр Мозес улыбнулся:
– Я думал, вы меня по-прежнему будете дожимать своей скалькулированной незаинтересованностью… Мой друг Ян Флеминг, ставший впоследствии столь знаменитым из-за своего Джеймса Бонда, и я работали с сэром Годфри, начальником военно-морской разведки империи… Вам, кстати, не кажется, что «империя» звучит надежнее, чем «содружество наций»? – Сэр Мозес вдруг усмехнулся. – После того как русские провозгласили «союз нерушимый», а потом началась война с Гитлером и Рузвельт начал корить нас «империализмом», Черчиллю ничего не оставалось, как молча согласиться на британский паллиатив, вот и получилось «содружество»… Развитие мира воистину циклично, событие в Петрограде, столь негативно воспринятое Лондоном в октябре семнадцатого, тем не менее явилось основоположением нового качества Англии спустя каких-то тридцать лет. Мир парадоксален, право… Вернемся к тому, отчего я бился в Сотби против американца… После того как Гитлер вошел в Париж победителем и Серж Лифарь танцевал в его честь в Опера…
– Он не танцевал в его честь, – перебил Ростопчин, сдержав внезапно возникшее желание наново рассмотреть лицо собеседника. – Это неверная информация.
– Да? Странно, мы получили ее от людей де Голля. Впрочем, это деталь, она несущественна. Существенно совершенно другое – крах британского экспедиционного корпуса в Дюнкерке, когда Гитлер вышвырнул нас с континента. Именно тогда американский военно-морской атташе Алан Керк сказал сэру Годфри, что Британия будет разгромлена до конца августа сорокового года, если только Соединенные Штаты не придут на помощь… Американец, он привык называть вещи своими именами – что думаю, то и говорю; Америка большая, Англия маленькая, Америка сохраняет нейтралитет, Англия противостоит Европе, оккупированной Гитлером… Сэр Годфри, впрочем, предложил Керку пари на полкроны; тот отказался, считая, что своим отказом он щадит нашего шефа; для американца нет разницы – миллион или полкроны; главное, денежная единица, и с полкроны может начаться миллиард. Вы не можете себе представить, князь, какой сложной была ситуация в ту пору… Сейчас в Америке не любят вспоминать о той удушающей атмосфере изоляционизма, которая царствовала тогда за океаном. Только после смерти Рузвельта он стал символом Америки, а в сороковом году мы, в разведке, далеко не были уверены, что его переизберут на новый срок. А если бы его не переизбрали, Америка бы не вступила в войну или вступила бы значительно позже… Так что наша задача, разведки Империи, заключалась в том, чтобы сделать все для переизбрания Рузвельта, а это было совсем нелегко, поверьте. Мы начали с дезинформации, с гигантской, неизвестной еще миру дезинформации, когда сэр Уинстон начал самолично сочинять обращения к англичанам, а через их голову всему миру, рисуя ситуацию не такой, какою она была на самом деле, а такой, которая требовалась для того, чтобы американцы поняли: их ждет трагедия, если Рузвельт снова не придет в Белый дом… Сэр Годфри наблюдал, как Черчилль работал эти свои речи: в одной руке длиннющая сигара, в другой – виски с содовой; одет в измятую куртку с множеством карманов; ходит по громадному кабинету, диктует, не думая о стенографистке; рядом, для страховки, машинистка, берущая с голоса; изредка поглядывает на сэра Годфри, словно бы спрашивая, не слишком ли заносит, он ведь считал себя первоклассным журналистом, и не без основания, только поэтому он и стал премьером, – из большой известности в еще бо́льшую известность… Черчилль позволял себе, например, утверждать по радио, что половина немецких подводных лодок уже потоплена… Мы-то знали, что это не соответствует истине… Годфри выступил против Черчилля – конечно, весьма сдержанно, корректно, как и подобает джентльмену, – но выступил… Он считал, что люди, облеченные властью, не очень-то любят информацию, которая чревата политическими сложностями… Я преклоняюсь перед сэром Уинстоном, но и перед сэром Годфри я тоже преклоняюсь, поэтому все же закончу эту скучную, грустную и длинную новеллу про то, как мы в третий раз привели Рузвельта к власти, как создали американскую разведку и что мы получили в благодарность за это… Впрочем, быть может, я надоел вам?
– Вы рассказываете очень интересно… Делается немножко страшно за мир, в котором живешь… На поверхности – полная ерунда; главное, определяющее эпоху, становится известным, когда поезд ушел, ты стар и на дальнейшее развитие повлиять не можешь…
– Можешь, – неожиданно сухо заметил сэр Мозес. – Поэтому я вам все и рассказываю… Словом, премьер-министр поручил именно сэру Годфри сделать так, чтобы британская разведка способствовала созданию американской секретной службы… И тот вылетел в Вашингтон в сопровождении Яна Флеминга, а я остался на связи в Лондоне. Вы себе не представляете, сколь трудной была миссия сэра Годфри… Ведь джентльмены из Министерства внутренних дел мечтали, чтобы его миссия провалилась. В Вашингтоне он сталкивался с теми, кто не желал войны с Гитлером и требовал продолжения нейтралитета… Разведывательное сообщество Штатов, которое возглавляли бригадный генерал Шерман Майлс, представлявший интересы армии, капитан первого ранга Керк, руководивший морской разведкой, и шеф ФБР Эдгар Гувер, жило по принципу щуки, рака и лебедя. Единственной надеждой сэра Годфри был Билл Донован. Он встречался с ним в Лондоне, еще за год до своего полета в Вашингтон… Полета, который должен был привести к его падению… Нет, я не виню Черчилля; политика – это схватка гигантов, пусть выиграет сильнейший, термин спорта вполне приложим к противостоянию государственных деятелей, ничего не попишешь… Мне кажется, он провел грандиозную операцию с Донованом, наш сэр Годфри… Он подставился под него, он сыграл роль доверительного информатора американца, который рвался к власти в американской разведке… И такое бывает, что не сделаешь для пользы дела… Просочись хоть капля информации о том, что мы работали с Донованом, а не он с нами, игре сэра Годфри пришел бы конец, Америка по-прежнему стояла на распутье, а это грозило крахом миру и Европе. Именно Донован, выслушав в Вашингтоне сэра Годфри, который рассказал ему, что Гувер и иже с ним всячески противятся самой идее совместной работы против нацистов, бросил идею о необходимости встречи Годфри с Рузвельтом. Иначе дело обречено на провал. Ян Флеминг, работавший до войны в агентстве «Рейтер», – вполне надежная крыша, – связался с одним из редакторов «Нью-Йорк таймс» Сульцбергером, тот позвонил жене президента Элеоноре, был устроен ужин, на который пригласили сэра Годфри; после пресной еды и тягучего фильма моего шефа позвали в кабинет Рузвельта; беседа продолжалась полтора часа, и это была трудная беседа, которая, однако, закончилась тем, что в Соединенных Штатах был создан отдел стратегических служб (ОСС) во главе с Биллом Донованом… Наша задача была выполнена, сэр Годфри победил и за это, понятно, был перемещен из Лондона в Индию, командовать тамошними подразделениями нашего флота, что ж, борьба есть борьба, но дело было сделано, Америка выбрала путь войны против Гитлера… Но уже в конце сорок четвертого года люди Донована закусили удила, забыв, кому они обязаны своим рождением…. Но мы островитяне, князь, мы не прощаем обид. Чем ближе человек по духу, тем болезненнее воспринимается обида… Мы не прощаем обид, именно поэтому Черчилль и выступил со своей речью в Фултоне: пусть Америка – с его подачи – станет первой в провозглашении доктрины силы против России, пусть; все равно последнее слово останется за нами, и рано или поздно мы еще это свое слово скажем. Я, во всяком случае, сказал его сегодня утром в Сотби и повторяю сейчас, уступив вам Врубеля… Культура – путь к политическому диалогу с Москвой.
Ростопчин покачал головой, усмехнулся, поднял глаза на сэра Мозеса и долго разглядывал его красивое, не тронутое возрастом лицо.
– Это для вас диалог… Для меня это жизнь… То есть память… Благодарственная память… Политика не по моей части, очень сожалею.
– Я понимаю. Но и вы постарайтесь понять меня, князь. Я не могу открыто помогать вам и мистеру Степанову, это против устава моего клуба, хоть и бывшего. Тем не менее, если вам или мистеру Степанову потребуется помощь, – вот моя карточка, я к вашим услугам. Но лишь с одним условием: мое имя не должно стать достоянием прессы.
6
Лысым, что окликнул Степанова в холле «Савоя», оказался Валера Распопов с иранского отделения, учился на курс старше; «А я – Игорь Савватеев с арабского, помнишь?» – «Нет, прости»; с Витькой, Суриком Широяном и Зиёй Буниятовым выступали в одной концертной бригаде, ездили с шефскими концертами по колхозам Подмосковья; самым популярным был их номер, когда они пели – на мелодию известной в те годы песни – свою, студенческую: «Шагай вперед, наш караван, Степанов, я и Широян».
Оба теперь работали в Лондоне: один в морском представительстве, другой в банке; Институт востоковедения давал прекрасную филологическую подготовку; английский и французский шли на равных вместе с основным языком; впрочем, Генриетта Миновна, преподаватель английского в степановской группе, травила его за «варварское американизированное» произношение: «Вас не поймут в Лондоне»; ничего, понимают.
– Едем ужинать, – сказал Валера, – там и Лена будет, помнишь, с китайского, и Олег…
Степанов еле стоял на ногах, но отказаться было бы равносильно предательству самого себя, своей молодости, когда студенческие балы были разрешены до трех ночи, а потом еще гудели до пяти, а в восемь возвращались на Ростокинский, в здание бывшего ИФЛИ, расходились по маленьким комнаткам, пять столов, от силы семь, и занимались до пяти, и никто не знал, что такое усталость, кто ж про нее знает в двадцать лет, никто, конечно.
…В доме собралось много народа; потребовали, чтобы сначала Степанов рассказал про московские новости в литературе, кино, живописи и театре. Раньше, до того как ему пришлось подолгу жить за границей, он не очень-то понимал такой интерес, в чем-то даже ажиотажный, экзальтированный, что ли. Лишь по прошествии лет, когда он возвращался в Москву даже из краткосрочных командировок, ему стало по-настоящему понятно это горестное ощущение оторванности от своего; немедленная потеря пульса жизни дома; выпадение из сложного ритма; он просиживал у телефона часами: «А как съемки у Арановича? Что с выставкой молодых художников? Закончил ли съемки Рязанов? А где Волчек? Отчего не пригласили на главную роль Гафта? Переводят ли новую вещь Думбадзе? Опубликован ли Аннинский? Утвержден ли план издательства? Когда заседание редколлегии?» А ведь каждый вопрос помимо ответа рождает, в свою очередь множество новых вопросов. Порою Степанова не оставляло ощущение, что он вернулся в столицу из провинции, хотя жил в европейских столицах; казалось бы, культурная жизнь бьет ключом, масса интересного, ан нет, лишь дым Отечества нам сладок и приятен, точнее не скажешь.
Спрашивали про тиражи, отчего малы; Степанов пробовал отшутиться: здесь, мол, и того меньше, потом посоветовал обратиться за такой справкой в Госкомиздат, там решают, им и карты в руки; ответ никого не устроил, даже, ему показалось, обидел собравшихся, пришлось говорить о больном; да, волевое планирование, да, совершенно не учитывают реальный читательский интерес, игнорируют все библиотеки и книжные магазины (простор для социологического анализа); да, хотим быть добренькими, одиннадцать тысяч членов Союза писателей, каждый имеет право – самим фактом своего членства в организации – на книгу; демократия, как же иначе?! Вы говорите, того не читают, этого не покупают! Увы, неверно! Живет такой писатель в маленьком областном городе, и его хотят читать свои, поди откажи, нечестно! Вот и приходится издавать. Здесь, на Западе, первый тираж три тысячи, у нас – тридцать; надо ломать структуру, а это весьма трудно, процесс болезненный, требуется оперативность, точное понимание рынка, а он особый, идеологический; поэтому, конечно, значительно легче раздать всем сестрам по серьгам, – и овцы целы, и волки сыты… Коррупция игнорирует читателя, увы, правда…
Он рассказал о том эксперименте, который поставил покойный академик из Западной Германии доктор Клаус Менарт; приехал в Москву писать книгу о том, что читают русские; родился-то в Замоскворечье, дедушка был хозяином той шоколадной фабрики, которая потом стала «Красным Октябрем», обертку «Золотого ярлыка» рисовал его отец; до семи лет, пока не началась империалистическая война, говорил только по-русски, играл с нашими мальчишками и девчонками, слушал церковные песнопения во время православной Пасхи; на Масленую в доме давали блины; отцовские друзья – сибирские заводчики с татарской кровью – выучили маменьку лепить пельмени; часто посещал Третьяковскую галерею (отец запретил мальчику говорить «Третьяковка», учил, что этот великий музей следует называть полным титулом, как он того заслуживает); «Синюю птицу» смотрел три раза, плакал от ужаса и счастья, с тех пор стал постоянным поклонником МХАТа; когда в середине двадцатых годов вернулся в Союз журналистом, придерживался антисоветских взглядов; Вторую мировую войну встретил в Китае, был интернирован, вернулся в Германию после капитуляции, создал институт советологии – практически первый в мире, был главным редактором журнала «Остойропа»; центр антисоветской пропаганды; состоял советником канцлера Аденауэра по русскому вопросу, занимал крайнюю позицию.
В Советский Союз его пустили с неохотой, ждали очередного тенденциозного труда, их было у Менарта немало. Он начал свою работу в Москве с того, что составил предварительный список двадцати четырех самых читаемых в стране писателей, потом отправился в городские библиотеки, полетел в Братск и Волгоград, сидел в маленьком читальном зале в деревне под Калинином, подолгу беседовал со своими фаворитами, которые действительно оказались самыми читаемыми в стране, и опубликовал в Соединенных Штатах и ФРГ книгу «О России сегодня. Что читают русские, каковы они есть». Она произвела эффект разорвавшейся бомбы; одни злобно улюлюкали, другие замалчивали, оттого что выводы, к которым пришел Менарт, никак не укладывались в те рамки, которых он сам придерживался раньше. Он утверждал, что русские действительно не хотят войны, что их в первую очередь занимают проблемы, которые стоят перед ними, и они пишут о них открыто; цензура, видимо, никак не ограничивает право на критику, если она носит «позитивный характер», то есть не призывает к оголтелому ниспровергательству (сие в России невозможно, многие пытались, да что-то никак не смогли ниспровергнуть), а исследует возможные пути преодоления всего того, что мешает обществу в его поступательном движении к прогрессу.
– Так вот он, Менарт, – заметил Степанов, – проделал ту работу, которой следовало бы заниматься нашим социологам вкупе с издателями, – опрашивал в десятках библиотек читателей: какую книгу они бы хотели получить? Какая не интересует их? Чьи имена наиболее любимы? Кто оставляет читателя равнодушным? Почему?
– Так почему бы нам этим не заняться серьезно? Коллективу? А не одному человеку? – спросил Игорь Савватеев. – Тем более иностранцу?
Степанов улыбнулся:
– Потому что у нас появилась новая литература, так называемая «секретарская», то бишь неприкасаемая. Увы. Но самое досадное заключается в том, что молодых писателей у нас очень мало, тревожно мало… Средний возраст членов Союза приближается к шестидесяти семи годам, многовато…
– Почему? – несколько раздраженно, не глядя на Степанова, спросил Игорь Савватеев.
– Однозначно не ответишь. Мы, старшее поколение, виноваты. Мало ищем. Излишне опекаем. Не очень-то готовы к той проблематике, с которой идут в жизнь молодые. Но и молодежь виновата, оттого что сторонится острых тем, выплескивает на бумагу самих себя, сплошные исповеди. Фадеев был партизаном, поэтому в двадцать семь лет написал «Разгром», Федин после армии жил в коммуне «Серапионовых братьев», их Горький пестовал, Бабель комиссарил в Конармии. А Паустовский? Леонов? Симонов был опален Халхин-Голом и Сталинградом, Бондарев знал о последних залпах войны не понаслышке, Василь Быков прошел фронт, и Нагибин; Юрий Казаков ворвался в литературу из мира музыки; Шукшин учительствовал; Георгий Семенов лепил потолки; за каждым – биография. А молодые поступают в Литературный институт, их учат писать, вот в чем вся штука… А можно ли научить?
– Тогда зачем институт кинематографии? – спросил Распопов. – Разве можно научить снимать фильмы? Феллини этому не учили, как и Эйзенштейна с братьями Васильевыми.
– Тут несколько другое, – возразил Степанов. – Научить мальчика делать сценарий или режиссировать фильм невозможно, спору нет, если до того он не имел биографии. А вот актера надо учить ремеслу с детства. Вся история лицедейства говорит за это; преемственность театральных фамилий, взять, к примеру, тех же Садовских, Ливановых, Абдуловых. Но и в актерском деле мы портачим; непоправимо портачим. Французские продюсеры знают, что картину с Бельмондо будут смотреть все, вот они его и катают. А мы? Отчего из года в год не пишут сценарии на Крючкова, Гурченко, Баниониса, Тихонова, Гафта, Куравлева, Броневого, Волчек, Петренко, Басилашвили, Неелову?! Я понимаю, жажда режиссерского открывательства, но ведь Феллини не боялся тащить из картины в картину Мастроянни! Никогда не забуду фильм Лео Арнштама «Глинка». Там наш великий, далеко еще не оцененный артист Петр Алейников поразительно сыграл Пушкина; причем без слов; какая-то поразительная пантомима! А зрители смеялись, потому что хотели видеть Алейникова только в Ване Курском и ни в ком другом. Актерский век короток, а съемки фильмов чудовищно длинны. Надо ж думать о времени, а мы в этом вопросе большие транжиры. Да и только ли в этом? Во многом я виню критику, кстати говоря. Отчего Кеосаян, сделав своих «Неуловимых мстителей», ушел в так называемое серьезное кино, где прет претензия, а зрительского успеха нет? Зачем не нянчили Леонида Гайдая с его «Кавказской пленницей»? Почему не сделали эти жанры национальной гордостью?! А Вайнеры? Коля Леонов? Виктор Смирнов? Стругацкие? Беляев? Как могли не подталкивать Савву Кулиша к продолжению тенденции «Мертвого сезона»?! У одних снисходительность критики нарабатывает бойцовские качества, другим ломает хребтину.
– А вот почему, – спросил кто-то из молодых, явно не востоковед, – американское телевидение каждую неделю дает фильм о прокуроре, судье, частном детективе, сыщике, работнике дорожной полиции, агенте из ведомства по борьбе с наркотиками, о фэбээровце, цэрэушнике, привлекая к экрану миллионную аудиторию, а у нас такие фильмы показывают раз в месяц?
– Вы задали мне тот вопрос, который я постоянно ставлю перед коллегами из телевидения, – ответил Степанов. – Во-первых, сказывается старое, заскорузлое отношение к теме: раз полиция – значит, несерьезно, второсортность, дешевка. Во-вторых, ревнивое удерживание за фалды тех, кто может вырваться вперед на теме; вопрос популярности, то есть лидерства, тоже со счетов не сбросишь, честолюбие в мире искусства – совершенно особое, и отнюдь не только нашему обществу присуще, стоит только почитать дневники братьев Гонкур про то, как критика топтала Флобера и Золя: «несерьезно», «скучно», «сенсационно», «жажда дешевой популярности»… А как травили «Братьев Земанго»? А что писали про Гюго, пока он не стал живым памятником?!
– Не слишком ли суровое обобщение? – спросил Савватеев. – Наши молодые товарищи могут решить, что склоки – непременный атрибут мира искусства.
Степанов хотел было возразить; отдает какой-то стародавней демагогией, но Распопов начал весело рассказывать о том, как он встречался в Москве с Женей Примаковым, Игорем Беляевым и Мишей Псрельмутером (его называли «шухер-мутер», очень часто употреблял это столь тоща распространенное слово – «шухер»; в ходу было и «атас», и «атанда», но он обычно кричал «шухер», когда нападающие ближневосточного факультета штурмовали ворота «дальневосточников»; Мишаню держали полузащитником: он чувствовал рождение атаки, упреждал загодя).
Потом стали пировать, но и здесь, за столом, нет-нет да и начинали спорить; можно подумать, что попал на собрание секции критиков; все всё читают, все знают про всех в мире кино; что я им скажу нового, интереснее их слушать.
А потом Распопов стал вспоминать тех, кого уже нет: Навасардова, Котова из МИДа, Кочаряна. Боже ты мой, да не год ли назад был выпускной вечер, не вчера ли еще только начинали работать, как же неудержимо летит время, столь невозвратно былое!
(Как раз в это время Фол, приняв третью таблетку аспирина, – голова раскалывалась, знобило, – встретился с литературным агентом Робертом Маклеем у него в бюро, в маленьком доме, который тянулся вверх, словно труба камина; комнатки были крохотные, сидели одна на другой; семнадцатый век, тяжелые деревянные балки, стрельчатые, маленькие окна, множество старинных книг на стеллажах; двадцатый век был представлен телетайпом, который работал беспрерывно, и эта его сухая работа казалась здесь противоестественной и жутковатой.
Фол разложил перед Маклеем фотографии: Степанов с Че Геварой на Кубе; с Альенде; с принцем Суфановонгом в партизанских пещерах Лаоса; с палестинцами в Ливане; с Хо Ши Мином; с Омаром Торрихосом в Панаме; на съезде неонацистской партии в немецком Кертче – все это было фотокопировано из его путевых очерков, но – на особый манер: надо создать впечатление, будто эти кадры сделаны скрытой камерой. Сработали загодя в фотоателье Брауна в Нью-Йорке; ничего предосудительного; своеобычная форма подачи, никакого искажения первоисточника. А последнее фото, цветное, сделали сегодня на аукционе Сотби: в первых, самых престижных, рядах князь Ростопчин, каменно улыбающаяся Софи-Клер, дочь личного секретаря покойного короля, и Степанов.
– Текст очень краток, – продолжал Фол. – Подписи под каждым фото вот здесь. – Он ткнул негнущимся пальцем в листок бумаги. – Загадочный писатель Степанов вместе с Че. У партизан Вьетнама накануне штурма Сайгона – в их форме, заметьте себе. С палестинцами, во время боев в Ливане. Ну и все в этом же роде. Материал надежен вполне. А последнее фото – в Сотби – должно быть особенно крупным. Подпись вопрошающая: «КГБ внедряет Степанова в высшее общество Англии?» И все. Только вопрос. Как?
– Беру. Сколько хотите за материал? Дэйвид (репортер «Кроникл», с ним поддерживали постоянный контакт люди из местной резидентуры, он-то и рекомендовал Фола, его рекомендации ценились, получал процент со сделки) сказал, что вы не станете драть слишком много.
– Назовите свою цену, – устало ответил Фол.
– Это ваша работа. Вы ее оцените лучше.
(Посмотрев материалы, Дэйвид назвал цену; что-то пятьсот фунтов; Фол исходил именно из этой суммы в своей игре; если просишь дешево, к материалу относятся с недоверием.)
– Семьсот, – сказал Фол.
– Это несерьезно.
– Называйте свою цену, я ж просил.
– Двести.
Фол сгреб фотографии, зевнул:
– Триста мне предлагал О’Лири.
(Литературный агент О’Лири был готов уплатить двести пятьдесят, с ним час назад говорил Джильберт; психологическая атака; называй цену, шотландец, скорее называй цену, я ведь готов тебе уплатить, только б завтра это появилось в вечерних выпусках, накануне степановского шоу в театре, давай, шотландец, все равно я тебе всучу эти материалы, ты обложен, бери.)
Уступил за двести пятьдесят – при условии, что это будет напечатано завтра вечером; подписали соглашение, выпили, обменялись рукопожатием; «Только спускайтесь осторожнее, мистер Вакс, лестница коварная, можно поломать ноги. До завтра. Примерно в двенадцать я сообщу вам, в какой газете это будет напечатано. Кстати, вы не предложили свой заголовок». – «Да? Забыл. Знобит. Чувствую себя хреново. Заголовок очень простой – “Кто вы, доктор Степанов?”» – «Намек на Зорге? Пойдет, совсем неплохо».
– Слушай, Мить, – сказал Распопов, – а ты знаешь, что Зия стал полным академиком?
– Знаю. Я гостил у него в Баку.
Зия был старше всех в институте; в сорок девятом, когда они поступили, ему исполнилось двадцать шесть; казался стариком; на висках ранняя седина; на лацкане потрепанного пиджака Звезда Героя Советского Союза. Его отец попал в горькую беду в тридцать седьмом; когда началась война, Зия ушел добровольцем; первую медаль получил совсем мальчиком; стал лейтенантом; попросился командиром штрафбата; перед тем как вести штрафников на прорыв глубокой обороны немцев, написал письмо в Москву, просил за отца; был ранен; отца помиловали, стал работать в шахте вольным; в сорок четвертом отбили у немцев хутор на Западной Украине; пришла бабка в слезах, своровали порося, так уж его берегла, так хранила, чем теперь жить?!
Зия выстроил штрафбат, вывел на плац старуху, та сразу указала на двух рецидивистов; до войны щипали в автобусах.
– За мародерство у нас одно наказание, – сказал Зия, – расстрел!
Бабка запричитала: «Пощади их, молодые ж, Бог с ним, с тем поросем!» – «С поросем-то ладно, – ответил Зия, – но эти люди носят форму Красной армии, позорят идею, нет им прощения». Бабка повисла у него на шее, и он сразу же вспомнил свою худенькую маму, и такие же лопатки у этой старушки были острые, и так же волосы ее пахли дымом печки. «Ладно, гады, – сказал Зия, – сейчас побежите по дороге вокруг хутора и будете кричать каждому встречному про то, что красноармейцы, пусть даже штрафники, никогда не были и не будут мародерами!»
Те побежали; Зия запряг своего коня в маленькую фасонистую одноколочку, поехал следом; не проследишь – лягут в кусты дохнуть, знаю я эту публику.
А между тем навстречу двум щипачам, бежавшим по пыльной дороге с криками про то, что мародеров в батальоне славного капитана Зии нет и не будет, ехал генерал в «Опель-адмирале»; подозвал к себе запыхавшихся штрафников, выслушан их, дождался Зию, который кейфовал в своей фасонистой повозочке, и сказал, что существует трибунал, который обязан рассмотреть факт кражи порося и наказать виновных самым жестоким образом, но что оскорблять достоинство человека никому не позволено; тоже мне, Синдбад-Мореход, пускает впереди себя герольдов; самого под трибунал отдам за нарушение устава, правда, трибунала можно избежать, если сейчас же поднимешь своих людей и передислоцируешься к Дубраве, туда идет немецкая танковая бригада; удержишь мост, не пустишь немца – вопрос закрою, нет – пеняй на себя. Продержаться надо сутки, потом подойдет артиллерия.
Держаться пришлось трое суток. Из батальона осталось всего девять человек; генерал приехал, обошел строй, – все изранены, едва стоят на ногах; спросил каждого: «За что попал в штрафбат?» – «Сказали, что “враг народа”». – «Орден Красной Звезды, свободен». – «Опоздал на работу». – «Почему?» – «Поезда не ходили, дали три года». – «Медаль “За отвагу”, свободен». – «Жуликом был». – «Больше не воруй, свободен». Яшке Файнштейну, комиссару Зии, израненному до того, что с трудом стоял, дал Красное Знамя; Зия сопровождал его молча; лишь когда генерал захлопнул дверь, сказал обиженно: «А я что, хрен собачий?» Генерал усмехнулся, ответил: «Про тебя особый разговор». Через месяц Михаил Иванович Калинин вручил ему Звезду Героя; отца вернули в Баку, отдали партбилет, такая жизнь.
Распопов отошел к телефону, Леночка (по-прежнему милая, только пополнела, а была как стебелек) предложила тост за альма-матер; жаль, что закрыли наш Институт востоковедения, именно в тот год прихлопнули, когда американцы открыли сотый по счету востоковедческий центр; таинственно мыслило Министерство высшего образования, ничего не скажешь; вспомнила, заливаясь смехом, как мучились девочки с произношением китайского глагола «мочь»; помянула добрым словом преподавателей, директора Болдырева, генерала Попова, Симочку Городникову, Пекарского, Арабаджа-на, Поляка, Максюту, Соловьева, Разуваева, Витю Солнцева, Кабиркштис, Кима, какие же хорошие люди, как великолепно блюли дух дружества по отношению к студентам, никакого покровительства, открытость; особенно хорошо говорила о профессоре Яковлеве, которого сильно критиковали после выхода в свет книги «Марксизм и вопросы языкознания», обвиняли в следовании учению Марра; старик читал свои лекции блистательно, посмеивался в прокуренные усы, никому не ставил оценку ниже «четверки», вопрос стипендии для студента нешуточный, особенно в те годы.
Степанов вспомнил, как Зия – он жил в общежитии с Гарушьяном, «маленьким профессором», который все вечера просиживал в библиотеке, – сразу после получения стипендии (ему платили повышенную) отправлялся в магазин, покупал макароны, сахар, соль и чай на месяц вперед, откладывал сотню (нынешнюю десятку) на молоко и яйца, вполне хватит; одну сотню заначивал на обеды в студенческой столовке (в последний год, правда, когда разрешили продажу пива, откладывал сто пятьдесят) и отправлялся с ребятами в «Аврору», самый любимый ресторан востоковедов; прекрасная музыка; Леха-трубач во всем подражал Армстронгу; танцевали до трех утра, когда это разрешалось; потом шли пешком в общежитие, распевая песни; когда рядом Зия – ничего не страшно, в милицию не заберут; тогда вообще-то очень любили задерживать студентов за уличные песнопения, какая-то даже была страсть, особенно у работников «полтинника» (так называли пятидесятое отделение, сейчас то здание на Пушкинской снесли); Буниятов объяснял ребятам, что милиционеры приехали по набору из деревень; городские «штучки» в узеньких, по моде тех времен, брючках и в ботинках на толстенной микропорке казались им чужеродным элементом; космополиты проклятые; «прогресс постепенен, – поучал Зия, – надо уметь ждать; побеждает тот, у кого больше выдержки»; ему легко рассуждать, думал тогда Степанов, старик, двадцать шесть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































