Текст книги "Аукцион"
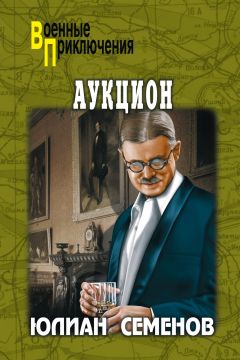
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
– Слушай, – сказал Савватеев, – а тебя наши домашние проблемы совсем не интересуют?
– Это – как? – не понял Степанов.
– Ну, ты ведь все больше ударяешься в историю или политику…
– По-твоему, эти ипостаси бытия к домашним проблемам не имеют отношения?
– Ты обиделся?
– Нет, отчего же? На вопрос не стоит обижаться, это не демократично.
– Немножко отдает Эренбургом…
Степанов даже головой затряс:
– Погоди, что-то я совсем тебя не пойму… О чем ты?
– У тебя нет вещей ни об утраченных традициях, ни о тех трудностях, которые переживает деревня, ни о тревожных симптомах среди нынешней молодежи… Большая литература всегда рождалась на ниве внутренних проблем.
– Может быть, – ответил Степанов, устало подумав, что спорить бесполезно.
– Слушай, – Савватеев еще ближе придвинулся к Степанову, – а ты действительно не помнишь меня?
– Не сердись. Ты ведь был старше курсом, да?
Тот пожал плечами:
– Не в этом дело. Я ж исключал тебя из комсомола. Я вел то заседание комитета. Неужели не помнишь?
Степанов заново обсмотрел этого седого человека, но все равно не мог увидеть в нем того, кто тридцать два года назад, после того как посадили отца, катил на него бочку; нечестно, с чужого голоса; неужели он? Слава богу, что ты не помнишь его, сказал себе Степанов, в голове и сердце надо держать хорошее, так честнее и легче жить. Ты ведь помнишь, как на то комсомольское собрание пришел Зия, как он долго слушал длинных, а потом поднялся и раздолбал их в пух и прах; ты ж помнишь, как Зия потом говорил тебе, что теперь доказать себя можно лишь одним – делом; жалующийся человек – не человек; только работа может превратить тебя в личность; запомни, тот, кто хоть чем-то выделился, берет на себя ответственность; если состоится – все в порядке, если нет – сомнут; ничего не попишешь, закон лидерства; мне нравится то, что ты пишешь, сказал тогда Зия, значит, пиши до упора; проявить себя – значит сделать дело, все остальное – словеса, преходяще, суета сует и всяческая суета…
Все верно, Зия, умница, в памяти навсегда остались лица Жени Примакова, Витьки Борисенко, Лени Харюкова, тех, кто был другом; лица недоброжелателей стерлись; как же это славно, право; маяки дружества, словно огоньки на взлетно-посадочной полосе туманной ночью при возвращении домой из долгой командировки.
(Именно в это время Фол набрал домашний номер Ричардсона в Гамбурге и сказал, что «штуку» пора запускать немедленно, надо управиться к завтрашнему вечеру; тот понял, все было обговорено заранее: интервью с Золле, в котором профессор скажет, сколько долларов Степанов платил исследователям из Шварцвальда и Франкфурта-на-Майне за их материалы о судьбе исчезнувших русских икон и картин; Степанова интересуют имена и адреса людей, так или иначе связанных с вывозом сокровищ в рейх; однако более его интересуют, подчеркивалось во врезке, подготовленной Ричардсоном, не столько лица, напрямую работавшие на рейхсляйтера Розенберга, сколько эксперты, историки искусств, ученые, журналисты, предприниматели, связанные ныне с организацией аукционов и выставок; за этим интересом чувствуется рука; такого рода данные позволяют шантажировать тех, кто был в свое время принужден нацистами к сотрудничеству; несчастных вполне можно шантажировать, заставляя выполнять те задания, которые угодны Москве.
Выпуск западногерманских газет, которые напечатают интервью профессора Золле, отправят с первым же рейсом в Лондон; в восемь часов газеты должны быть в театре, прислать следует не менее трехсот экземпляров для раздачи всем участникам шоу, удар обязан быть массированным.
А после этого, выпив лекарство, чтобы хоть как-то взбодриться, Фол спустился в холл отеля, где его ждал контакт, который взялся опубликовать в здешней прессе сообщение о том, что Степанову вменена в обязанность травля бизнесменов, занятых в сфере культуры; он пытается породить неверие в честность и компетентность владельцев аукционов, которые выставляют к продаже живопись, книги и скульптуры.)
– Знаешь, – сказал Савватеев, – я завтра приеду в театр, хочу послушать, как будешь отбиваться. Ты не против?
– Ну почему же? – ответил Степанов. – Очень важно знать, что рядом свои.
– И я так думаю. Наших будет человек десять.
– Замечательно.
– А знаешь, почему я тебе напомнил про то заседание комитета комсомола?
– Ума не приложу.
– Мне хотелось проверить тебя. Мне показалось, что ты меня сразу узнал, только научился держать себя в руках… Ты ведь раньше был очень вспыльчивым.
– Таким и остался.
Савватеев покачал головой:
– Нет, ты себя просто не помнишь. А я тебя помню очень хорошо. Честно сказать, я ведь поначалу не верил, что это ты пишешь книги…
– То есть как? – устало удивился Степанов.
– Ну, помогает кто-нибудь. Или держишь литературных рабов… Человек должен быть одинаковым, – в жизни и работе, – а ты ведь очень разный.
– Так это ж хорошо… Человеческая обструганность удобна только на определенном этапе, потом начинает мешать.
– Верно… Но мне кажется, что писатель рожден с даром… А ты в ресторанах процессы учинял, с женой нехорошо расстался… И потом эта твоя расхлыстанная манера поведения… Писатель должен постоянно вбирать, в нем обязана быть константа сосредоточенности, а ты ведь был совершенно другим, в тебе было много от уличного хулигана.
Степанов чокнулся с Савватеевым, усмехнулся, посмотрел в его близорукие, чуть навыкате глаза:
– Но сейчас ты меня простил?
Савватеев пить не стал, ответил задумчиво:
– Вот видишь… Я ж не об этом… Все-таки ты остался прежним.
– Ну, извини, – сказал Степанов. – По-моему, это хорошо оставаться прежним. Ты меня прямо-таки обрадовал.
Валера Распопов сел к роялю, заиграл:
– Шагай вперед, наш караван, Степанов, я и Широян…
Леночка вытерла слезы, шепнула:
– Знаешь, как Широян умирал? Он очень плакал, очень, боялся, что будет с его женой, он ведь ее так любил, бедненький…
«Мы вступили во время утрат, – подумал Степанов. – С каждым днем их будет все больше и больше. Но, – пусть это жестоко, – каждая утрата – это подведение итога, – что остается в памяти? Да, жизнь – это память».
Он закрыл глаза; сразу же увидел зал Сотби; землистое лицо Ростопчина; услыхал тянущийся голос ведущего: «Пятнадцать сотен, шестнадцать сотен, семнадцать сотен»; снова подумал о том, с чем вернется в Москву; какой стыд; обещал привезти Врубеля; ему поверили; болтун; обернулся к Савватееву и сказал:
– Слушай, у нас еще по рюмке осталось, а?
Когда Степанов вернулся в номер, было уже за полночь; тревожно вспыхивала белая лампочка, вмонтированная в телефон, – просьба позвонить в службу информации, сообщат, кто ищет и когда; набрал цифру «6»; девушка словно бы ждала его, сказала, что уже шесть раз звонил «принс Ростоо-учин», просил немедленно связаться с ним, когда бы мистер Степанов ни вернулся.
Набрал номер «Клариджа», попросил Ростопчина.
– Наконец-то! – воскликнул тот. Голос князя был ликующим, хотя в нем чувствовалась какая-то надтреснутость. – Где ты был? Мучил девку? Пил водку? Смотрел стриптиз?
– Второе, – ответил Степанов. – И довольно много.
– Сейчас же бери такси и приезжай ко мне, если нет сил прогуляться.
– Женя, утром, – взмолился Степанов. – Устал, ноги трясутся.
– А у меня руки. Жду. – И положил трубку.
Степанов хотел было перезвонить, но понял, что случилось нечто крайне важное, иначе князь не говорил бы так; сунул голову под кран, долго растирал остатки волос, снял костюм, надел походные джинсы и куртку, спустился вниз, сел в такси, назвал «Кларидж»; шофер посмотрел с удивлением, но ничего не сказал; вез всего пять минут, совсем рядом; англичане редко задают вопросы, это похоже на нарушение суверенитета, каждый волен поступать так, как считает нужным.
Портье в своих цилиндрах поздоровались со Степановым с таким же сдержанным достоинством, как и вчера, когда он был в костюме; их дело приветствовать каждого, кто идет в дом; внутри есть своя, особая служба, которая быстро во всем разберется; самое страшное – отпугнуть клиента; сейчас и Рокфеллер ходит в поношенных кроссовках, вот будет шокинг, если его турнуть от дверей!
…Ростопчин лежал на кровати в трусах; ноги отекли; руки снова сделались ледяными; глаза его, однако, сияли, – картина Врубеля стояла на стуле; он кивнул Степанову:
– Видишь?
Степанов опустился на кровать словно подрубленный:
– Ёшь твою… Женя! Милый! Как?!
(Фол еще раз намазал лоб и виски китайским «тигриным бальзамом»; сделал уровень записи разговора в соседнем номере максимально громким; каждый звук отдавался в маленьких наушниках словно удар колокола.)
7
…А потом Золле лег на широкую кровать, подтолкнул под голову подушку Анны, она всегда спала на этой, длинной, шутя называла ее «батоном», закрыл глаза и снова ощутил дурноту. Она преследовала его все то время, что он возвращался в Бремен на теплоходе; денег хватило только на палубный билет; крепко штормило; один из моряков посоветовал плотно перекусить, это спасает: «И не бойтесь выпить как следует, проблюетесь – сразу станет легче».
Золле пошел в туалет, посчитал деньги; едва хватало на автобус, чтобы добраться от порта до дома; какое там перекусить и выпить; сидел всю дорогу возле поручней; дважды вывернуло желчью, тряслась челюсть; думать ни о чем не мог; какая-то каша в голове; мелькали странные лица – то Рив с Райхенбау, проклятые родственнички, скалятся, прячась друг за друга, то снисходительно улыбающийся князь в своем роскошном шелковом костюме, то растерянный Степанов, – желваки ходят грецкими орехами, набрякли мешки под глазами; то слышался голос господина из «исторического общества», который звонил накануне отъезда в Лондон: «Пятнадцать тысяч марок мы готовы уплатить сразу же, напрасно отказываетесь, господин Золле, все права на изыскания сохраняются за вами»; иногда он близко видел лицо Анны, ее добрые большие глаза; они стали какими-то совершенно особыми накануне смерти; она знала, что конец близок, рак печени; в клинику лечь отказалась, к чему лишние траты, и так все в долгу; пила наркотики, боли поэтому так остро не чувствовала, только ощущала, как день ото дня слабеет; лицо сделалось желтым, а уши, раньше такие маленькие, красивые, стали похожи на старые капустные листья.
Я не вправе распускаться, повторял Золле; надо заставить себя услышать музыку Вагнера, она живет в каждом, необходимо лишь понудить себя к тому, чтобы не сдерживать ее в себе, не бояться ее грозной, очищающей значимости, наоборот, идти за нею, чувствуя, как напрягаются мышцы и тело перестает быть дряблым и безвольным; однако же Вагнер не звучал в нем, порою он слышал веселые переливы Моцарта, солнечные, детские; каждый человек – это детство, ничего в нем не остается, кроме детства, все остальное от жизни, а как же она безобразна, Боже мой!
На берег в Бремене Золле вышел совершенно обессиленным; присел на скамейку, чувствуя, как подступает голодная дурнота; вот будет стыд, если меня вырвет прямо здесь; до туалета я просто не смогу добежать: упаду.
Рядом с ним присел отдувающийся, очень толстый, плохо бритый человек в далеко не свежей рубашке и курточке, закапанной на животе вином и соусами; достал сигарету, грубо размял ее, прикурил и, вытерев со лба пот, спросил:
– Вы господин профессор доктор Золле? Исследователь и историк?
– С кем имею честь? – спросил Золле сквозь зубы, потому что по-прежнему боролся с приступом рвоты.
– Я – Бройгам, из «Нахрихтен». Редакция поручила мне сделать с вами интервью. В сегодняшний вечерний номер.
– Не могу, – ответил Золле. – Я себя очень плохо чувствую. Позвоните мне домой… Попозже…
– Вы что такой землистый? Плохо переносите морские путешествия? Не следовало сидеть в каюте. Вышли бы на палубу…
– Я все время сидел на палубе.
– Надо было напиться. И съесть супа. Две порции. Вас бы вывернуло, и дело с концом.
Золле поднес мятый платок к губам, закрыл глаза, чувствуя, как на висках выступает холодная, предсмертная испарина.
Бройгам достал из заднего кармана брюк плоскую бутылочку, протянул Золле:
– Виски. Глотните.
– Я голоден, – ответил Золле, чувствуя, как слезы сами по себе навернулись на глаза и медленно, солоно потекли по щекам.
Бройгам взял его под руку, помог подняться, отвел к буфетной стойке, заказал гамбургер и пива:
– Не вздумайте отказываться. Вам сразу же станет легче.
– Меня стошнит.
– Ну и что? Дам пару марок буфетчику, он после этого предложит вам сблевать еще раз. Были бы деньги, – блюйте на здоровье, где вздумается.
Золле съел гамбургер и действительно почувствовал себя лучше.
– Но пиво я пить поостерегусь, – сказал он. – Благодарю вас.
– Обязательно выпейте.
– Не могу.
– Протолкните первый глоток. Я человек пьющий, знаю, как трудно взять первый глоток. Особенно наутро после гульбы… Все внутри трясется, пропади ты пропадом, эти виски, никогда больше не пригублю, только б прошел ужас похмелья… Русские правильно говорят: «От чего заболел, тем и лечись». А протолкнешь первый глоточек и сразу мир видишь, как на экране цветного телевизора, и вечером не страшно снова начинать пьянку.
Золле вздохнул:
– Но я заболел не от виски, а от моря…
– От моря? Могу принести глоток, – усмехнулся Бройгам. – С грязью и нефтью… Так вывернет, что на ноги потом не встанете. Пейте, пейте. Я плавал на флоте, знаю, что говорю.
Этот толстый человек успокаивающе действовал на Золле; вообще-то к встрече с любым журналистом он готовился загодя, перечитывал альманах латинских выражений, листал древних, особенно Тацита; когда говоришь с людьми из прессы, очень важно быть лапидарным в слове; они ведь такие резкие, так старательно подгоняют тебя под конструкцию, заранее ими придуманную; внимание и еще раз внимание; но этот толстяк был как-то по-доброму флегматичен; достатком тоже, видно, не отличается, весь жеваный…
Золле со страхом отхлебнул глоток пива; оно обвалилось в него шумно, словно камень, брошенный в колодец; допил бокал до конца, почувствовал облегчение, поднялся:
– Ну что ж… Идем на автобус, не здесь же говорить…
– У меня машина, – ответил Бройгам. – Далеко живете?
– Не очень. Я покажу на карте, трудно объяснить, маленький тупичок за озером.
Однако когда Бройгам привел его на стоянку, Золле снова почувствовал себя маленьким и несчастным, и снова закружилась голова; журналист отпер дверь громадного серебристого БМВ, в таких ездят тузы, а он-то думал, у того какая-нибудь французская «портянка» или подержанный «фольксваген»; снова граница; как же трагично расчерчен этот мир границами, – не только между государствами, но и между людьми, это страшнее; каждый идущий по улице, а уж тем более едущий по автобану, – суверенное государство; полная разобщенность; все хитрят друг с другом, закрываются; эра неискренности и коварства…
Дома он нашел пачку бразильского «Пеле», единственное, что у него оставалось; холодильник пуст; предложил Бройгаму чашку кофе; тот ответил, что, кроме виски, ничего не употребляет, перешел к делу; сначала интересовался работой, просил показать документацию, потом спросил о целях путешествия в Лондон; делал быстрые пометки в потрепанном блокноте, из которого то и дело выпадали исписанные листочки; ни диктофона, ни фотоаппарата; впрочем, серьезные журналисты сами не снимают, возят с собою фотографа, Золле помнил, как ему объяснил про это тот парень, что интервьюировал его незадолго до смерти Анны; написал массу ерунды; увы, опровержения газета не напечатала, какое им дело до фактов, подавай жареное!
– Во что вы оцениваете ваш архив? – спросил Бройгам.
– В жизнь, – ответил Золле. – Я отдал этому делу всего себя. Я отказывал… Мы отказывали себе во всем, моя покойная подруга и я… Я… Мы делали то, что нам было завещано Богом, потому что только он один знает правду…
Бройгам достал из мятой пачки (она ужасно рассердила Золле, привычка к аккуратности в работе с документами стала его второй натурой; любую разболтанность, неряшливость, необязательность воспринимал как оскорбление) раскрошившуюся сигарету, сделал ее плоской, закурил, пыхнул в лицо Золле каким-то сладким дымом, тяжело закашлялся, долго сидел, закрыв глаза, пояснил – астма; не переставая тем не менее курить, спросил:
– Каким образом про вашу работу узнали русские?
Золле удивился:
– Вы имеете в виду Степанова?
– Да.
– Мы много лет обменивались информацией.
– А откуда она у него?
– Он много ездит. Да и потом ему помогают ученые из музеев России. Ему легче…
– Вы ему много передали документов?
– Очень.
– А он вам?
Золле не ждал этого вопроса; как-то не приходило в голову посчитать, сколько материалов привозил ему Степанов из Швейцарии и Голландии; последний раз передал документацию из Варшавы; обещал прислать новые данные из Праги.
Он вспомнил, как Степанов отдал ему письмо из Баден-Бадена; с него начался новый этап поисков; а ведь письмо было адресовано не ему, Золле, а именно Степанову, а он сразу же отправил его Золле; и документы из Берлина он передавал целыми папками, и устраивал мне приглашения, и писал про меня так, как никто другой не писал; все искали сенсацию, а он рассказывал про меня и Анну, про то, как я начал, что нашел; Господи, он ведь был так добр ко мне, подумал Золле, всегда отодвигал себя на второй план; сидел за этим столом, слушал меня часами, помогал готовить ужин; как же мы славно пировали втроем – я, Анна и он… Боже мой, сказал себе Золле, со мною происходит что-то неладное… Я ведь даже думаю сначала о себе, потом об Анне, а уж после о нем. Что со мною? Я обязан думать и говорить иначе: Анна – он – я…
– Погодите, – сказал он Бройгаму. – Мне надо позвонить во Франкфурт.
– У меня еще всего два-три вопроса.
– Нет, нет, я должен позвонить во Франкфурт, это крайне важно.
– Погодите, господин профессор доктор Золле, сейчас позвоните. Меня ж казнят, если я опоздаю с материалом в номер. Кто финансирует вашу работу, вот что меня интересует. У вас огромные траты, как я понимаю. Кто оплачивает ваш труд?
– Я.
– Источники? У вас есть какие-то доходы? Рента?
– У меня есть долги, господин Бройгам. Это все, что я могу вам сказать.
Проводив журналиста, он позвонил во Франкфурт, в «историческое общество»; именно те люди и сказали ему, какие деньги Степанов платит другим исследователям; он был так поражен, что даже толком не поинтересовался их адресами и телефонами (расчет Фола строился на его врожденной авторитарности; как-никак немец старшего поколения, у них это в крови; раз говорят люди из «исторического общества», дипломированные исследователи, значит, правда, иначе и быть не может; сработало). Золле тогда был в неистовстве; два дня вообще не находил себе места; какая низость: использовать дружеские отношения, а платить другим, совершенно посторонним людям, вклад которых в предприятие совершенно незначителен!
– Алло, здравствуйте, это Золле, из Бремена.
– Добрый день.
– Ваши люди звонили мне девять дней назад. Я бы хотел связаться с ними. Немедленно.
– Простите, но кто именно звонил и по какому вопросу?
– Я забыл фамилию. По вопросу поиска русских картин, пропавших во время войны.
– У нас нет русского отдела, господин Золле. Вы убеждены, что звонили от нас?
– Совершенно убежден.
– Пожалуйста, подождите у аппарата, я попробую вам помочь.
– Благодарю.
«Я сейчас же позвоню в Лондон, – подумал Золле. – Старый чванливый ученый червь! Меня занесло! Да, да, меня занесло! Я должен был говорить со Степановым и князем как с друзьями. А я обиделся. На кого? Нельзя обижаться на друзей. Их надо стараться понять. Ах, как ты хорошо стал думать, когда прошло время и все упущено! Да, все упущено! Наверняка аукцион в разгаре. Я позвоню в Сотби и сделаю заявление, что Врубель был похищен. Я назову тот номер, под которым он был вывезен рейхсляйтером Розенбергом. Следы этого номера должны остаться на картине, если сделать химический анализ. В левом нижнем углу. Вывести до конца невозможно. Экспертиза подтвердит мою правоту. А если не подтвердит? Кто станет платить штраф? Ты? Чем?»
– Алло, добрый день, господин Золле, это Дукс, это я звонил вам, меня перехватили у дверей, шел на обед, как поживаете?
– Пожалуйста, назовите мне телефоны тех господ, которым Степанов платит деньги.
– Что?! Вы меня пугаете с кем-то, господин Золле! Я предлагал деньги за вашу документацию, пятнадцать тысяч марок, наши условия остаются в силе, но я не знаю, о каком Степанове идет речь… Вы меня путаете с кем-то…
Чеканя каждую букву, Золле чуть не прокричал:
– Мне звонили! Из вашего общества! И называли имена тех исследователей, которым Степанов платит деньги! Я требую, чтобы вы немедленно дали номера их телефонов!
– Господин Золле, – голос на другом конце провода стал испуганным, – я готов поговорить с нашими коллегами, я перезвоню вам позже, пожалуйста, не волнуйтесь, мы найдем того, кто с вами связывался.
– Как долго я должен ждать?
– Я перезвоню к вечеру.
– Нет, я настаиваю, чтобы вы выяснили мой вопрос немедленно! Слышите? Немедленно!
– Но это невозможно, господин Золле. Люди ушли на обед. Трое коллег в отпуске, пять человек разъехались по командировкам. Я постараюсь собрать информацию, но раньше вечера этого сделать не удастся. Пожалуйста, не волнуйтесь, мы все выясним…
Золле в ярости хлопнул ладонью по рычагу, услышал длинный гудок, набрал номер справочной службы, спросил, как соединиться с бюро справок Лондона; ему продиктовали; он перезвонил еще раз, сразу же, не думая даже, что скажет Ростопчину, Степанову или людям Сотби; главное сказать то, что он обязан сказать; Боже мой, что возраст и нищета делают с людьми?! Девушка в лондонской службе информации немецкого не знала, что-то долго объясняла ему, а он – неожиданно для самого себя – начал мучительно подсчитывать, во что ему выльется этот ненужный международный разговор; по счетам уже не плачено три месяца; какой ужас, вот-вот отключат номер, немота…
Потом позвонил в Цюрих, в офис князя; как раньше не догадался, старый осел?! Попросил секретаря срочно позвонить в Лондон, в Сотби, это на Нью-Бонд-стрит, дом тридцать два – тридцать четыре; пожалуйста, пригласите к аппарату князя; да, там идут торги, он непременно в зале; скажите, что Золле намерен сделать экстренное заявление; я жду у аппарата; пожалуйста, поторопитесь, дело чрезвычайной важности.
Секретарь перезвонила лишь через полчаса, как раз в тот момент, когда Золле решил снова звонить ей; молодые сикухи, у них только мужики на уме, полное падение нравов, раньше за такую работу гнали взашей.
– Господин профессор доктор Золле, я должна огорчить вас, торга давно кончились.
«Что же делать? – Золле в который раз повторял этот тупой и безответный в своей безнадежности вопрос. – Что же мне делать?! Боже, помоги и наставь! Как поступить?!»
С этим он и уснул.
Разбудил его телефонный звонок; за окном были сумерки; сколько же я проспал? – вечность; надо связаться с камердинером князя; наверняка он знает его телефон в «Кларидже»; пусть попросит его отзвонить мне, а может быть, это он и звонит?
Золле поднялся с кровати, подошел к телефону, думая о том, какой будет его первая фраза. Я должен извиниться; да, именно так; иначе меня неверно поймут; да, я так и скажу: был какой-то амок, простите меня, князь; передайте Степанову, что я жду его звонков, мы будем и дальше работать вместе; с кем не бывает срыва; годы; нервы не выдерживают; ни о каких деньгах не может быть и речи; я всегда работал для себя, а не из-за денег; продам квартиру, на долги хватит, вполне можно арендовать комнату на первом этаже, это значительно дешевле…
Он рывком снял трубку:
– Алло.
– Это Райхенбау.
«Будь ты проклят, – устало подумал Золле. – Князь не станет мне звонить. Я вел себя, как истерик, а они, эти лощеные князья, этого не любят, они привыкли кичиться, а не быть, для них главное – внешняя манера поведения, что им до того положения, в котором я оказался?! Стой! – Он снова одернул себя. – Остановись! Что с тобою?! Да, все ужасно, да, ты не смог найти то, что был намерен найти, но зачем ты винишь тех, кто к тебе ближе? Всегда во всем винят самых близких, кого же еще?! Тех, что дальше, опасаются, они ведь чужие… Бедная, бедная Анна, это я виноват в том, что ее не стало! Я, один я!»
Золле откашлялся, чувствуя, что сейчас сорвется: это будет непростительно; шакалы любят падаль, нельзя доставлять им радость; заставил себя говорить чуть лениво, очень спокойно:
– Слушаю тебя, дорогой Райхенбау.
– Нет, это я тебя слушаю.
– Завтра я иду в контору, чтобы быстренько продать квартиру. Так что денег у меня хватит с лихвой, чтобы расплатиться с тобой и Ривом.
– Мы не позволим продавать квартиру Анны. Это ее собственность. Ты ей никто. Квартира принадлежит нам.
– Обращайся в суд.
– Неужели ты не понимаешь, что суд встанет на нашу сторону?
– Чего ты хочешь? – закричал Золле. – Ну чего вы от меня все хотите?
– Продай твои материалы. Пусть они станут всеобщим достоянием. Здесь, в Германии. Ты слышишь меня?
– Слышу, – после долгой паузы ответил Золле. – Кто тебя просил об этом?
– Совесть. Моя немецкая совесть, – ответил Райхенбау и положил трубку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































