Текст книги "Аукцион"
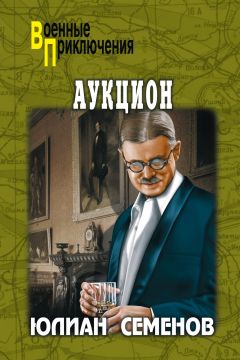
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Гадилин пожал плечами:
– По-моему, это утверждение не требует расфифровки.
– Здесь – требует, – жестко возразил Фол. – Графоман, мне кажется, достаточно обидное слово. Или я не прав?
– В случае со Степановым это звучит как обыкновенная констатация факта. Кадровый офицер КГБ, пифет фпионские романы, лифет руки хозяевам…
Пат перевела «целует», смысл менялся, надо бы подсказать, завтра следует быть весьма аккуратной в переводе.
– Скажите, а с точки зрения права, – поинтересовался Фол, – выражение «лизать руки хозяевам» может считаться оскорблением личности?
– Пусть оскорбляется, – ответил Гадилин. – Меня это не тревофит.
– Ну а все-таки, отчего у него есть читатель?
– У липогонов, которые сочиняют развесистую клюкву, всегда есть фитатели.
Пат достала маленький словарь, попросила Гадилина еще раз повторить фразу; бедненькая, подумал Фол, она не найдет там ни «развесистой клюквы», ни той «липы», которую имел в виду сочинитель.
Она действительно перевела «клюкву» как «ягоду», а «липу» – как «дерево».
«Этот несостоявшийся гений завтра может выглядеть психом, если во время шоу Пат переведет его слова о Степанове как об авторе “ягод” и “деревьев”; русский Дарвин, смеху будет немало. Как же это важно – точное понимание языка! Сколько трагедий может произойти из-за неверно переведенного слова!»
– Мистер Гадилин, я хочу объяснить ситуацию…
– Давно пора, – заметил тот, заканчивая еду.
– Переводить? – спросила Пат.
– Мофете.
Пат сказала:
– Мистер Гадилин давно ждет этого.
Фол кивнул, подумав, что в принципе-то ему самому надо было завтра переводить Гадилина, девочке не справиться; бедненькая, она совершенно не чувствует языка, им вбивают в голову грамматику, а кому она нужна, пусть бы неграмотно, зато понятно.
– Так вот, – по-прежнему монотонно продолжал Фол, – завтра в театре Степанов будет принимать участие в шоу…
Гадилин выслушал перевод, хмыкнул:
– Что, он уфе начал петь?
«Все-таки ужасно, как эти русские не умеют адаптироваться, – подумал Фол. – Прожить семь лет на Западе и до сих пор не знать, что в шоу у нас принимают участие конгрессмены, публицисты и директора банков. А может быть, это естественное отталкивание: он воспитывался в Советской России, он хочет, сам того не понимая, чтобы здесь было похоже на то, к чему он привык. Нет, воистину, они странные люди: нет ни одной такой склочной эмиграции, как русская! Каждый сам себе Толстой, все остальные – ублюдки и графоманы; несчастная нация».
– Во время этого политического шоу, хоть оно и посвящено вопросам культурного обмена, моим друзьям кажется целесообразным, более того, необходимым, небольшой скандал, во время которого собравшиеся убедятся в том, что мистер Степанов является марионеткой, присланной сюда с заданием Кремля…
– Без заданий Кремля от них никто не ездит на Запад.
– А на Восток?
– Тофе.
Пат не поняла; Гадилин повторил раздраженно:
– Тофе! Точно так фе!
Фол сдержал улыбку; беднягу и русские-то, видимо, не все понимали, все-таки «тоже» не есть «тофе», трудно ухватить сходство…
– Мистер Гадилин, я-то с вами согласен, но в этой стране публика требует доказательности. Вы вправе писать все что угодно для передач «Свободы», вас слушают только русские, а здесь вы имеете дело с людьми, утомленными демократическими институтами. Всякого рода оскорбление Степанова как личности или страны, которую он представляет, означает ваше поражение. Ваши вопросы должны быть корректными, а потому – разящими наповал.
– Вашу наивную, доверфивую публику вряд ли фем проймеф…
– Не надо считать публику этой страны такой уж неподготовленной, мистер Гадилин. Здесь живут вполне достойные люди, которые думают по-своему, и, пожалуйста, оставьте им право думать так, как они считают нужным. Они ведь, сколько я знаю, не навязывают вам своей точки зрения на те или иные события, почему же вы присваиваете себе право поучать их, как следует думать?
– Простите, мистер Фол, но мои друзья сказали, фто вы какой-то финансовый воротила… Почему вас интересует Степанов? Зачем вам, именно вам и вафим друзьям, нуфен скандал?
– Объясняю. Мой бизнес связан со страховкой произведений культуры. Это миллионный бизнес, мы страхуем коллекции на сотни миллионов долларов. Активность мистера Степанова и иже с ним наносит определенный ущерб нашему предприятию, поэтому мы нашли пути к вашим мюнхенским друзьям, а те любезно посодействовали нашей встрече.
– Почему выбор остановился именно на мне? – Гадилин пожал плечами.
Фол хотел ответить, что остальные отказались, но сдержался, опасаясь непредсказуемой реакции собеседника: как и всякого человека, склонного к истерике, Гадилина могло понести; не время; с ним еще работать и работать.
– Какие вопросы могли бы показать Степанова в дурном свете?
– То есть как это «какие»? – Гадилин снова пожал плечами. – Конефно фе, графданские права…
Фол поморщился:
– Я же определил сферу моего интереса. Вопросы культуры, понимаете? Куль-ту-ры…
– Трагедия худофников абстрактной фивописи в России…
– Абстрактная живопись зачахла и на Западе, согласитесь. После Пикассо эпоха кончилась. Что еще?
– Террор цензуры.
– Уже теплее. Еще?
– Невозмофность самовырафения.
– Очень хорошо. Еще?
Пат неумело закурила и, поглядев на Гадилина, заметила:
– Но ведь выставка русских художников в Париже собрала беспрецедентное количество золотых и серебряных медалей… Об этом много писали…
– Неуфели не понятно, фто это был шаг Миттерана перед его визитом в Москву?! – рассердился Гадилин.
Фол дождался, пока Пат перевела ему; пусть верит, что я не понимаю по-русски.
– Значит, художники на Западе тоже лишены свободы, мистер Гадилин, если они обязаны подчиняться диктату своего президента.
– Думаю, это последний социалистический президент во Франции. Они с ним достаточно нахлебались.
Пат попросила повторить последнее слово; Гадилин сказал: «Наелись»; она не поняла, спросила: «Чего?»
Чтобы не рассмеяться, Фол закурил, тяжело затянулся и сказал:
– А что, если вы мне расскажете про то, как встречались с ним в России? Вы часто встречались?
– Когда-то мы дружили. Но он купил ЗИМ и сразу отделился от нас.
– Что такое ЗИМ? – спросила Пат.
– Это очень большой автомобиль, – ответил Гадилин нетерпеливо.
– Вам было обидно, что он купил ЗИМ? – спросил Фол.
– Мы не любим выскочек, мистер Фол. Как и все нормальные люди.
– На каком автомобиле вы ездите здесь?
В глазах у Гадилина появилось нескрываемое раздражение:
– На подерфанном, мистер Фол, на подерфанном.
– Ладно. Про автомобиль ЗИМ здешней аудитории будет непонятно. А мне рассказывайте, мне все интересно, я ж хочу понять, что надо сделать завтра, времени в обрез, вот в чем фокус…
– Мне довольно странно слышать все это, мистер Фол…. Разве не есть прецедент для хорофего политического скандала сам факт, что фекист в центре Лондона пудрит мозги увафаемой публике побасенками о русской культуре?!
Пат снова открыла словарик; Фол понял, что она ищет слова «фекист», «пудрить» и «побасенки»; перевела, однако, вполне сносно: «пудрить парики» и «басни»; она, видимо, думает, что «пудрить парики» приложимо к здешней палате лордов или к высокому суду; тем не менее поймут, по-своему, но – поймут.
– Если бы вы доказали, что мистер Степанов прибыл сюда в качестве офицера КГБ, это было бы воистину прекрасно, мистер Гадилин.
– Я назову публике любую из его книг: фекисты, фурналисты, дипломаты…
– Хм… Как вы относитесь к идее свободы предпринимательства?
– Так же, как и вы.
– Тогда ваш довод обернется против вас, мистер Гадилин! В зале соберутся серьезные люди большого бизнеса. Это личное дело мистера Степанова писать то, о чем он пишет, никто не вправе попрекать его этим. Это то же, что попрекать Грэма Грина и Ле Карре. Можете зачитать отрывок из его книг, в которых содержался призыв завоевать Остров силами ЧК? Или что-то в этом роде? Нет. Следовательно, вы озлобите публику, потому что уважаемые джентльмены, которые соберутся в театре, имеют выгодный бизнес с Россией. Они будут шокированы, если вы, на основании факта написания Степановым шпионского бестселлера, заподозрите их в сотрудничестве с КГБ, который является одним из институтов государственной машины, входящей – наравне с внешнеторговыми объединениями – в состав Совета министров России…
– Несчастные доверчивые бизнесмены… Чем больфе они торгуют с Россией, тем глубфе копают себе яму.
– Это их личное дело. Не надо давать бесплатных советов, здесь этого не любят. Я определил предмет моего интереса. Давайте думать о нем серьезно, ладно? И – последнее: вам не кажется, что в своих передачах по радио «Свобода» вы делаете все, чтобы советские писатели видели в Кремле свою единственную надежду и защиту? Вы же их беспощадно топчете… А может, целесообразнее, наоборот, отторгнуть их от режима, приблизить к нам? Не находите? Чем больше вы похвалите Степанова здесь, тем меньше ему станут верить там. Это диалектика, мистер Гадилин, а с ней спорить бесполезно.
5
Полет до Эдинбурга занял час или того менее; Ростопчин не заметил точное время, потому что был устремлен в предстоящую встречу. Пролистал справочник «Что купить в Шотландии», уяснил для себя, что шотландское слово «Гроссмаркет» близко к немецкому; странно; стал самым большим рынком еще в тысяча четыреста семьдесят седьмом году; что игральные карты Соммервиля из Эдинбурга являются весьма элегантным подарком, а фирма «Джофри» предлагает самый большой выбор национальной одежды (почему бы не вернуться в Цюрих в клетчатой юбочке, очень эффектно); от обеда, предложенного милой стюардессой, отказался; пожалел, что не сможет посетить коллекцию Баррела, до Глазго все-таки девяносто километров, а коллекция уникальна: Рембрандт, Дега, Мане, Сезанн, прекрасный китайский фарфор, персидские поделки по металлу; первую картину в свою коллекцию сэр Вильям Баррел купил шестьдесят пять лет назад, когда ему было пятнадцать: десять шиллингов, которые отец дал на приобретение мячиков для крокета, парнишка истратил на акварельную картинку, что продавала седая полубезумная старуха…
В маленьком, компактном аэропорту Ростопчин зашел в аптеку, купил пилюли для сердца (предложили семь разных упаковок, все для стимуляции мышцы, выбрал красно-синюю, самую дорогую, девять фунтов), позвонил сэру Мозесу; подошел дворецкий; казалось, он только и ждал звонка незнакомого гостя из Цюриха.
– Вам надо взять такси, князь. Есть две дороги, которые следует использовать. И та и другая связаны с памятью сэра Вальтера Скотта. Вы можете отправиться через Пииблз вдоль по берегам прекрасной Твиид до Мэлроуз либо мимо замка сэра Вальтера, этот путь короче, вы успеете полюбоваться Абботсфордом, не знаю, открыт ли музей нашего корифея в это время для обозрения. Если вы решите улететь утренним рейсом, номер в отеле для вас заказан.
Таксист, выслушав адрес, хмуро заметил:
– Англичане лезут в Шотландию, как только могут. Мирная оккупация. Англичанин Гринборо на земле Вальтера Скотта, какая жалость, – у сэра Мозеса лишь сердце шотландское, всё остальное – лондонское.
Больше он не произнес ни единого слова за всю дорогу. Поля были ухожены, овцы надменны в своей сытости, маленькие озера в лучах северного солнца похожи на ртуть из разбитого градусника; Ростопчину показалось, что, если остановиться, выключить мотор и выйти из машины, он сразу услышит треск цикад, как в Крыму, когда его возили из Ялты на Байдарские ворота; цикада – символ тепла, только отчего так леденеют руки, мизинцы вообще бесчувственны, ногти снова посинели.
…Сэр Мозес встретил Ростопчина у входа в маленький, аккуратный домик: холл, кабинет, библиотека и большая веранда; наверху две спальни, ванная – вот и все.
– Мой отец наполовину шотландец, – заметил сэр Мозес, – только поэтому меня здесь терпят.
– Как странно! – откликнулся Ростопчин. – Казалось бы, один язык, одна культура…
– Вы ошибаетесь, князь. – Мозес Гринборо предложил Ростопчину кресло, очень старое, вбирающее. – Я сейчас скажу вам по-шотландски, а вы переведите мне на английский. Вот, извольте: «Хаггаш ви башд ниипс чамит татииз ан а ви драм». Ну, что это?
– Не понял.
– Повторить еще раз? – не скрывая радости, поинтересовался сэр Мозес; видимо, он любил эту игру, опробовал на гостях не один раз.
– Нет, спасибо, не надо, – ответил Ростопчин, сжимая и разжимая пальцы, чтобы хоть как-то согреть их, пилюли не помогли.
– По-английски название этого национального шотландского блюда звучит так: «Хаггис виз машд турнипс энд потатос; сервд виз виски»[13]13
Бараний рубец, фаршированный потрохами и специями, с пюре из репы и картофеля; подается с виски (англ.).
[Закрыть]. Где же здесь один язык?! Это отнюдь не диалект, подобный северным речениям немецкого или же баварскому сленгу! Это нечто совершенно особенное, материковое, какой-то загадочный мост с Европой. – Сэр Мозес взял со столика маленький медный колокольчик, позвонил; дворецкий появился сразу же. – Пожалуйста, принесите из моей спальни румынский препарат, у нашего гостя не совсем хорошо с сердцем.
– Как вы определили? – спросил Ростопчин.
Сэр Мозес пожал плечами:
– С тридцать шестого по шестьдесят восьмой я служил в военно-морской разведке, а эта служба учит наблюдательности. Впрочем, участие в героической эпопее французских маки, видимо, учит этому же.
Дворецкий принес лекарство и графин с ледяной водой.
– У нас свой колодец, – пояснил сэр Мозес. – Вода совершенно поразительна. Порою мне кажется, что она лечит более радикально, чем фармацевтика. Впрочем, этот румынский препарат действительно уникален; мультивитамины; возвращает молодость, нормализует ритмику сердца. Причем в сопроводительной аннотации, – это меня совершенно покорило, – говорится, что пилюли спокойно соседствуют с алкоголем и никотином. Так что через пять минут вы вполне заслуженно выкурите свою сигарету, а когда ногти снова сделаются розовыми, мы с вами выпьем виски.
– Если окочурюсь, расходы по перевозу тела – за ваш счет, – грустно пошутил Ростопчин.
– Здесь живут, князь. Умирают в столицах. Я купил этот домик, когда понял, что ошибся в выборе карьеры. Это случилось через три месяца после того, как я начал работать в разведке, накануне Рождества тридцать шестого года… Мы получили доклад нашего военно-морского атташе в Берлине, капитана первого ранга Траубриджа. Вы наверняка слыхали это имя. Нет? Странно, он внес свой вклад в дело борьбы с нацистами, причем отнюдь не малый. В своем отчете он написал, – цитирую по памяти, возможны какие-то неточности, – что англо-германский военно-морской договор был в послевоенное время одним из главных принципов политики, характеризующей отношение Германии к своим бывшим противникам. История показывает, что, когда настанет время, Германия поступит с этим договором так же, как она поступала с другими. Но такое время еще не пришло. Так вот, эти две пророческие фразы капитана не были включены в ежегодный отчет нашему министру иностранных дел. Да-да, именно так, ибо начальник управления оперативного планирования мистер Филлипс начертал на полях его сообщения, – причем это было написано первого января тридцать седьмого года, – что ему весьма «желательно узнать, какие факты послужили основанием для столь категорического утверждения». И все. Этого оказалось достаточным, чтобы купировать прозрение… Впрочем, всякое прозрение тенденциозно. Мы, молодежь, не верили Гитлеру; наше неверие трактовалось аппаратом премьера Чемберлена как попытка повернуть Даунингстрит к диалогу с Москвой; это приравнивалось к измене присяге. Только в сороковом году, когда сэр Уинстон возглавил кабинет, я ощутил себя нужным Великобритании, ибо понял, что мы будем сражаться против коричневого тирана до последнего солдата… Это не фраза, нет… Это моя жизненная позиция… Вы приехали для того, чтобы говорить со мною о судьбе картины Врубеля?
– Да.
– Вы знаете, с кем мой брокер бился на аукционе?
– Нет.
– Сердце отпустило?
– Да.
– Я вижу – ногти порозовели. Итак, виски?
– С удовольствием.
– Я думаю, мы не станем звать доброго Джозефа и будем ухаживать за собою сами?
– Конечно. У меня совсем отпустило сердце, и сразу же захотелось выпить.
– Как прекрасно, я рад за вас.
Сэр Мозес Гринборо поднялся, принес на столик бутылку с дымным виски, восемнадцать лет выдержки, цвет осеннего поля; спросил, хочет ли гость льда; согласился с тем, что такое виски следует пить чистым, без воды и льда, само здоровье; когда наливал в хрустальные стаканы, Ростопчину показалось, что теплое виски невероятно тяжело; ощущение, граничившее с нереальностью, – непрерывная тяжесть влаги…
– Ну? – спросил сэр Мозес, сделав легкий, блаженный глоток.
– Поразительно.
– Говорят, что русские тем не менее предпочитают водку.
– Верно. Но основа-то одна: хлеб. У вас ячмень, у русских – пшеница…
– Я ждал, что вы скажете «у нас», а вы сказали – «у русских»…
– Я не отмываемо русский, сэр Мозес, чем высоко горд… Вот только виски предпочитаю водке. Люблю французские костюмы. На «Ладе» не езжу, только на «мерседесе». Щи не люблю, это самый расхожий суп у русских, предпочитаю луковый. Но разве это является определяющим национальную принадлежность?
– А что же?
– Язык и зрение.
Сэр Мозес удивился:
– Странное сочетание. Отчего именно язык и зрение? А сердце? Кровь? Норов?
– Сердце – кусок мяса, хорошо тренированная мышца, оно у всех одинаково. Как и кровь. Нрав меняется – после безоговорочной капитуляции немцы стали иными, что бы ни говорили. А вот зрение… У нас, у русских, его определяют как понимание, постижение…
– Какая-то феерия символов, – заметил сэр Мозес, доливая виски; пилось хорошо; Ростопчин кожей ощущал удачу; заставлял себя ждать; намеренно не задавал вопроса о том, с кем бился узкоспинный брокер Мозеса; пусть скажет сам.
– Тайна национального зрения, – продолжил Ростопчин, – непонятна мне, но в том, что она существует, я не сомневаюсь. Причем, бывает, национальное привнесено в эту тайну извне: иначе беглый афинянин не стал бы великим испанским художником Эль Греко, а еврей из черты оседлости не сделался бы певцом русской природы Левитаном.
– Мы – исключение, – заметил сэр Мозес Гринборо. – Англию прославили англичане.
– Не скажите. Просто болгарин или японец не знают о сложностях англо-шотландских отношений. Они убеждены в том, что Роберт Бернс и Вальтер Скотт – англичане. – Ростопчин улыбнулся. – Что же касается вашей живописи, то она родилась из эксперимента фламандцев и испанцев; влияние очевидно, спорить с этим бессмысленно… Но если мы вернемся к языку, то есть к проблеме Бернса и Скотта в английской литературе, то я снова обязан прибегнуть к исследованию этого предмета, обратившись к словарю, который определяет язык как мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубам пищи, для распознания ее вкуса, а также для словесной речи. Но при этом существует и второе толкование: совокупность всех слов народа и верное их сочетание для передачи своих мыслей. Есть и третье: язык есть народ, земля с одноплеменным населением и одинаковой речью. И наконец, четвертое, это, правда, трактовка русской православной церкви: язык – эти иноверцы, иноплеменники. Но как же тогда объяснить феномен немца фон Визена, ставшего великим русским драматургом Фонвизиным? Или Пушкин, потомок эфиопа, создатель русского литературного языка? Или шотландец – по отцу – Лер Монт, известный миру как Лермонтов? Или Пастернак? Вот отчего я выделяю субстанции языка и зрения как основополагающие национальной принадлежности человека.
– Вас постоянно тянет в Россию? – спросил сэр Мозес.
Ростопчин задумался; вопрос был интересен, он сам никогда не задавал его себе, и не потому, что боялся ответа, а из-за того ритма жизни, в котором жил; именно этот испепеляющий, стремительный ритм и позволял ему делать для России то, что он старался делать; какой прок от беспомощного, слабого, страдающего плакальщика? Родине помогают сильные.
– И да, и нет, – ответил Ростопчин раздумчиво. – А вообще-то довольно сложно быть однозначным. Вы меня озадачили, загнали в тупик своим вопросом. Я – в деле, которое вертит мною… Не я – им… Но я вырос под балдахином русского искусства… Мама воспитала меня русским… Я могу заплакать, когда читаю Пушкина… Но я уже не могу отрешиться от того ритма, в котором живу шестьдесят лет… В этом смысле я – европеец, каждодневная гонка за самим собою…
– Вы во всем согласны с Кремлем?
– Отнюдь.
– А в чем согласны?
– В том, что русские не хотят драки.
– А кто ее хочет? По-моему, никто. Какая-то фатальная обрушиваемость в катастрофу. Всемирный амок… Так вы не знаете, с кем я бился за Врубеля?
– Нет.
– С американцем. Он не столько коллекционер, сколько… Словом, он скупает картины, как акции. У него, видимо, плохие советчики, совершенно не думают о престиже клиента. Не ударь я вас своей ценой, картину бы забрали в Штаты.
– Какая разница? Россия тоже не Англия…
– Шотландия, – мягко поправил сэр Мозес. – Картину доставили сюда, в Шотландию, тем рейсом, который вылетел в Эдинборо (он произнес название Эдинбурга подчеркнуто по-шотландски) за полчаса перед вами… Видимо, вы хотите просить уступить ее вам?
– Не мне. Мистеру Степанову.
– Кто это?
– Мой друг из Москвы.
– Не хотите поинтересоваться, отчего я бился с тем американцем?
– Хочу.
– Что же не спрашиваете?
– Жду, пока расскажете сами.
– Еще виски?
– С удовольствием.
– Сердце отпустило?
– Совершенно.
– Я кое-что слышал о вашей активности, князь… Она представляется мне вполне оправданной. Но не считайте, что ваша деятельность не окружена сонмом легенд, совершенно противоречивых… Мне это напоминает операцию, придуманную адмиралом Канарисом, – он был блистательный выдумщик, и когда его называют нашим агентом, я не устаю поражаться наивности этой точки зрения… Что-то в тридцать восьмом году, еще до того, как пришел сэр Уинстон, нашему посланнику в Берлине тонко и просчитанно передали «самую компетентную и доверенную информацию» о том, что в ближайшее время возможен удар немецкой авиации по флоту метрополии, который окажется сигналом к началу войны. Ни ультиматума, ни джентльменского объявления о начале битвы от Гитлера ждать не приходилось: коварный удар действительно был возможен каждую минуту… Приняли решение привести в боевую готовность зенитную артиллерию на кораблях… Первый лорд адмиралтейства Стэнхоуп отправился на авианосец «Арк Роял» и там – при журналистах – сказал, что артиллерия империи приведена в боевую готовность, чтобы дать «отпор любому, кто попытается внезапно на нас напасть». Таким образом мы продемонстрировали свою паническую боязнь Гитлера; попытка Чемберлена помешать публикации пассажа первого лорда в прессе оказалась малорезультативной: если «Таймс» и «Дейли телеграф» вняли просьбе правительства и умолчали о факте речи лорда Стэнхоупа, то «Дейли скетч» – с тиражом плохо, нужна сенсация – поместила текст полностью, сославшись на то, что все это уже прошло по Би-би-си… Вся пропагандистская машина Гитлера завопила о «войне нервов», которую постоянно ведет «английский империализм». Мы попались в ловушку, как пугливые дети… Канариса нет, но кто-то очень ловко пугает вами американцев… А я не из пугливых… Я сторонник европейской концепции, князь, мы живем в трех часах лета друг от друга, нам необходимо наводить мосты дружества, время кидать камни минуло, вместо камней будут кидать баллистические ракеты… Поэтому я готов обсудить вопрос о судьбе Врубеля… Я не могу уступить его по вашей цене, но отдам, если вы уплатите мне мои двадцать тысяч.
Ростопчин достал чековую книжку, молча вывел сумму, протянул сэру Мозесу, тот поднялся, положил чек на письменный стол, взял тонкую папку, вернулся, налил еще виски и сказал:
– К сожалению, я лишен возможности сделать подарок русским, это могут неверно истолковать в Лондоне, но вам, князь, я хочу передать письма, связанные с судьбою военного художника Верещагина, – и он протянул Ростопчину папку.
Ростопчин открыл ее, сразу же вспомнил мамочку, потому что письма были с «ятями», на толстой голубоватой бумаге и с той орфографией, которой до конца дней пользовалась старенькая в переписке с друзьями, уехавшими в Австралию.
XIII
«Любезный друг, Аким Василъевт!
Вы слышали новости про Верещагина? Бьюсь об заклад, нет! А оне заслуживают того, чтобы их знать, поскольку занятны весьма.
Вернувшись с Шипки и написамши уйму картин, Верещагин был заверен придворным живописцем Боголюбовым, что Великий Князь наверняка захочет купить для Государя весь его Болгарский цикл. И верно, в гостиницу к Верещагину явился адъютант Цесаревича и пригласил художника пожаловать во Дворец, представиться. Тот поехал, ждал час в приемной, засим вышел другой адъютант и сообщил, что Его Высочеству сего дни не время. Назначил другой день, а Верещагин дерзко посмел не явиться, сказав во всеуслышание, что-де, видно, большой надобности в свидании нет и что найдутся желающие иметь его работы помимо таких важных особ. Да и укатил из Питера! Каково?! Но и это не конец! Боголюбов понудил-таки его послать Цесаревичу на просмотр картину, а тот возьми да и откажи Верещагину: мол, негоже, дурно, не для России! Остался спаситель Третьяков, но тот, осмотрев цикл, заметил художнику, что в полотнах мало жертв русского народа, мало подвигов войск и некоторых отдельных личностей… Ему ведь тоже нелегко, он знает, что и как про кого говорят при Дворе, хочешь не хочешь, а подстраивайся! Так Верещагин дал ему такой отворот, что Третьяков аж побелел от оскорбления.
“С чего он взял, – разразился Верещагин публично, – что может давать мне эдакие-то советы?! После конченной кумпании передо мною стоит ужасный призрак войны, с которым, при всем моем желании схватиться, боюсь, не совладать”.
И уехал в Париж и Лондон, где его выставка загремела, да так, что об этом сразу же узнали в Санкт-Петербурге; господа из нашего посольства немедля дали знать Верещагину, что ему разрешен вернисаж:, в северной столице. Тот немедля свернул в Париже свою выставку и сей момент воротился в Россию. Однако же, когда картины были развешаны, конференц-секретарь Императорской Академии Исеев сообщил Верещагину, что по указанию Его Императорского Высочества необходимо снять пояснительные надписи, поскольку-де они и без того ужасную картину войны делают и вовсе невыносимой, а сие мешает патриотическому духу нации. Одновременно с этим ему сообщили, что Его Императорское Величество соизволил выразить желание осмотреть картины, для чего их надобно перенести в Зимний дворец. Казалось бы, просьбы вполне деликатные, не содержащие в себе чего-либо такого, эдакого… Что же, Вы думаете, ответил Верещагин? Не угадаете! Право, не угадаете! “Я, – говорит, – не нахожу возможным выполнить пожелание Его Высочества относительно снятия надписей и буду ждать его приказания. Что касаемо показывания картин Его Императорскому Величеству, то позвольте поблагодарить вас за доброе желание: не видя возможности переносить мои картины во Дворец, я принужден и вовсе отказаться от этой чести”. Вот так живописец, а?! А дальше – хуже! Великий князь приказал снять пояснительные надписи, а они ж злющие! Так Верещагин по поводу этого соизволил заявить: “Снимаю надписи, но пусть на душе Его Высочества будет грех; неужели люди, протестующие против зол войны, приравниваются к отрицающим государство?” Хлоп! А?! Великий Князь Владимир Александрович все сразу поставил на свои места, сказав в Академии: “Творец-то – тронутый!” Так при Дворе теперь про Верещагина, – с острого словца Великого Князя, – иначе и не говорят: «тронутый!» А и верно! Кто из нормальных эдак-то себя посмеет весть с особами Царствующего Дома?! Газеты выдали против него залп, особенно раздраконило “Новое время”, Суворину силушки и языка не занимать, очистил голубчика как орех! Верещагин писал опровержения, лепетал что-то, но имя его отныне сделалось опальным, а талант признан вредным и нездоровым…
До скорого, голубчик Аким Васильевич!»
XIV
«Хранителю и Спасителю Духа Православного,
отцу-спасителю
К.П. Победоносцеву
Да что ж это такое?! Кто позволяет Верещагину так глумиться над нашим боевым духом?! Выступая с лекциею в пользу женских курсов, он посмел эдакое про наше доблестное офицерство завернуть, так обмазал грязью дворянство и генералитет, без коего нету побед наших, что Его Высокопревосходительство военный министр Вановский был вынужден привлечь сыскные органы для расследования сего зловредного бесстыдства! Генерал Скугаревский взял Верещагина под защиту – как всегда, на Руси находятся доверчивые добрячки, наивно полагающие, что Диавол изведен из людских душ. Так и на этот раз: дело прекращено! Или, во всяком случае, прикрыто!
Государь соизволил заявить, что Верещагин делает своей живописью зло России, выставляя темных солдат страстотерпцами и героями, а генералов – трусами и безмозглыми дурнями с мохнатыми сердцами. Только нерусскому человеку неведомо, что наш темный мужик без поводыря ни на что не способен! Такой уж народ наш! Поводырь – командный чин, его бы и восхвалять. Так ведь нет! Клевещет Верещагин, черно и низко клевещет!
На Вас одна надежда! Оберегите Русь-матушту!
Не подписуюсь потому, что не один я так думаю, но легион подобных мне».
XV
«Милостивый государь, Аким Васильевич!
Как и обещал, высылаю с этим письмом способ заварки лечебного чая для почек для любезной Лидии Арсеньевны. Поверьте слову, завар этот дивный, снимет все боли после пяти – семи сеансов.
Теперь о новостях.
Продолжается эпопея с Верещагиным. Как Вы, конечно, знаете, его новая серия (он меньше чем дюжинами не пишет) о Наполеоне была предложена к продаже Двору. Государь Николай Александрович соизволил изъявить желание приобрестъ лишь одну картину. Верещагин отказался: «Или все, или ничего!» Тут юркие америкашки предложили ему выставку в Новом Свете, он конечно же отправился туда; успех, овации, пресса: “дикий русский потряс западный мир талантом своего беспощадного реализма”. Но талант талантом, а тамошние антрепренеры его крепенько надули, и он решил пускать себе пулю в лоб. Сказывают, что жена его, Лидия Васильевна, закладывает дом, дабы выслать безумному супругу денег, – не хватает на билет, чтобы воротиться домой. Денег, увы, не получила, и тогда Верещагин согласился на аукцион в Нью-Йорке всей его серии; оценили баснословно высоко (их разве поймешь, американов-то), чуть не в полмильона долларов. Пришла телеграмма министру двора генералу Фредериксу о распродаже. Тут у нас все зашевелились, оттого что не так далека годовщина великой битвы супротив Наполеона. Чем ее отмечать, как не его сериалом? Выплатили безумцу сто тысяч, успокоился, расплатился с долгами, воротился с картинами в Россию и снова, как одержимый, бросился к мольберту, и снова за свое, вот уж действительно “тронутый”. Не пошла ему впрок взбучка, данная “Русским словом”. А ведь там грамотно писали по поводу его сериала: ”Алтарь, превращенный в кабинет, Успенский собор, в котором устроена конюшня, – да для чего же изображать все это на полотне, в красках, выставлять и показывать?! Кому? Нам, русским! Если в 1812 году в России кощунствовали враги, то теперь кощунственное впечатление оставляют произведения русского художника, которому для чего-то вздумалось изобразить в картинах поругание над русскою святынею”.
Метче и не скажешь.
Ну да либерализм нашего правительства и не до того еще доведет!
Поверьте слову и чутью моему; Верещагин такого наизображает, что всех нас умоет позором, представит страной варваров и бессердечных дикарей.
Ничего, и это переживет Россия!
До скорого свидания, голубчик!»
Ростопчин поднял глаза; в них были слезы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































