Текст книги "Аукцион"
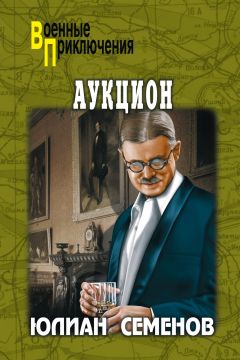
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
– Да, но этот год был бы для нас крайне важен, господин министр! Если этот вопрос можно считать решенным, я очень вам благодарен, советские станки еще скажут свое слово на континенте, это ж такая пропаганда…
– Бизнес это, а не пропаганда, – ответил Савин. – Пропаганда – если б мы бесплатно давали, за здорово живешь, а мы теперь взрослые, находимся в стадии наработки самоуважения, так-то вот…
Подали чай с печеньем и шоколадом; поговорили о том деле, которым занимался Ростопчин. «Хорошо бы, – заметил Степанов, – организовать экспозицию картин и книг, которые князь вернул на Родину; можно сделать буклет для всего мира». Савин улыбнулся: «Сначала выбейте в Госплане фонд бумаги и договоритесь о хорошей типографии». – «Это интересное дело, – согласился Розэн, – купят во всем мире: во-первых, красиво, во-вторых, сенсация». Прощаясь, Розэн сбивчиво благодарил, натыкался на стулья и не знал, куда деть руки; министр подарил ему и Степанову по маленькому, очень красивому макетику станка, сделанному как миниатюрная настольная лампа; Розэн сказал, что такую красивую вещь можно запустить на конвейер как сувенир, даст немедленную прибыль. «Валяйте, – сказал Савин, – можем уступить лицензию».
Когда Розэн ушел – к заместителю министра, ведавшему связями с банками, Савин, попросив Степанова задержаться, спросил про дочек, посетовал на то, что после инфаркта врачи до сих пор запрещают ему заниматься теннисом, поинтересовался, когда выходит новая книга.
– Не забудь прислать, Дмитрий Юрьевич, ты у меня в долгу, я твою последнюю книгу выписал по экспедиции, как-нибудь загляни, оставь автограф, а то нехорошо, у меня все твои – дареные…
И, лишь провожая Степанова к двери, поинтересовался:
– Ты в этом человеке-то убежден?
– В каком смысле? – не понял Степанов. – Шпионами занимается ЧК, да и не годится он, думаю, для этого амплуа…
– Я не о том. Какой-то он хлипкий… Не подведет тебя?
– В чем?
– Как в чем?! Ты ведь не только мне рассказал, как этот панамский американец хочет отблагодарить нас за свою спасенную жизнь, как восторгается деятельностью Ростопчина… Ты, кстати, не думаешь, что князя могут ударить?
– Не думаю. Он независим. Да и за что его ударять?
– Черт его знает… Я много раз наблюдал переговоры, знаешь ли… Накануне подписания больших контрактов… Ты себе представить не можешь, как наши партнеры бьются за каждый цент, за полцента… На этом, кстати, и стоят… А он такие ценности нам отправляет… И не кто-нибудь, а аристократ, в классовой солидарности не упрекнешь…
– Спаси бог, если стукнут. Ты не представляешь себе, какой это славный человек.
– Почему? – Савин пожал плечами. – Представляю… А этот твой протеже – слабенький, безмускульный.
– Не я ж его приглашал в это дело, сам меня нашел.
– Понимаю… Это я так, на всякий случай… В Лондоне помощь не потребна? Там мы тоже торгуем станками, идут довольно неплохо, хотя кое-кто пытается их баррикадировать; воистину, для кого – бизнес, для кого – политика…
VI
«Милая!
Закончил наконец Морозовские панно и принялся за “Богатыря”. Пользуюсь светом, и поэтому все праздники и дни никуда не выхожу. Администрация нашей выставки в лице Дягилева упрямится и почти отказывает мне выставить эту вещь, хотя она гораздо законченнее прошлогодней, которую они у меня чуть не с руками оторвали. Хочу рискнуть на академическую выставку, если примут. Ведь я аттестован декадентом. Но это недоразумение, и теперешняя моя вещь достаточно это опровергает. Пытаюсь себя утешать… Слава Богу, никто мне в моей хоть мастерской не мешает. Наде грустнее: ее право на артистический труд в руках у Мамонтова, а у него в труппе полный разгул фаворитизму. Ей мало приходится петь; опускаются руки на домашнюю работу; подкрадывается скука и сомнение в собственных силах. Правда, мы немного отдохнули, имея возможность принимать и праздновать добрейшего Римского-Корсакова. Он кончил новую оперу на сюжет “Царская невеста” из драмы Мея. Роль Марфы написана специально для Нади. Она пойдет в будущем сезоне у Мамонтова, а покуда такой знак уважения к таланту и заслугам Нади от автора заставляет завистливую дирекцию относиться к ней еще суровее и небрежней…
Врубель».
Часть третья
1
Фол никогда не слыхал имени Герхарда Шульца; они никогда не встречались: один жил на юге, в Парагвае, другой – на севере, в Вашингтоне. Шульц был уже дедом, его семья насчитывала двадцать семь человек, счастливый муж, отец, брат. Фол поселился отдельно от семьи, горестно-одиноко, отдаваясь целиком работе, которая – после того, как он расстался с Дороти, – сделалась его всепожирающей страстью. Шульц жил в роскошной асиенде, на берегу вечно теплой, хоть и буро-красной, грязной на вид, Параны. Фол снимал номер в отеле: две комнаты, окна выходили во двор, могила, колодец, а еще говорят, что в Вашингтон приезжают смотреть, как цветут вишни; приезжают разве что восторженные туристы, их возят из Нью-Йорка, очень престижно за один день побывать в обеих столицах.
Фол не знал, что Шульц – не подлинная фамилия дона Эрхардо, изменил седьмого мая сорок пятого года, раньше был Зульцем, штурмбаннфюрером СС, приглашен к сотрудничеству американской секретной службой осенью сорок девятого в Рио-де-Жанейро, вербовка прошла гладко, за пять минут. «Признаете, что на этом фото вы изображены в форме СС?» – «Признаю». – «Готовы к разговору с нами?» – «Давно готов». – «Это несерьезно, мистер Зульц. Настоящая беседа начнется только в том случае, если вы напишете нам имена мерзавцев из вашей нынешней сети на юге континента». – «Я бы не стал называть тех, кто оказался в изгнании после победы большевиков». – «После нашей общей победы, мистер Зульц, – американцев, англичан и русских. Мы сообща разгромили тиранию Гитлера, и вам не следует вязаться в наши дела с русскими, уговорились? Что же касается изгнанников, то это уж нам позвольте судить, являются ли ваши друзья изгнанниками или же организованы в хорошо законспирированную бандитскую сеть, о’кей?»
Фол и не предполагал, что шифрограмма, отправленная из филиала его страховой фирмы в Лондоне, вызовет такой странный, сложный и непросчитываемый процесс: совещание Совета директоров фирмы – встречи с нужными людьми – выход на ЦРУ – и, затем уже, когда дело пошло в работу, – на соответствующие подразделения, которым поручено найти подходы к «Эухенио Ростоу-Масалю, подлинное имя – Евгений Ростопчин, гражданин Швейцарии, проживает в Аргентине, район Кордовы, 1952 года рождения, женат, имеет двух детей, занят в сельскохозяйственном бизнесе. Необходимо оказать на него давление в том смысле, чтобы он обратился к отцу за финансовой поддержкой; сделать это надо через его мать, с которой князь Ростопчин развелся в 1954 году, леди Винпресс, Софи-Клер, проживает в Париже, имеет дом в Эдинбурге и квартиру в Глазго».
Результатом проделанной работы (анализ архивов и расчет на ЭВМ) оказался индекс «УСГ-54179»; агент проживал в Парагвае, однако имел апартамент в Кордове; Герхард Шульц, землевладелец и компаньон директора фирмы по строительству шоссейных дорог; сейчас ведут трассу в непосредственной близости от земель Ростоу-Масаля; есть возможность нажать на сына князя, перерезав его водные коммуникации, что равносильно экономическому краху последнего.
…Человек – маленький винтик в огромном вселенском механизме; ни о чем не догадывавшийся сеньор Эухенио Ростоу-Масаль, он же Евгений Ростопчин, он же Женечка (для отца) и Шеня (для мамы), в то утро, как обычно, завтракал на огромной террасе, сложенной из старого мореного дерева; дом поставлен так, как это умели делать в горах над Цюрихом, – на века, но при этом легко и уютно.
Жена приучила его к испанскому завтраку: кофе со сливками и чулос – длинные хлебцы, поджаренные в оливковом масле; в Памплоне, во время Сан-Фермина, после утренней эстафеты, когда разъяренные быки пронесутся из корраля на пласу де Торрос, весь город отправляется на площадь пить кофе с чулос; Мари-Исабель очень гордилась тем, что родилась именно в Памплоне, дочь басков, золотое руно, родство душ и языков с далекими грузинами, вот почему вышла замуж за русского!
– Ты сыт, милый?
– Не то слово! Настоящее большое обжорство.
– Боже, какой это страшный фильм – «Большое обжорство».
– Почему? В некоторых частях он занятен, и потом в нем много секса.
Дети, мальчик и девочка, – три года и шесть лет, – плескались в бассейне; Мари-Исабель попросила сделать два бассейна: большой – взрослым, маленький – детям; Эухенио поманил пальцем жену, та склонилась к нему; он шепнул:
– Я очень тебя хочу…
– Я тоже очень хочу тебя…
– Пошли?
В это как раз время и позвонил сеньор Эрхардо Шульц; говорил рубяще: в картах путаница, вам продали земли, которые за два года перед тем отошли нашей фирме, очень сожалею; решение местных властей принято в мою пользу; нет, я не общество благотворительности; нет, я не отказываюсь от встречи, напротив, я настаиваю на ней; компромисс возможен, почему нет, что-то около пятидесяти тысяч долларов; нет, аванс невозможен, нет, в местной валюте платы мы не принимаем, все расчеты идут через банк в Манхэттене; деньги надо внести в течение недели, дело есть дело, у меня будут стоять рабочие, платить неустойку из-за путаницы в ваших документах я не намерен; хорошо, сегодня в шесть, в Кордове, юридическая контора «Мазичи и Эчавериа», это в центре.
Мать Женя нашел в эдинбургском доме; звонку сына обрадовалась:
– В Париже совершенно страшная погода, мальчик! Я убежала оттуда в здешнюю весну. Дивно! Что у тебя с голосом? Почему ты молчишь?
– Мама… понимаешь… мне… нам срочно нужны деньги…
– Что случилось?
– Тут какая-то страшная путаница с землей… Словом, это трудно объяснить… Мне продали чужую землю…
– Что?!
– Нет-нет, не всю… Но как раз тот участок, где у меня вода… Я остался без воды, это – конец… Жара, все сгорит…
– Я сейчас же позвоню отцу… А почему ты не хочешь? Хорошо, хорошо, Шеня, понимаю, я это сделаю сама, у меня есть сейчас двадцать тысяч, могу выслать тебе половину…
– Это не выход, мама. По условиям, которые я обязан выполнить в течение недели, следует внести все деньги, до единого цента.
– Я перезвоню через десять минут.
Положив трубку, Софи-Клер вдруг поняла, что не помнит номера телефона мужа. Бывшего мужа, поправила она себя; Боже мой, какая же я была дура, единственный человек, который меня любил; да, все верно, он несносен, потому что, кроме этих самых русских картин и икон, для него ничего не существует; да, конечно, было обидно, когда он отказывал мне в том, чего я заслуживала, но ведь он отказывал мне в платьях от Пьера Кардена, можно обойтись и без них; что же делать, если я не болела его болезнью, что делать, если я была, да и продолжаю быть, обыкновенной женщиной?!
Она поднялась с тахты; начала разламываться голова; сосуды, наследственное, папа умер от инсульта, слава Богу, не мучился, не страдал от недвижности или немоты, только бы не этот ужас; Шеня (о муже она думала так же, как о сыне, слово «Женя» не получалось у нее – ни в разговоре, ни в мыслях) читал мне какого-то русского писателя: «легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надобно просить»; как верно, как горько; подошла к столу, выдвинула ящик, нашла старую телефонную книгу, открыла страницу на «Р», «Ростопчин», неужели тут тоже нет, все в Париже? По счастью, телефон Ростопчина был; она позвонила в справочную, ей сказали код Швейцарии, Цюриха; князь был в офисе еще, как обычно, сидел там допоздна.
– А что случилось? – спросил он, выслушав Софи. – И почему он сам не позвонил мне?
– Ты же знаешь, родной. У него твой характер. Он обижен на тебя и не станет унижаться.
– А разве перед отцом можно унижаться? Да и чем я обидел его?
– Не будем ссориться, ладно? В конце концов речь идет о жизни и смерти мальчика…
– Что?!
– Да, именно так. Он купил не ту землю, у него отрезают водоснабжение, это гибельно для его предприятия с коровами… Словом, я не знаю подробностей, но, если ты не вышлешь ему пятьдесят тысяч долларов, он погибнет…
– Во-первых, не надо паники. Пожалуйста, успокойся, не плачь, бога ради… Я сейчас ему позвоню. У меня нет свободных денег, я отложил тридцать тысяч на аукцион…
– Неужели тебе дороже эти чертовы картины, чем судьба сына?
– Ты же знаешь, что я сделал для него все, Софи. Не будь несправедлива…
– Ты хочешь сказать, что у тебя нет денег, чтобы помочь мальчику?!
– Я не могу взять деньги из дела, Софи, это банкротство. Только потому, что я веду дело, ты продолжаешь жить так, как тебе хочется.
– Откуда ты знаешь, как мне хочется жить?! Не говори за меня, пожалуйста! Только я одна знаю, как мне хотелось жить!
– Разреши, я перезвоню Жене, я потом сразу же соединюсь с тобою.
Софи не ответила, положила трубку; ну и характер, подумал Ростопчин, это она к старости подобрела, как же я терпел ее раньше? Терпел, потому что любил. Нет, неверно. Потому что любишь. Степанов верно читал: «К женщине первой тяга, словно на вальдшнепа тяга, было всяко и будет всяко, к ней лишь останется тяга». Как хорошо, что я бросил курить, непременно сейчас тянул бы одну сигару за другой. Хотя Черчилль смолил до девяноста трех лет. Фу ты, черт, какая-то путаница в голове. Ну-ка, сказал он себе, соберись и не сучи ногами. В жизни бывало хуже; в конце концов речь идет всего лишь о деньгах; на старость хватит, сколько мне осталось, кто знает? Вспомни, что было с тобою, когда ты понял, что Софи ушла от тебя, ушла потому, что не любила, никогда не любила, попросту терпела, а что может быть страшнее для мужчины, если он понял это на шестом десятке? Вспомни семнадцатилетнюю девочку из Ниццы, которую расстреляли у тебя на глазах, в сорок третьем. Вспомни ту сковородку, на которой ты с мамой жарил картошку после войны? Ты вспомни, как вы жарили на прогорклом маргарине, соскобленном с тарелок в ресторане, и ничего, смеялись, ах, какое было счастливое время, когда жила мамочка, голодное, нищее, прекрасное время…
– Алло, Женя, здравствуй, это я.
Сын ответил по-испански, потом перешел на английский:
– Добрый день. Ты уже в курсе?
– Мама рассказала мне довольно сумбурно…
– Дело в том, что у меня не было достаточного количества денег, когда я покупал эту землю, чтобы нанять хороших адвокатов… Ты ведь дал мне в обрез…
– Я дал тебе столько, сколько ты просил.
– Мне бы не хотелось слушать упреки, папа.
– А в чем я тебя упрекнул? Алло… Ты слышишь меня?
– Да, – ответил Ростопчин-младший. – Но ты сбился на русский, я не понял, что ты сказал.
Князь потер затылок, сделал несколько глубоких вздохов, перешел на французский:
– Ты не мог бы срочно прислать мне документы? Я готов нанять для тебя хорошего адвоката.
– Бесполезно. Мама, видимо, сказала, что в сложившейся ситуации меня могут спасти только деньги – пятьдесят тысяч долларов.
– Хорошо, я что-нибудь придумаю. Однако завтра – это нереальный срок. Те деньги, которые у меня свободны, уйдут на аукцион.
– А то, что ты выкупишь на аукционе, уйдет в Россию?
– Бесспорно!
– Не кажется ли тебе это жестоким, папа?
– Не будем судить о жестокости. Это довольно сложный вопрос: кто жесток по отношению к кому и все такое прочее…
– Я редко тебя просил о чем-либо.
– Тебе не приходилось меня ни о чем просить. Я угадывал твои желания…
– Ты не выполнил моего главного желания.
Ростопчин не сдержался:
– Подождем той поры, когда твоя жена убежит к другому, бросив тебе детей… А я по прошествии лет, когда дети вырастут, попрошу тебя вернуть ее в твою постель, ладно?
– Это бестактно, папа.
– Правда всегда тактична.
– Словом, ты отказываешь мне?
– Нет, не отказываю. Я говорю о нереальности срока. Посоветуйся со своим юристом…
– У меня нет юриста.
– Заведи. Я оплачу расходы. Деньги будут переведены сегодня же, назови номер счета. Попроси его обговорить условия платы с теми людьми, которые наступают тебе на горло…
– Никто мне не наступает на горло!
– Это русское выражение… Пусть юрист договаривается о сроке платежей, я вышлю гарантию.
– Они не соглашаются на отсрочку платежей.
– Попроси своего юриста, – ты наймешь его сейчас же, самого лучшего в городе, – связаться со мною. Я буду ждать звонка в офисе.
Сын не попрощался, положил трубку; сейчас позвонит Софи, подумал Ростопчин, начнется мука; у нее бывают периоды затмения сознания: вполне может приехать в Лондон и устроить скандал в Сотби.
Он похолодел от этой мысли, потому что понял, насколько она реальна; Боже ты мой, кто это придумал, что к старости у человека жизнь делается проще?! Неправда, о, какая это неправда! Наоборот, ничто так не сложно, как старость, время подведения счетов, реестр на то, что не сделалось в жизни, не получилось, минуло, прошло рядом…
Софи позвонила через десять минут – голос звенящий; он отчего-то сразу же понял, что она выставит ему свой счет на телефонные разговоры с Аргентиной, – франков пятьсот, не меньше; при чем здесь счета, как-то устало спросил он себя, Бог с ними, с этими счетами, просто очень обидно ощущать себя старым, когда ты один, и никому не нужен, пустота вокруг, книги и картины – будь все неладно. Нет, самое страшное, если тебе делается скучно, словно все, что происходит, уже было с тобою, много раз было, и все всегда кончалось скукой… Право же… Начиналось любовью, а кончалось… Любовь? Что это такое, кстати говоря? Наверное, постоянное желание сделать хорошо тому, кого любишь… Но ведь мое «хорошо» разнится от того понимания «хорошо», которому привержен с рождения (впрочем, с рождения ли?) тот, кого ты любишь… Точнее, видимо, сказать, что любовь – это постоянное нежелание сделать дурно, неловко, неприятно тому, кого любишь, обидеть хоть в чем-то. Любовь – это когда ты для другого, и уж отсюда – для себя, но только – потом. Все остальное – а ты ведь думаешь о своем, сказал себе Ростопчин, не в силах подняться из-за стола, – зиждется на изначальной ошибке. Или корысти.
После разговора с сыном он заставил себя подняться, отошел к стеллажам, открыл бар, налил рюмку водки, прополоскал рот, почувствовал, как зажгло нёбо, боль в затылке стала отпускать…
«Однако же, когда ошибка или корысть соседствуют с дисциплиной, возникает новая ситуация; дисциплина – великий организатор: как чувства, так и закамуфлированного бесчувствия. Порою любящий – не сдержав характер, бывает же, Господи, – обидел ненароком, и любви нанесен непоправимый удар, а может, она и вовсе разбита. А иной корыстолюбец, преданный дисциплине, так ведет свою партию, что любовь – очевидна и постоянна. И как же дисциплинированно лжет обманщик, чтобы сохранить маску любви! Это ведь так удобно: вечерний чай, дежурная улыбка, разговоры о детях, все чинно и пристойно, все, как у людей. Неужели дисциплина лжи – единственный гарант добрых отношений?! А искренность в выявлении человеческой самости – главный разрушитель любви? Где Бог, где дьявол? Неужели же сатана с хорошими манерами более угоден людям, чем пророк правды, брякающий то, чего не хотят слышать?!» Разговор с Софи был тяжелым, со слезами.
– Нельзя же быть черствым эгоистом, речь идет о мальчике, в конце концов…
– Повторяю, я не отказываю Жене ни в чем, как никогда не отказывал. Ни тебе, ни ему. Просто я сейчас не могу вынуть из моего дела столько денег… Я вышлю вексель, гарантийное письмо, этого совершенно достаточно… В конце концов – извини, пожалуйста, за то, что я вынужден сказать тебе это, – но и его семья, и ты живете тем, что я зарабатываю; нет, я ни в чем вас не упрекаю, неужели сказать правду – значит упрекнуть?
– Ты бессердечное чудовище. – Софи снова заплакала. – Ты совершенно не думаешь о мальчике! Это же страшно! Ты компьютер, а не человек, какой ужас, что я тебя встретила!
– Софи, дорогая, пожалуйста, настройся на то, что я тебе в который уже раз объясняю… Я улажу дела Жени. Он, видимо, так и не научился делать серьезный бизнес. Ему, впрочем, это было не очень-то нужно, потому что рядом всегда стоял я. Сейчас он впервые столкнулся с трудностями. Я не очень понимаю, что там произошло, поэтому я и попросил его срочно вызвать юриста, двух-трех лучших юристов… Если бы его аргентинские коровы были единственным источником дохода, тогда одно дело… Но ведь мой здешний дом принадлежит ему. Мое дело завещано ему. Я не знаю, кому ты отписала дом в Эдинбурге, я подарил его тебе, и ты вправе распоряжаться им, как хочешь, но ведь он тоже может быть Жениным… И твой парижский апартамент, и этаж в Глазго. Не надо обижать меня попусту, говоря, что я не забочусь о Жене. Мне непонятно, что случилось с его землей, я хочу в этом разобраться. С помощью специалистов… Ты успокоилась?
Софи понесло; Ростопчин зажмурился, отложил трубку, решил ответить, когда смолкнет невнятное бульканье ее голоса, только бы не слышать того, что она говорит, сил нет; потом различил короткие гудки: швырнула трубку – ее манера. И сразу же раздался новый звонок. Наверное, Женя, подумал он; она бросила меня, когда он был крохой, а теперь стала защитницей. А я – черствый компьютер… Не льсти себе, ты – чудовище, так тебе было сказано…
– Алло, добрый вечер, господин Ростопчин! Не думал застать вас в офисе.
– С кем имею честь?
– Это Фридрих Хойзер из «Курира». Только что прошла передача по гамбургскому радио о вашей деятельности в сфере культуры. Не могли бы вы уделить мне пятнадцать минут; всего лишь несколько вопросов.
(Радиопередачи не было; о «гамбургском радио» Хойзеру сказали люди Фола; продолжение комбинации.)
– Знаете, что-то я очень устал… Может, отнесем разговор на завтра?
– Завтра материал должен появиться в нашей газете, господин Ростопчин. Я был бы вам так признателен. Я работаю всего пять месяцев. Ваше имя достаточно хорошо известно здесь… Интервью сразу же поставят в номер… Это будет моя первая большая работа… Вы не представляете себе, как это для меня важно.
«Этот изучает жизнь не по книгам, – подумал Ростопчин. – Такие умеют благодарить и помнить».
– Приходите, – сказал он. – Адрес, конечно, знаете?
(Фридрих Хойзер из «Курира» не был агентом секретной службы. После телеграммы Фола в Нью-Йорк о необходимости ускорения работы по Ростопчину были просчитаны возможности корпорации АСВ в газетах и журналах Цюриха; среди привлеченных исследователи обратили внимание на Луиджи Роселли: владелец рекламного бюро, самые широкие связи с миром прессы; понятно, в существо комбинации посвящать нельзя, но человек он сметливый, поймет, что надо, если объяснить общий абрис; главное, чтобы в здешней прессе появился материал; назавтра, экспрессом, он будет отправлен в Эдинбург, Софи-Клер; семейные сцены очень способствуют провалу любого начинания, а того, которому прилежен Ростопчин, – особенно.
Среди всех известных ему журналистов Луиджи Роселли остановился на Фридрихе Хойзере потому лишь, что тот был молод, искренен, напорист, объективен, доверчив и не обидчив, – позволял править свои материалы, лишь бы напечататься; жил одиноко, помогал матери, больной старой женщине, имевшей маленький домик под Асконой, на самой границе с Италией; вел дневник, в котором препарировал себя; это и решило дело.)
– Как я признателен вам, господин Ростопчин! У меня есть час времени, чтобы перепечатать наш разговор, я успеваю в утренний выпуск.
Парень был одет в старенькие джинсы, потрепанную выцветшую куртку, кеды совсем стоптаны; «лейка», правда, хорошая, старая, самая надежная, в Токио на рынке стоит сумасшедшие деньги, за одну такую, тридцатых годов, можно купить три новые камеры.
– Голодны? – спросил Ростопчин.
– Что? – Хойзер не сразу его понял. – Я?
– Вы, – улыбнулся Ростопчин. – Могу угостить паштетом и хорошим сыром.
– Большое спасибо, не откажусь. Утром пил кофе, а потом мотался по городу.
– Волка ноги кормят, – заметил Ростопчин.
– Что? – снова не понял Хойзер.
– Это русская пословица.
– Да, но ведь волка кормят зубы.
– Это – заключительная часть операции, – вздохнул Ростопчин. – Сначала надо унюхать, потом догнать, а уж загрызть – дело плевое: раз-два – и нету зайца…
Он достал из холодильника, вмонтированного в стеллажи, еду, поставил ее на маленький столик возле камина (он и в кабинете сложил камин, боялся холода, с времен войны страдал хроническим бронхитом, лучше всего чувствовал себя, когда начиналась сухая жара, часто вспоминал стихи Пастернака: «своей зимы последней отсроченный приход»), налил себе еще одну рюмку водки, открыл бутылку пива, предложил парню:
– Угощайтесь. И запивайте «Пльзеньским». У вас диктофон?
– Не-а, я пишу сам, – ответил Хойзер. – Я ем очень быстро, прямо, знаете, неловко, как экскаватор.
– Кто быстро ест, тот быстро работает, в этом нет ничего дурного. Я тоже быстро ем.
Ростопчин с удовольствием и каким-то внезапно обретенным спокойствием наблюдал за тем, как парень уминал паштет, намазывал крекер тоненьким, аккуратным слоем, умудрялся есть так, что ни единой крошки не падало на стол, а уж тем более на пол («все-таки эта ловкость у них врожденная, генетический код, века за этим стоят»), как ловко он расправлялся с сыром, делая маленькие глотки пива. Все в нем сейчас было подчинено одному лишь – подзакрепиться и – айда за работу.
– Спасибо, – сказал Хойзер, – я сказочно поужинал. Это было так любезно с вашей стороны.
– Еще пива?
– Нет-нет, спасибо. Я пьянею от пива, как ни странно. – Он достал из кармана блокнот и ручку. – Мой первый вопрос: почему вы, русский аристократ, князь, изгнанник, возвращаете в Москву культурные ценности?
– Я не изгнанник. Мои родители добровольно уехали из России. Их никто к этому не принуждал. Я не считаю себя изгнанником. Вы кто по образованию?
– Юрист.
– Русскую историю не изучали?
– В общих чертах.
– Значит, не изучали. Мы все виноваты перед Россией, господин Хойзер. Особенно мы, русская аристократия двадцатого века. Но это вопрос сложный, в час не уложимся, да и в день навряд ли…
– Я хотел бы понять, что движет вами, когда вы отправляете в Москву произведения искусства с Запада?
– Я возвращаю России то, что ей принадлежит по праву. Если хотите, я таким образом благодарю Родину за то, что именно она спасла Европу от гитлеризма. И потом, я высоко ценю тот огромный вклад в мировую культуру, который ею сделан.
– В прошлом?
– Сейчас – тоже. Вы не бывали в Советском Союзе?
– Нет.
– Тогда нам трудно говорить об этом. Я слишком хорошо помню Россию старую и достаточно много видел Россию новую, со всеми ее трагедиями и печалями…
– Считаете ее страной обетованной?
– Я читаю их газеты… Они пишут о своих недостатках… Сейчас – особенно… А мы облыжно ругаем Россию за то, что она Советская. Это – плохо, нельзя закрывать глаза на то хорошее, чего они достигли.
– Мясо они покупают на Западе.
– Верно. Потому что раньше мясо в России ели тысячи, – стоит почитать русскую статистику десятого и двенадцатого года, – а сейчас требуют все. За семьдесят лет истории Советской России более десяти лет падает на войны и лет двадцать на восстановление городов из пепла. Нет, знаете ли, – раздражаясь чему-то, прервал себя Ростопчин, – поскольку вы неспециалист в этом вопросе, нам будет трудно договориться, давайте-ка к культуре, тут, как показывает жизнь, особыми знаниями можно не обладать, все о ней судить горазды.
– Вы сердитесь?
– Не то чтобы сержусь… Просто несколько обидно, когда о стране, с которой поддерживают дипломатические отношения, говорят не иначе, как о «тирании», о культуре – «так называемая культура»; какое-то безудержное злобствование, отсутствие объективности…
– А права человека?
– Но отчего в таком случае ни одна из здешних газет не пишет про то, что происходит в Чили, например, или в Парагвае… Почему такой антирусский накал? Разумно ли? Ладно, – прервал он снова себя, – вернемся к вашему делу.
– Хорошо. – Хойзер посмотрел на Ростопчина задумчиво, видимо, наново анализируя, что тот сказал ему; князь говорил странно, неожиданно, с болью. – Скажите, пожалуйста, какие картины вы отправили в Москву?
– Придется поднимать документы. Я не помню. Много. Ваш русский коллега Степанов ведет реестр возвращенного. И еще господин доктор Золле из Бремена, Георг Штайн из Гамбурга. Мы отправили Поленова, Куинджи, Коровина, Репина, иконы новгородских церквей, уникальные книги времен первопечатника…
– Простите, – не понял Хойзер, – кого вы имеете в виду?
– Я имею в виду человека, начавшего книгопечатание.
– Гутенберга?
– Это здесь Гутенберг… В России – Иван Федоров…
– Ах так… Пожалуйста, скажите по буквам имена русских художников, я не успел записать…
– Давайте я запишу вам.
– О, большое спасибо. – Хойзер протянул Ростопчину блокнот. – Такая мука с этими именами…
– Вы ничего не слышали о Репине?
– Нет.
– Любопытно, а кого из русских писателей вы знаете?
– О, я очень люблю русскую литературу… Лев Толстой, Достоевский, Пастернак…
– А что вам больше всего нравится у Пастернака?
– «Доктор Живаго».
– А его стихи?
– Нет, стихов не знаю…
– Кстати, я вернул в Москву рисунок Пастернака-отца, он был лучшим иллюстратором Толстого…
– Что вы говорите?! Как интересно! А в какую сумму можно оценить все то, что вы передали в Москву?
– Я не подсчитывал.
– Какова судьба тех картин, которые вы вернули Москве?
– Они заняли свое место в экспозициях музеев. Там великолепные музеи.
– Мы о них ничего не знаем.
– К сожалению. Они печатают очень мало проспектов. Жаль. Русская живопись очень интересна.
– А почему они печатают мало проспектов?
Ростопчин развел руками:
– «Умом Россию не понять»… Это опять-таки русский поэт, Тютчев. Думаете, я все понимаю, хоть и русский? Увы, отнюдь.
– Скажите, а господин доктор Золле… Чем он руководствуется в своей работе? Он ведь немец…
– Я не интересовался этим, знаете ли… Помогает, ну и спасибо…
– Гамбург передал, что вы намерены принять участие в аукционе, который проводит Сотби. Это правда?
– Правда.
– Что вас более всего интересует в той коллекции?
– Врубель.
– Кто?
– Давайте блокнот, я напишу.
– Спасибо. – Хойзер посмотрел фамилию художника, осведомился: – Он немец?
– Самый что ни на есть русский.
– Странно. Совершенно немецкая фамилия. Отчего вас интересует именно Врубель?
– А вот это мой секрет, – вздохнул Ростопчин и легко глянул на часы: – Еще вопросы?
– Последний: кем вы себя чувствуете – гражданином Швейцарии или же русским?
– Я – русский, кем же мне еще быть? Но я горжусь тем, что являюсь гражданином прекрасной Швейцарии…
Луиджи Роселли приехал в «Курир», когда Хойзер заканчивал перепечатывать свой репортаж.
– Я покупаю у вас это интервью для моего агентства, – сказал он, – Это хороший материал, за него надо платить, называйте вашу цену…
– Это совершенно неожиданно, – растерялся Хойзер, – как вы узнали?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































