Текст книги "Аукцион"
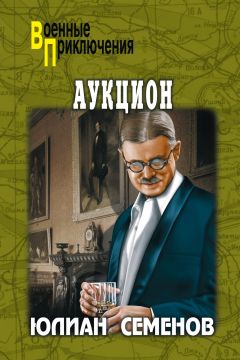
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
8
– Я два часа назад вернулся из Шотландии, – сказал Ростопчин. – Вот… И привез Врубеля… Можешь лететь домой… А еще я привез страшные письма о Верещагине. – Он кивнул на столик; рядом с серебряной вазой, где лежали фрукты, была папка. – Это тоже тебе. Видишь, как мы управились…
– Ничего не понимаю. – Степанов даже головой затряс. – Как ты смог?
– Я тебе рассказывал, какая у меня была кличка в маки?
– Рассказывал. Эйнштейн.
– Вот и все! Я вычислил, что против нас работают, и провел свою операцию. Нет, но ты посмотри, как поразительна эта картина! Вглядись в глаза мальчика! Я боюсь в них долго смотреть, Митя, начинается какая-то мистика.
– Ты вручишь эту картину завтра в театре, – сказал Степанов. – Это будет совершенно поразительно, Женя…
– Завтра утром я улетаю.
– Это невозможно. Ты должен, ты прямо-таки обязан вручить эту картину прилюдно. Да и потом я иначе не смогу ее вывезти, таможня арестует.
– Не арестует. Там все документы. – Князь снова кивнул на столик. – Я написал, что отныне это твоя собственность, документы в полном порядке.
– Нет, но это будет ужасно, если ты не вручишь эту картину сам! Это ведь твоя заслуга, это ты смог победить тех, кто мешал… Нет, нет, положительно невозможно, чтобы ты улетел. Или ты боишься Софи?
– Теперь я никого не боюсь, – усмехнулся Ростопчин. – Я как спортсмен: всегда боюсь до; то, что случается после финиша, меня уже не интересует.
– Ты обязан остаться. Пойми, это будет сенсация. Об этом узнают многие. Среди этих многих найдутся один или два, которые помогут нам вертеть наше дело и дальше.
Князь сел на кровати; глядя на то, как он тяжело поднимался, Степанов поразился перемене, что случилась с ним за сегодняшний день.
– Посмотри в глаза младенца, – тихо сказал Ростопчин. – Давай с тобою помолчим и посмотрим в его глаза…
(Через час пятнадцать Фол спустился вниз, сел в такси и поехал к Джильберту; небо на востоке становилось пепельным; три часа утра.
– Джильберт, не сердись, что я поднял тебя, – сказал Фол, когда, пустив воду в кранах, они сели на кухне. – Положение критическое. Мы с тобою недоучли опыт князя. Он обыграл нас.)
9
В фойе театра было еще пусто; Степанов и Годфри приехали первыми, посмотрели стенд с фотографиями музеев Москвы, Ленинграда, Киева и Тбилиси; послушали музыку, которая будет предварять начало шоу; «у меня нет хороших русских записей, поэтому я остановился на нейтральном; в конце концов Гендель есть Гендель, очень сдержан, все внутри, иная музыка накаляет страсти, а нам этого не надо».
Степанов кивнул, присел на краешек стула:
– Боб, у меня для вас есть сюрприз…
– На наше шоу придет рота русских солдат? – рассмеялся Годфри.
– Ну, это уж не сюрприз, а мероприятие, – в тон ему ответил Степанов. – Нет, к нам придет князь Ростопчин.
– Тот самый?
– Да.
– Прекрасно. Он согласен сказать несколько слов?
– Более того! Он подарит моей стране картину Врубеля!
– Это действительно сюрприз. Это стоит того, чтобы выпить по глотку виски.
– Может – после?
– Это само собой.
– Послушайте, Боб… Князь рассказывал мне про руководителя того человека, который уступил ему Врубеля… Его звали сэр Годфри… Он был шефом военно-морской разведки империи…
– В каком-то родстве мы состоим, Дим, но, к сожалению, в весьма отдаленном. Если бы он был моим папой, я бы жил где-нибудь на Канарских островах, а я существую в туманном Лондоне.
Годфри толкнул Степанова в бок: начали приходить гости; мужчины были лощеные, в темных костюмах; «Иностранцы, – шепнул Годфри, – наши одеты более скромно, скорее всего, французы или американцы с Западного побережья»; поднялись в зал; здесь собрались девушки из фирмы Годфри – француженка, немка, американка, китаянка и две англичанки, – одеты наподобие стюардесс, фигурки точеные, лица улыбчивые; в шоу должно быть красиво все, особенно женщины, которые помогают ведущему.
– Дим, – сказал Годфри, – народу очень много. Сегодня пятница, начало уик-энда, май. Это – беспрецедентно. Идут не на вас. Повторяю, в этой стране вас как писателя не знают. Идут на вашу страну. Поэтому – предлагаю в последний раз – давайте порепетируем начало, это в ваших же интересах.
– Нет, спасибо. Знаете, у меня есть приятели, которые по многу раз в течение многих лет рассказывают сюжет своей новой книги. Они ее никогда не напишут. Они проговорили ее, им неинтересно, они ее знают наизусть. Всегда надо, чтобы было интересно. Вам, мне, залу.
– Смотрите, – повторил Годфри. – Я отработаю мои деньги честно, но я не намерен терять лицо, Дим. Я готов к диалогу с вами, но не к тому, чтобы пропагандировать ваши идеи. Я живу здесь, и мне очень нравится жить здесь, понимаете?
– Прекрасно понимаю.
– О’кей, я сделал все, что мог. Пеняйте на себя.
– Ладно. Стану. Надо извиниться перед аудиторией за мой варварский английский?
– Не кокетничайте.
Степанов улыбнулся:
– Кто встретит князя?
– Не знаю. Мои девочки никогда его не видели…
– Надо посадить его на сцену…
– Этого делать нельзя. Вы и я. Третий – всегда лишний, нерациональное отвлечение. Мы зарезервируем ему место в первом ряду, очень престижно. А когда он будет дарить картину, мы пригласим его на сцену. Мэри, – Годфри обратился к худенькой американочке, – пожалуйста, посмотрите, сколько пришло народу?
– Я уже смотрела, – ответила француженка. – Будет полный зал, публика весьма престижна.
– Поди раскачай ее, – заметил Годфри. – В этом смысле студенты значительно лучше… Кстати, Дим, снимите галстук, пожалуйста. Вы его совершенно не умеете повязывать, да и вообще это не ваш стиль.
– Знал бы – прихватил форму вьетнамских партизан, храню как реликвию.
– Очень, кстати, жаль, что не прихватили. Одежда – важнейший элемент шоу; выверенный вызов, дозированный эпатаж – все это на пользу дела. А теперь давайте расслабимся и посидим пару минут в полнейшем молчании.
(Фол тщательно затушил окурок в пепельнице, не мог больше выносить запаха табака – перекурил, хотя знал, что через пять минут полезет за новой сигаретой; посмотрел на часы; набрал номер телефона; ответил Жавис из отдела утренних новостей «Пост», – Фол передал ему всю документацию на Ростопчина – история с сыном, трата денег на приобретения для русских музеев, заявление Софи-Клер о начале процесса по разделу имущества и установлению опеки над князем, впавшим в маразм, особенно в связи с фактом публичного дара Врубеля красным.
– Материал стоит в полосе, мистер Вакс, – ответил Жавис. – Пока стоит твердо.
– У меня на проводе Йоркшир, мистер Жавис. Они просят разрешения опубликовать эту же информацию, вы не против?
– Против. Сенсация только тогда сенсация, когда она появляется в одной газете. Когда в двух одновременно – это уже кампания, этому не поверят.
– Но я могу быть гарантирован, что мой материал появится в вашей «Пост»?
– Мистер Вакс, мы живем в такое время, когда пора гарантий кончилась. Но я ставлю девяносто против десяти, что появится. Если, впрочем, телетайп принесет сообщение о том, что лидер новых наци сделал себе обрезание, то я своей рукой сниму ваш материал, очень сожалею, и поставлю в номер суперсенсацию.
– Он не сделает обрезания, обещаю, – усмехнулся Фол и положил трубку.
Закурил, испытывая к себе ненависть; слабохарактерная тряпка; тоже мне, борец; не можешь перетерпеть; во рту словно бы кошки написали, а ты снова начинаешь смолить.
«А что, если Ростопчин не придет в театр? – вдруг с отчетливым ужасом подумал Фол. – Через несколько минут выйдут вечерние газеты с залпом против него и Степанова. Газеты доставят в театр; очень хорошо; а что, если старый дурак купит газету в каком-нибудь киоске? По пути к такси? Почему нет? И решит не идти на Пикадилли. В конце концов есть же у него хоть какая-то защитная реакция?! Или те, кому за шестьдесят, перестают обращать внимание на все то, что не укладывается в схему их мышления? Он не придет, и тогда репортаж о том, что он дарил русским в театре этого самого Врубеля, окажется липой! Вся комбинация насмарку! Только бы сейчас не сорваться, – сказал себе Фол. – Успокойся, ведь так бывает всегда, самые последние минуты чудовищно напряженные. Ничего страшного, только не сорвись и не напейся, это будет ужасно. Сейчас нужна холодная голова, каждое слово обязано быть выверенным, каждый поступок – просчитанным до последней мелочи. Ты должен победить, ты докажешь, что прав был ты, что именно твоя концепция нужна Штатам, ты сделаешь все, что задумал, но только не сорвись, это будет страшно обидно, Джос, пожалуйста, сдержись, перебори себя, это минутное дело, ладно?»
Он достал из своего «дипломата» листок бумаги с письмом редактору «Нью-Йорк тайме» от Саймона Брэнкса, Лондон, Челси, Клинктон-стрит, двадцать три, вполне пристойная кандидатура; все-таки Джильберт молодец, хоть и лентяй; имеет хорошие контакты в городе, не зря просидел здесь столько лет.
Письмо он обдумал загодя, еще в Штатах, перед вылетом в Европу, каждая фраза была отлита, вынашивал не год и не два, а целых пять лет, сразу после того, как ушел из Лэнгли; Бог послал Гадилина; впрочем, кого он еще мог ему послать кроме этого прыщавого неврастеника; серьезные люди оседают в университетах; только неудачники питаются «Свободой», никому не хочется плесневеть, особенно здесь, где так много соблазнов.
Он достал ручку, пробежал текст еще раз; нет, править нечего, если только Гадилин не выдаст что-нибудь, выходящее за рамки; Фол просчитал его точно, сбоя не должно быть.
«Сэр! Я изучал русский в течение трех лет, читаю советскую литературу и поэтому интересуюсь передачами радиостанции “Свобода”, которая откликается не только на политические и экономические проблемы России, но и рецензирует мало-мальски заметные произведения писателей, живущих за “железным занавесом”. Демократизм западного общества предполагает критику всего, что представляется нам неверным, угрожающим, порочным. Однако наши традиции таковы, что самая серьезная критика обязана быть доказательной и корректной. Но разве можно назвать корректными и доказательными выступления эксперта по русской литературе мистера Гадилина, который эмигрировал на Запад и с тех пор подвизается на “Свободе”? Приведу лишь малую часть эпитетов, которые он употребляет по отношению к своим бывшим коллегам: “пес”, “лизоблюд”, “графоман”, “раб”, “взломщик”, “продажный наймит”, “уголовник”.
Ощущение нечистоплотности вызывает и показная осведомленность литературного эксперта о подробностях личной жизни тех, с кем ему приходилось сталкиваться в Москве; все это отдает недостойной нашего общества малостью, похоже на полицейское осведомительство…
Я не хочу обидеть м-ра Гадилина, но, право, такого рода стиль нельзя не сравнить с лаем маленьких собачек на большого пса, который этого лая и не слышит. Если радиостанция “Свобода” есть трибуна для сведения личных счетов м-ра Гадилина с теми, кто чего-то достиг в России, то это его дело. Но тогда следовало бы сообщить слушателям, что в Мюнхене работает первая в мире радиостанция, которая стала ареной частных препирательств. Возникает вопрос: какое отношение к этим дрязгам имеют высокоуважаемые люди из администрации Белого дома, входящие в руководящий совет “Свободы”? Кто кем руководит: м-р Гадилин нами или все-таки мы как-то можем влиять на честолюбивые амбиции литературных экспертов, лишенных демократического опыта критики, а потому навязывающих нам ту манеру и тот стиль, который был им привит за “железным занавесом” с детства? Порою у меня вообще складывается мнение, что м-р Гадилин работает по заданию Москвы, чтобы пропагандистам Кремля было легче говорить своему народу про тот дух недоброжелательства, который свойствен “мировому империализму” по отношению ко всему тому, что происходит в России.
С уважением…»
Подпись. Адрес. Никакого подлога, все чисто. Пусть Лэйнз, отвечающий за «Свободу», покрутится, крыть ему нечем, пусть, дураков тоже надо учить. В конце концов у каждого дурака есть хоть один умный босс; почешутся; вспомнят мои слова; ошибку исправить никогда не поздно.
«Стоп, – сказал себе Фол. – Очень плохо, если они вспомнят мои слова. Тогда штука не сыграет. Спаси Бог, если они вспомнят мои слова. Они не должны даже и думать обо мне, письмо обязано быть шоком, ударом в подлых, тогда только это сработает, только тогда они придут ко мне. Они придут. Но я буду в новом качестве, когда вернусь домой. Я вырвусь вперед. Не я вернусь к ним, но они не смогут без меня и без того дела, которому я служу ныне».
Однако коронный материал еще не был подготовлен. Этим надо будет заняться дома: две-три публикации про то, как фирма АСВ (страхование культурных ценностей, библиотек и архивов) получила информацию, что в мире ходят произведения русской, польской, венгерской, чешской, французской и итальянской культуры, похищенные нацистами из государственных музеев. АСВ не может страховать краденое; нацизм был сломлен мужеством честных американских, русских и английских парней, освободивших Европу от коричневого ужаса; однако компетентные работники АСВ, привлеченные к расследованию информации, выяснили, что факты не соответствуют действительности; все награбленное нацистами давным-давно возвращено законным владельцам; речь шла об очередном шантаже Москвы, который преследовал как идеологические, чисто пропагандистские цели (постоянное муссирование слухов о том, что многие нацисты якобы сотрудничали с соответствующими службами США), так и более тревожные, связанные с попыткой подорвать доверие общественности к самому институту страхования.
Это Америка прочтет; это перепечатают в Европе; это будет победа. Только бы этот чертов князь не купил газету, а доехал до театра, только б он сел в первый ряд, на отведенное ему место и вручил этого психопата Врубеля своему соплеменнику!)
Свет в зале медленно убрали; лишь два прожектора высвечивали Годфри и Степанова, тем не менее Степанов видел Распопова и Савватеева во втором ряду, видел пустое – словно выбитый зуб – место Ростопчина в первом; заметил Игоря из торгпредства, тоже востоковед, вчера так и не смог приехать к друзьям; политики ссорятся, а торговцы должны продолжать свое дело; не будет оборота капитала – мир станет.
– Леди и джентльмены, – начал Годфри, – сначала я хочу приветствовать вас в этом зале. Разрешите представить нашего русского гостя, мистера Степанова. Мы с ним стоим по разные стороны баррикады, однако ныне баррикада разделяет не улицу, а мир, поэтому всякая попытка поговорить друг с другом, отложив в сторону оружие, угодна Богу, который создал людей для жизни, но не для смерти. Диалог через баррикады угоден прогрессу, на этом я стою и с этого начинаю нашу встречу.
В трех местах зала хлопнули; «подсаженные», подумал Степанов, зря он это затеял, что-то в этом есть жалкое; царила напряженность, она ощущалась гнетуще и постоянно.
– Дим. – Годфри обернулся к Степанову. – Я хочу, чтобы вы сами рассказали о себе собравшимся.
– Лучше бы с вашей помощью.
– Прекрасно. Где вы учили ваш английский?
– В Институте востоковедения.
– А каким был ваш основной язык?
– Афганский. Пушту.
В зале прошел шепот.
– Сколько вам лет?
– Я старый. Пятьдесят три.
– Вы считаете этот возраст старостью?
– Я – да. Мои подруги, однако, называют этот возраст «порою мужского расцвета».
– Вы не согласны с ними?
– Важно, чтоб они говорили правду.
– Вы женаты?
– Я живу сепаратно.
– Это разрешено в России?
– А в Англии разрешено по утрам умываться?
Годфри рассмеялся:
– О’кэй, о’кэй, я не хотел обидеть вашу страну моим вопросом, у нас смутные представления о том, что у вас разрешено, а что – нет. У вас есть дети?
– Двое.
– Вы дружите?
– Я считаю, что дружим, но более точно ответили бы они; отцы чаще заблуждаются.
Годфри резко повернулся к залу:
– Леди и джентльмены, сейчас мои милые помощницы раздадут вам листки для вопросов. Пожалуйста, напишите свое имя, адрес, профессию. Затем мои помощницы соберут ваши вопросы, я буду их зачитывать. – Он снова повернулся к Степанову. – Дим, вы – писатель. Какова тематика ваших книг?
– Разная.
– Вы пишете документальную прозу или прилежны вымыслу, беллетристике?
– И так и эдак.
– Пишете о политике?
– О ней тоже. Мир крайне политизирован, люди, слава Богу, стали интересоваться политикой, мне это нравится, хоть какая-то гарантия от возможного безумства.
– «Слава Богу»? – переспросил Годфри. – Пожалуйста, не обижайтесь на вопрос, но разве в России возможно публичное употребление двух этих слов? Я имею в виду «слава Богу»?
– Если бы ваши издатели печатали больше нашей литературы, вы бы не задали этого вопроса. Это аналогично тому, если бы я спросил вас, разрешено ли в английском языке употребление слов «революция» и «товарищ».
– О том, кто кого больше публикует, видимо, мы станем говорить позже, когда придут вопросы из зала. Пока что я – узурпатор вечера, так что вам придется давать более сжатые, однозначные ответы. Я прочитал в американской Литературной энциклопедии, что вы писали книги о политиках, шпионах и сыщиках. Это правда?
– Абсолютная.
– Вы это делали по заданию?
– Писатель подобен собаке: и тот, и другой не любят ошейников.
– Вас направили сюда рассказать в нашем сегодняшнем шоу о культурных программах в Советском Союзе. Как совместить эти темы в творчестве: политика, шпионаж, культура?
– У вас опубликованы документы про то, как Аллен Даллес поставил перед нацистским шпионом Вольфом главное условие для начала сепаратных переговоров в Швейцарии: возвращение картин из музеев Италии. Темы, как видите, увязаны: политика, шпионаж, культура.
– Не кажется ли вам, что увлечение военной темой в литературе ведет к милитаризации общества?
– Литература, которая прославляет войну, не может считаться литературой. Подобного рода продукция действительно подталкивает общество к милитаризации. Однако наша литература о войне воспитывает ненависть к ней, ибо показывает ее ужас… Тот, который, к счастью, вам неизвестен.
– Не скажите. Мы пережили ужас нацистских бомбардировок.
– Но не переживали оккупации, массовых расстрелов и душегубок.
– Простите, – Годфри подался к Степанову, – не понял.
– Душегубки – это машины, в которых людей убивали отработанным газом. Испытания проводил эсэсовец Рауф, ставший помощником Пиночета через два часа после фашистского путча в Сантьяго.
– Вы хорошо помните войну?
– Не так, как солдаты, но, в общем-то, помню.
– Когда вы впервые заинтересовались проблемой войны и культуры?
– В сорок втором.
– Почему именно тогда?
– Потому что в сорок втором году мы выбросили гитлеровцев из Ясной Поляны… Это музей Льва Толстого… Под Тулой. В кабинете Толстого нацисты держали лошадей.
– Вы не допускаете мысли, что здесь больше пропаганды, чем факта?
– Не допускаю.
– Потому что вы безусловно верите советским средствам массовой информации?
– Потому что я был в Ясной Поляне в сорок пятом. Осенью. И еще потому, что мальчишкой, летом сорок пятого, видел Дрезден, руины разрушенной галереи.
– Как вы попали в Германию в сорок пятом?
– С солдатами.
– Вы воевали?
– Нет. Хотел. Но опоздал. Я убежал на фронт, искал отца.
– Ваш отец жив?
– Нет.
– Погиб на фронте?
– Нет. Он умер после войны.
– В каком он был звании?
– Полковник Красной армии.
– А мама?
– Она учитель истории. Жива, здорова, старенькая.
– Дим, простите мой вопрос, он может показаться вам странным, но я все же хочу его задать. Кого вы больше любите: отца или мать?
Чертово шоу, подумал Степанов, хоть бы курить позволили, тоже мне, демократия. У нас запретов много, но и у них хватает; дорого б я сейчас отдал за одну затяжку; ну как мне ответить ему?! Правильно он предлагал порепетировать, зря отказался; нельзя ответить, что, мол, люблю обоих одинаково, так дети отвечают: «И папу, и маму». Как мне объяснить им мою вину перед отцом, перед его последней любовью? Не его грех, а их с мамой беда, что они такие разные. Сначала влюбляются, про разность характеров начинают думать потом, когда праздник кончился и начались будни; всегда и во всем превалирует примат чувства; логика похожа на стервятника, она приходит как возмездие, реакция на содеянное… А я не смог простить ему его последнюю любовь, не смог понять, какая она высокая и честная; два старых человека нашли друг друга; старых? – спросил он себя. Ему тогда было пятьдесят три, столько, сколько тебе сейчас. Отец позволил подумать о себе самом только после того, как я окончил институт, женился и отошел от него; до этого он – даже когда жил в холодной комнатушке с дровяным отоплением у бабы Маши – всегда поначалу думал обо мне, а уж потом о себе… Сыновняя ревность? Нет. Скорее эгоизм. Хотя ревность и эгоизм – две стороны одной медали. Но ты ведь не можешь забыть ту обиду, которую пережил во время отцовского шестидесятилетия, когда не ты был подле него, а его любимая, а ведь вас с ним связывало – в трудные годы – такое горе, которое сейчас невозможно и представить себе; ты был честен по отношению к старику, бился за него из последних сил, не задумываясь над тем, что тебя ждет за это, а он сидел с любимой женщиной на своем юбилее и не позвал тебя быть рядом… Ну и что? Ты же сам говоришь, что это великое счастье – уметь забывать горе, жить сегодняшней радостью и завтрашней надеждой. Все возвращается на круги своя, воистину так. Разве Бэмби и Лыс не повторили тебя, двадцатипятилетнего? Повторили, еще как повторили. Но ведь они, как и ты, проецировали свою маму на другую женщину, которая оказалась рядом с тобой. Какой бы ни была другая женщина, как бы тебя ни любила, своя мама всегда кажется самой красивой, честной и умной, даже если и повинна в том, что жизнь в семье не сложилась, таково уж человеческое естество. Нет, возразил он себе, дело тут не в человеческом естестве, а в тех отношениях, которые сложились между отцом и детьми. Я дружил с отцом, как же я гордился дружбой с ним! Он сам стер грань в наших отношениях, грань, которую вообще-то нельзя преступать; чревато. И я был таким же с Бэмби и Лысом, я был их собственностью, я принадлежал только им, и никому больше, так должно быть всегда, до самого конца. Должно ли?
– Знаете, Боб, вы мне задали тот вопрос, на который я побоюсь ответить.
– Почему?
– А кого вы больше любите?
Годфри откинулся на спинку низкого кресла:
– Здесь вопросы задаю я.
– Настаивать на ответе не демократично?
– Можно, но это не принято. Хотя вы ответили, необязательно же ставить жирную точку… Вопросительный знак или многоточие – тоже ответ, только более широко толкуемый. Но я все же, видимо, больше люблю маму. Сыновья больше любят матерей, дочки – отцов, так мне кажется…
Одна из девушек передала Годфри красивый деревянный ящичек с вопросами.
– О, – сказал он, пересчитав девятнадцать листков, – уже немало.
Годфри стремительно просмотрел корреспонденцию, успевая при этом говорить про то, что вопросы могут быть любыми, дискуссия приветствуется, ответы мистера Степанова вправе быть спорными, но они обязаны быть искренними; зачитал первый:
– Миссис Эзли интересуется, какие культурные центры России наиболее интересны сегодня. Пожалуйста, Дим.
Степанов спросил:
– Как отвечать? Однозначно? Или настало время термидора и я делаюсь узурпатором сцены?
И по реакции зала он почувствовал, что напряжение перестало быть таким тяжело-гнетущим, как вначале.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































