Текст книги "Аукцион"
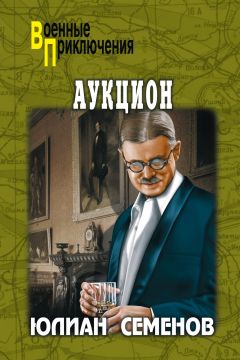
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
10
Ростопчин потерял листок с названием и адресом театра, где происходило шоу; все-таки русскость в нас неистребима, подумал он; ну, отчего я не записал в телефонную книжку? От врожденной нищеты, видимо; экономим на спичках, а уж на месте в записной книжке тем более. Попросил шофера остановиться около первого же бара, разменял за стойкой фунт, спустился вниз, к туалетам, обычно там был телефон: старуха с всклокоченными пегими волосами сидела на стуле, отделявшем «леди» от «джентльменов», и читала газету.
Ростопчин быстро просмотрел две справочные книги, что лежали возле аппарата, черт-те сколько театров: старость – это когда начинает сдавать память; Степанов два раза повторял; где же эта чертова бумажка, куда я ее сунул?
Он достал записную книжку, бумажник, просмотрел еще раз, адреса с названием не было. Вдруг его объял ужас: картина осталась в такси, шофер может уехать, они все жулики! Он бросился наверх; таксист сидел расслабившись, кепку опустил на глаза, наверное, работал ночью.
– Послушайте, – сказал Ростопчин, – там у меня стекло, – он кивнул на картину, действительно упакованную как доска. – Важно, чтобы она не упала, разобьется.
Какую-то чушь несу, подумал Ростопчин; совершенно не умею врать; хотя, наверное, это хорошо, ложь – оружие слабых, вероятно, поэтому так великолепно врут женщины; врут и скрывают, насколько же они скрытнее нас! До того часа, пока Софи не исчезла из Цюриха, я не догадывался, что она уже полгода спала со своим американцем, только чаще, чем обычно, устраивала сцены ревности, особенно если я задерживался по делам в бюро.
Он взглянул на номер машины; только б не забыть, если все-таки чертов таксист уедет; или взять картину с собою? Нет, смешно; ну и Бог с ним, зато нет риска; тоже наша родная русскость – страх показаться смешным.
Ростопчин вернулся в бар, снова спустился к телефону, набрал номер справочной службы:
– Добрый вечер, где сегодня идет шоу русского писателя Степанова? Нет, я не знаю названия театра. Где-то в центре.
Не поднимая головы, старуха с всклокоченными волосами сказала писклявым голосом:
– Шоу идет на Пикадилли.
Ростопчин испытал ужас; медленно обернулся, стараясь увидеть кого-то другого, незнакомого и страшного:
– Что вы сказали?
Старуха протянула ему газету:
– Тут написано про какого-то Степанова. Может быть, это именно тот, который вас интересует?
Ростопчин взял газету; вечерний выпуск; на второй полосе напечатаны кадры кинопленки: Степанов с Че; в военной форме у партизан Вьетнама; в Никарагуа с расчетом зенитного пулемета; с палестинцами; в Чили; последнее фото в Сотби, вместе с ним, Ростопчиным, рядом сидит улыбающаяся Софи. И заголовок: «А сейчас – новое задание КГБ – внедрение в высший свет Лондона! Кто вы, доктор Степанов?» Жирным курсивом был набран адрес театра, «Сегодня вечером Степанов дает политическое шоу, текст которого утвержден бюро кремлевской пропаганды».
Ростопчин протянул старухе монету:
– Я возьму эту газету?
Старуха, посмотрев монету, заметила:
– Мало дали, номер стоит в три раза больше.
11
Гадилин сидел с Пат в такси, напротив входа в театр; когда подкатила желтая малолитражка, на дверцах которой было написано название газеты, телефон и адрес, водитель, не выключая мотора (стоянка запрещена), бросился к театру, зажав под мышкой пачку газет; Гадилин сказал:
– Ну фто ф, пора и нам, а?
– Идем…
– Через пару минут.
– Волнуетесь?
– Я?! – Гадилин рассмеялся. – С чего вы взяли? Я по призванию драфун. Помните лозунг товарищей эсеров? В борьбе обретеф ты право свое…
12
Ростопчин сел за столик возле окна, так, чтобы было видно такси, заказал себе тройную порцию водки, спросил «Столичную», из России; медленно, чувствуя, как молотит сердце, прочитал заметку «Кто вы, доктор Степанов?». Так называли Зорге, вспомнил он. Был даже фильм о нем.
«О чем я? – удивился Ростопчин. – Просто, наверное, ошарашен, вот в чем дело. Погоди, Эйнштейн, давай разбираться без гнева и пристрастия. Что, собственно, случилось? Разве я не знал, что Степанов был и у партизан, и в Чили? Он всегда восторженно говорил о Че. Ведь во всем этом для меня нет ничего нового. Для тебя – да, – ответил он себе, – но для здешней публики все это внове, и поэтому поверят. Погоди, а чему, собственно, они должны поверить? Как – чему? Тому, что Степанова внедряют в здешний высший свет. Тому, что он выполняет задания своего КГБ. Стоп. Минута. С чего началось наше знакомство? Ведь не он меня нашел. Его нашел я, когда прочитал о том, что он делает для возвращения наших картин и книг. И пригласил его к себе, разве нет? Да, это было так. Черт, как же называлось это румынское лекарство у сэра Мозеса? “Геро” или “анте”, что-то в этом роде. Надо бы лечь в хороший санаторий на пару месяцев и привести в порядок сердце. Не приведешь, возразил он себе, потому что тебе шестьдесят пять, жизнь прожита; это отрадно, что ты хорохоришься, значит, остались еще какие-то резервы, но себе самому надо говорить правду; все кончено, отпущена самая малость, как ни горько; остаток дней здесь, на земле, надо провести достойно, не впасть в маразм, не мотаться по предсказателям, стараться вести себя так, как вел раньше. Нет, так нельзя. Федор Федорович рассказывал об актере Снайдерсе: тот умер потому, что продолжал считать себя молодым, даже после того, как отпраздновал шестидесятипятилетие… Ну и что? Правильно делал! Нет ничего страшнее, чем забиться в конуру и ждать. Ожидание любви возвышает, ожидание успеха в деле учит мужеству, ожидание смерти – противоестественно… Почему? Вовсе нет. Ведь не смерти ждут старики, когда затаиваются, а чуда. Вдруг в какой-то лаборатории изобретут искусственный белок? Или какой-то особый сердечный стимулятор? Или эрзац-почки? Живи еще пятьдесят пять лет… Не хочу… Нет, неверно, – оборвал себя Ростопчин, – ты хочешь этого. Ты закроешь глаза на то, что станешь высохшей мумией и не сможешь любить, путешествовать и пить. Ты сможешь только существовать… Ну и что? Это ж так прекрасно, существовать… Я су-щест-вую! Погоди, но ведь Степанов действительно ни разу не просил меня ни о чем, не призывал стать красным, не боится критиковать то, что происходит дома, только он не злобствовал, когда говорил о беспорядке, лени, малой компетентности, он всегда искал какие-то решения, предлагал альтернативы… Да, он исходит из прочности их строя. А разве я считаю, что Советы разваливаются? Нет, не считаю. Это здесь так считают, но ведь они не знают и не понимают Россию. Слишком сложна у русских государственная идея, слишком трудно ее понять без глубокого знания предмета, слишком особа и трагична история; единственное в мире евразийское государство, отчего об этом никто не думает здесь?»
Он выпил водку медленными, сладостными глотками; неторопливо закурил; ты сейчас встанешь, поедешь в театр, вручишь картину Степанову и скажешь то, что надо сказать; нельзя отказываться от того, с чем прошла половина жизни, только потому, что кто-то хочет этого. Нет, ведь верно, кому-то очень не хочется, чтобы мы делали с ним то дело, которое началось пять лет назад; и эта слежка, когда мы ехали из «Клариджа», и Софи, и этот торг, да и Мозес этот самый… Что – Мозес? Он спас России Врубеля, нельзя быть неблагодарным. И нельзя поддаваться подозрениям, это мерзостно. Но кому же мы мешаем? Кому мешает он, Степанов?
13
– Прежде всего, – продолжал между тем Степанов, – я бы порекомендовал иностранцу, приехавшему в Советский Союз, точно определить, чего он хочет. Если он намерен получить изысканный сервис, ему следует бежать домой сломя голову; наш сервис не навязчив; более того, он весьма сдержан.
В зале засмеялись.
– Но если вы хотите узнать что-то о нашей культуре, да и не только о нашей, то я бы очень рекомендовал вам начать путешествие не с Третьяковской галереи, которая общеизвестна, но с Театрального музея Бахрушина и с Библиотеки иностранной литературы. Там вы сможете понять многое из того, о чем у вас совершенно не знают. И то, и другое – уникально. Советовал бы также посмотреть экспозиции Исторического музея и музея Востока, это поможет понять концепцию России. Следующий вопрос о театрах… Большой знают все, но и помимо Большого в Москве есть что посмотреть. Правда, языковый барьер будет затруднять понимание спектаклей, но это уже не наша вина, а ваша беда… У нас в Москве столько средних специальных школ, где дети изучают вашу речь со второго класса, сколько в Англии и Америке – институтов… Так что, кто кого хочет лучше знать – очевидно. Вы сдержанны в этом желании, мы – наоборот.
Годфри чуть приподнялся в кресле, услышав какой-то шум наверху, там, где был вход, освещенный темно-красными фонариками; одна из помощниц, поняв его взгляд, быстро пошла наверх; туда же, заметил Степанов, продолжая отвечать на вопросы, подошли другие девушки, вся рать Годфри; потом одна из них быстро спустилась, Годфри подошел к краю сцены, склонился к ней, девушка ему что-то шепнула, он чуть склонил голову, вернулся на место и, повернувшись к Степанову, оперся подбородком на кулак, всем своим видом показывая, как ему интересно выступление русского.
Когда Степанов начал зачитывать очередной вопрос, Годфри подался к нему еще ближе:
– Дим, прошу простить… Дело в том, что привезли вечерний выпуск газеты… Я не знаю, кто привез и зачем, но там хроника, посвященная вашему пребыванию в Лондоне, просят раздать по рядам. Я думаю, мы все же не станем прерывать собеседования. Видимо, желающие поговорят с вами в холле, после выступления.
– Я впервые принимаю участие в шоу, – ответил Степанов. – Все-таки узурпатор сцены вы, а не я, так что поступайте, как у вас принято.
– Пусть раздадут газеты! – выкрикнул по-русски Гадилин. Годфри удивленно посмотрел на Степанова; тот перевел; голос человека показался ему знакомым.
– Пожалуйста, если вы хотите высказаться, – сказал Годфри в темноту, чеканя каждую букву, – напишите свое пожелание или вопрос на листках, которые вам предложат мои помощницы. Видимо, джентльмен опоздал, – обратился он к Степанову, – и не слышал мое объяснение по поводу того, как будет проходить шоу.
– Пусть раздадут, – негромко заметил Степанов. – Это, наверное, неспроста, пусть себе.
– Мне сдается, вы не правы.
– Тогда не надо.
Девочки Годфри действовали виртуозно – улыбка налево, улыбка направо; некоторое замешательство, поворачивания, шепот были погашены; длинноногая американочка в коротенькой юбочке принесла на сцену ящик, набитый листками с вопросами.
– Вас хорошо эксплуатируют, Дим, – сказал Годфри, стремительно пробегая поступившую корреспонденцию. – Мы, капиталисты, зря время не тратим, если пришли на вашу работу – работайте! – И, отложив три вопроса, он передал остальные Степанову.
– «Что знают в России о западной живописи?» – прочитал Степанов вопрос. – У нас есть коллекции, не очень-то уступающие здешним. В Эрмитаже, например, залы Матисса мне кажутся самыми большими в мире. У нас прекрасный Пикассо; кстати, «Любительница абсента» тоже в Эрмитаже. К сожалению, из харьковского музея нацистами были похищены Рафаэль, Рубенс, Рембрандт, Гольбейн, Сислей. Всего из Украины было вывезено триста тридцать тысяч произведений культуры.
В зале зашумели.
– Да-да, я не оговорился, триста тридцать тысяч, – повторил Степанов. – Примерно столько же было похищено в Белоруссии и музеях Российской Федерации. Словом, наши люди знают о западной живописи значительно больше, чем у вас знают нашу. Следующий вопрос: «Отчего так мало альбомов русской живописи выпускают в Москве?» Отвечаю: потому что мы дурни.
Засмеялись.
И в это время вошел Ростопчин; ох, подумал Степанов, слава Богу; я даже боялся думать про то, что он не придет; какой белый, совсем мучнистое лицо; наверное, брился в парикмахерской, от них всегда выходишь белый, они ж делают массаж и компресс, а потом кладут пудру.
Он шепнул Годфри:
– Пришел князь.
Тот чуть повел головой, француженка и японочка оказались рядом с Ростопчиным, провели его на оставленное для него место в первом ряду. В правой руке он держал картину, в левой – газету. Он передал француженке газету, шепнул ей что-то на ухо, та кивнула, поднялась на сцену, протянула Степанову вечерний выпуск; он сразу же увидел заголовок, фотографии, повернулся к Годфри:
– Видимо, кто-то привез сюда именно этот выпуск. Не мешайте людям делать их дело, пусть раздадут, я отвечу.
– Правду? Пропаганда не пройдет. Я ударю вас первым.
Степанов усмехнулся.
– Но ведь бывает же иногда правдивая пропаганда, нет?
(Фол снял трубку телефона, не дав даже отзвенеть первому звонку:
– Ну? Началось?
Ответил женский голос:
– Простите, сэр, вам пришел пакет из Гамбурга. Послать вам сейчас или вы заберете, когда будете ужинать?
– Пошлите, пожалуйста.
– Да, сэр.
Фол посмотрел на часы; прошло сорок три минуты; пора бы. Закурил, жадно затянулся, подумав, что сигарета все-таки лучше виски; завтра пойду в сауну, выпарю всю никотиновую гадость и закажу массаж, на час, не меньше. Сегментальный, радикулитный, позвоночный – все это ерунда; необходим общий, с макушки до пяток; хорошо, чтоб делала баба; в Японии они это исполняют сказочно.
Фол усмехнулся, вспомнив, как он прилетел в Токио; парень, похожий чем-то на Джильберта, представлявший контору, пригласил его в баню; вы должны это ощутить, Джос: самые красивые девки и прекрасный массаж; нигде в мире такого не получите. Фол купил талон на «массаж первого класса»; «японский Джильберт» – он получал в два раза больше, чем Фол, Лэнгли всегда экономило на командировочных, зато людям из резидентур платило хорошие деньги, – заказал «экстра-класс», значит, баба будет сказочная; Фолу, сукин сын, доплатить не предложил; к Фолу вышла очаровательная японочка в бикини, а к тому длинному Джильберту привели толстенного мужика с бицепсами: Фол упал на пол от смеха; воистину, Бог карает скупость. Девочка массировала его прекрасно; в конце массажа он возбудился, предложил красотке любовь, понятно, корыстно; девушка достала из-под массажного стола три картонные дощечки, с немецким, французским и английским текстом; протянула Фолу; там было написано: «иди на…». Он тогда снова свалился на пол; семь лет назад это было: молодой; молодость – это когда можешь смеяться даже не над очень смешным, а просто от избытка сил и убежденности в том, что завтрашний день будет еще более интересен, чем прошедший.
…Фол снова угадал звонок за мгновение до того, как он раздался, снял трубку:
– Ну?
– Князь пришел, – ответил Джильберт.
– Начинайте.
– Парижского гостя может занести, он нервничает.
– Пусть себе.
Фол положил трубку, потянулся с хрустом; все, пошло дело; Джильберт запишет все, что там происходит; возможная истерика Гадилина – в мою пользу; он не мой кадр, а Лэйнза, пусть тот и отмывается; я всегда говорил, что ими надо управлять жестче, цензурировать каждое слово; пускать борьбу на самотек – значит предавать ее. Бабьи наскоки на Советы, сведение старых счетов – не метод; Москву нужно постоянно путать; хвалить то, что хвалят они, поругивать то, что там критикуют; внесение сумятицы – залог успеха. Концепция насильственного свержения строя – утопия; точно сработанный призыв к критике существующего вызовет там значительно больший шок, чем подзаборные нападки на все, что ими создано. А мое дело я все-таки доведу до конца; альянс Ростопчина со Степановым будет разрушен, невозможность дружеского диалога будет доказана; вот как надо работать. Возвращение похищенного нацистами – фикция, очередная операция, задуманная площадью Дзержинского; пусть отмываются, если смогут; ставлю девяносто девять против одного, что акции нашей АСВ попрут вверх.)
Степанов снова оглядел темноту зала, стараясь увидать лица и понять, кто пришел сюда для того, чтобы сработать свое дело; сумрак был, однако, особым, растворяющим в себе людей; сиди себе на сцене в луче слепящего прожектора и отвечай на вопросы.
– Все просмотрели публикацию? – спросил Степанов зал.
По реакции понял, что да.
– То, что здесь напечатано, – правда. Действительно, я преклоняюсь перед памятью Че и горжусь тем, что был с ним знаком; действительно, я восторгался тем, что сделал для Панамы генерал Омар Торрихос, и я оплакивал его гибель, странную гибель, угодную его врагам. Действительно, я был с партизанами Лаоса и солдатами Вьетнама во время войны. К сожалению, я не защитил диссертацию, поэтому у меня нет титула «доктора», но, как вы понимаете, здесь имеется в виду Зорге, его называли «доктором». Может быть, вы помните французский фильм Ива Чампи «Как вас теперь называть?» О Зорге? Так вот, все-таки называйте меня попросту Степанов, титул «доктор» оставьте тем, кто готовил этот выпуск.
В зале засмеялись, и смех был доброжелательным.
Девушка (кажется, англичаночка, они вдруг стали все на одно лицо, слишком хорошенькие, милые, похожие друг на друга, вот что делает форма, даже такая продуманная, как у них) принесла Годфри еще один ящичек с вопросами. Туда же была воткнута гамбургская газета: Годфри просмотрел газету, протянул ее Степанову: броская шапка – «Кто снабжает деньгами русского писателя Степанова?» Во врезке говорилось, что активность Степанова в Федеративной Республике преследует политические цели: попытка бросить тень на тех, кто во время войны выполнял свой солдатский долг; дальше шло интервью Золле; фамилии тех, кому платил Степанов, не были названы.
– Тут подошла еще одна газета. – Степанов поднял страницу над головой. – Только что вышла в Гамбурге, вечерний выпуск… В киосках, бьюсь об заклад, ее вообще нет, а если, случаем, и появится, то лишь завтра утром. Но мне все это очень даже нравится. Простите мой варварский немецкий, я попробую перевести вам содержание… Речь идет о том, что я, Степанов, плачу деньги ряду немецких исследователей за те материалы о грабеже наших культурных ценностей, которые они находят в архивах… Увы, не плачу… Было бы славно, имей я деньги, платить немецким исследователям, глядишь, дело с возвращением награбленного пошло бы скорее. Одна деталь: интервью дал мой давний друг профессор Золле, который вчера привез сюда документы о том, что Сотби торгует краденым, но с ним кто-то так поработал, что он уехал отсюда… Здесь, в газете, не названы имена тех людей, которым я якобы плачу деньги. Почему? Это упущение. Я хочу назвать вам эти имена, их кто-то заранее подготовил для мистера Золле. Пожалуйста, запомните эти имена: господин Ранненсброк… У него якобы есть моя расписка… Пусть он ее представит. Я тогда обращусь в суд, это – фальшивка. И еще – господа Шверк и Цопе. Я не знаю этих людей, никогда их не видел и не имел с ними никакого дела. Если здесь присутствуют те, кто интересуется, как приходится работать по возвращению краденого, я даю им пишу для размышления. Связаться с Гамбургом нетрудно, номер телефона газеты напечатан на последней полосе, что они ответят, интересно?
Годфри передал Степанову вопросы, шепнув:
– Началось… Я предполагал нечто, но такого не мог себе представить. Прочитайте, а я отвечу.
Степанов быстро пробежал вопрос: «Каково ваше воинское звание? Сколько вам платят за то, что вы лжете западной аудитории?»
– Здесь пришел ряд вопросов, – говорил между тем Годфри, – которые не представляют интереса для аудитории. Авторы вопросов могут подойти к мистеру Степанову после того, как кончится наш разговор, и в холле, во время коктейля, обсудить интересующие проблемы. Не правда ли, Дим?
– Правда. Но, может быть, кто-то еще интересуется этими вопросами? Меня, в частности, спрашивают, каково мое воинское звание и сколько мне платят за то, что лгу западной аудитории…
В зале стало шумно; Годфри досадливо заметил:
– Дим, эти вопросы написал иностранец. Никто из настоящих островитян не позволит себе бестактности. Мы не любим ваш строй, но мы пришли сюда, чтобы говорить о культурных программах в России, и мы этим занимаемся…
– Бесспорно. И будем заниматься. Но чтобы не было недоговоренностей: мое воинское звание капитан второго ранга запаса. Платят мне издательства. Советские и здешние, западные. Судить о том, лгу ли я и сколь квалифицированно, – удел читателей и слушателей. Наш Пушкин сказал прекрасно: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Ну а теперь серьезный вопрос: «Было ли Возрождение в русской живописи?»
Гадилин не выдержал, выкрикнул с места:
– Хватит пудрить мозги этим доверчивым агнцам, Степанов! Расскажи лучше про свою шпионскую миссию!
Пат дернула его за локоть; Гадилин досадливо отмахнулся.
– Джентльмен, – голос Годфри сделался ледяным, – пожалуйста, говорите на том языке, который понимает аудитория, если вы не в состоянии владеть пером и бумагой…
В зале громко засмеялись.
Пат поднялась и вышла из зала.
Гадилин растерянно оглядывался.
– Мистер Годфри, – донесся старческий голос из темноты, откуда-то с верхних рядов, – меня зовут доктор Грешев. Я русский по рождению, подданный Ее Величества королевы, я умею пользоваться пером и бумагой, но мне хотелось бы внести ясность в происходящее, и мне хотелось бы сделать это в устной форме – для того лишь, чтобы вернуть наше интересное собеседование к его начальному смыслу.
– Это очень интересный человек, – шепнул Степанов Годфри, – пусть скажет.
– Анархия губит шоу, Дим.
– Или же делает его настоящим. Пусть.
– Вы спуститесь на сцену, мистер Грешев? – спросил Годфри.
– Это займет уйму времени, потому что мне за девяносто. Если позволите, я все скажу с места. Леди и джентльмены, я занимаюсь русской историей, она поразительна и совершенно не известна на Западе, отсюда – множество ошибок, совершаемых здешними политиками… Так вот, позавчера, накануне торгов в Сотби, где пустили с молотка русские картины и письма, меня навестил мистер Вакс, он же Фол, – из разведки какого-то страхового концерна Соединенных Штатов… Его интересовала судьба русской культуры, оказавшейся на Западе, и – не менее того – активность мистера Степанова, а также его друга князя Ростопчина… Во время войны я работал в Министерстве иностранных дел Его Величества, поэтому могу с полным основанием заметить, что разведка зря ничем не интересуется… Я чувствую запах комбинации во всем том, что здесь происходило… Вот и все, что я хотел прокомментировать.
Шум стал общим.
…Савватеев поднялся со своего места и пошел к тому креслу, где сидел Гадилин; Распопов обернулся, спросил по-русски: «Ты куда?»
Гадилин испуганно вскинулся со своего кресла и выскочил из зала; Степанов только сейчас узнал его; бедный Толя, как же горек хлеб эмиграции, а у нас когда-то был первым парнем на деревне, салон дома держал, нас собирал на огонек, вел беседы, сам не пил – соблюдал себя, очень внимательно слушал, «боржомчиком» пробавлялся, голубь…
– Я все-таки закончу о нашем Возрождении, – сказал Степанов, обернувшись к Годфри. – Это будет сложный разговор, потому что я считаю русским Возрождением иконопись рублевской школы. Не знаю, говорит ли что-нибудь это имя аудитории…
Князь тяжело поднялся со своего кресла, лицо стало еще более мучнистым, и на своем прекрасном оксфордском сказал:
– Увы, нет.
Годфри поднял руку:
– Леди и джентльмены… Я не хотел говорить о том сюрпризе, который приготовлен для вас… Позвольте представить вам князя Ростопчина из Цюриха…
Ростопчин обернулся к залу:
– Вчера во время распродажи картин великих художников Родины мое русское сердце разрывалось от боли и гнева. Я верю в Бога, и он помог мне – несмотря на то что мне очень хотели помешать – вернуть Родине картину великого Врубеля. Пожалуйста, – он обернулся к девушкам, – она легкая, поднимите ее на сцену… К сожалению, не могу не согласиться со словами мистера Грешева: за всем тем, что происходило и происходит, я вижу возню… И говорю это я, – князь вымученно улыбнулся Степанову, – капитан первого ранга запаса… Только звание мне присвоено не в Москве, а в Париже, в начале сорок пятого, де Голлем…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































