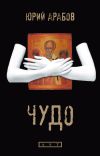Текст книги "Столкновение с бабочкой"

Автор книги: Юрий Арабов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
3
Через две недели председатель Уральского совета Белобородов поставил вопрос о расстреле видных рево-люционеров-подпольщиков, ссылаясь на распоряжение из Петрограда.
Было 12 ноября 1918 года, в стекло Волжско-Камского банка била ледяная крупа первого снега.
В накуренной комнате висело угрюмое молчание.
– Кто сделает? – спросил Юровский, нарушив его первым.
– Должен комендант, – сказал Белобородов, взглянув на Авдеева.
– Я с себя полномочия слагаю, – твердо ответил Александр Дмитриевич.
– Тогда сдавай партбилет.
– Ставь вопрос на голосование; если товарищи согласуют, тогда и сдам.
– Не надо ставить, – снова вылез вперед Яков Михайлович. – Сашка простужен, и оттого голова у него оборудована под туман. Давайте сразу по главному вопросу.
– Кто за то, чтобы наших верных товарищей… – здесь Белобородов запнулся, хотел сказать «революционеров», но не смог, – …контрреволюционеров… подвергнуть исключительной мере?
Нехотя поднялось вверх несколько рук из президиума – Дидковский, Голощекин, Толмачев…
– А ты? – спросил председатель у Авдеева.
– Решительно возражаю, – ответил бывший комендант Ипатьевского дома. – Без суда… по одной указке из центра… что это такое?
– Тогда вон отсюдова! – указал ему на дверь Белобородов.
– Ухожу. И своих товарищей из охраны забираю. Нельзя отравлять сознание людей бессудной расправой.
Авдеев поднялся, затушил махорку о собственную ладонь и, высыпав остатки в стакан председателю, вышел в коридор.
Он умрет в 1947 году от туберкулеза, сделав то, что не позволяла его физиология, – усыновив мальчика-сироту из Казахстана и поставив его на ноги…
Белобородов вылил свой испорченный кипяток в засохший цветок на окне.
– А ты почему не голосовал? – спросил он у Юровского.
– Я воздержался. Сами должны понять почему, – ответил Яков Михайлович ледяным тоном.
Председатель тяжело вздохнул. Он слышал местную легенду о дружбе двух Михайловичей, которая теперь перечеркивала Юровскому дальнейшую партийную перспективу.
– Может, ты на себя возьмешь? – спросил он у Дидковского.
– У меня – гланды, – напомнил тот.
– А ты?..
– Зачем на других сваливать? – заметил Толмачев, к которому был обращен последний вопрос. – Кто здесь главный, тот и примет эту кровь на себя.
– Я не могу, – сказал Белобородов. – Субординация. Что наверху скажут? Что в Уральском совете не нашлось никого, кроме председателя, чтобы поставить точку? Может, на Урале вообще нет коммунистов, кроме меня?
– Может быть, – согласился Юровский. – Но мы должны понять целесообразность этой меры. А потом уже решать, кто поставит точку.
– В партии – заговор, – пробормотал Белобородов, тяжело дыша. – И она находится на грани. Эти лица причастны к насильственной немощи Ильича, и на этот счет скоро придет письменное разъяснение.
– Предлагаю отложить, – сказал Юровский, – до срочного письма.
– Нет, – отрезал Белобородов. – Они торопят, и я здесь все покрываю.
– Пусть Яшка и стрельнет, – предложил Голощекин, пуская дым кольцами.
– Как это ты себе представляешь? – иронично спросил у него Юровский. – Что я одним маузером перебью десять человек?
– Это сделает отряд, который ты сформируешь.
– Еще хуже. Будут свидетели, которые расскажут, как мы распорядились. А если всех реабилитируют через сто лет? А то, гляди, и канонизируют чохом?
– Нужно брать в отряд таких, которые не расскажут, – произнес Голощекин.
– Немых?
– Тех, которые по-русски ни бельмеса…
Здесь Белобородов подошел к члену президиума Голощекину и страстно поцеловал его в лоб.
– Австро-венгры! – страшно прошептал председатель. – Есть такие!..
Он имел в виду венгерских военнопленных, которые находились близ города на поселении и, не выучив русского языка, на всякий случай вступили в партию большевиков.
– Будешь с австро-венграми?!
– Ну, я не знаю… – пробормотал Юровский лениво. – Нужно раскинуть умом. Ты меня не торопи.
А чего тут раскидывать? – подумал он. – Если Свердлов – враг, то и все друзья его будут во врагах. Тут-то мне и каюк. Это у нас быстро. Глазом моргнут, и меня исчезнут.
– Проголосуем, – поторопил председатель. – Кто за то, чтобы сделать Юровского Якова Михайловича комендантом дома особого назначения с возложением на него секретного вопроса?..
В воздух поднялись руки присутствующих. Бывший часовщик наклонил голову к коленям, изображая тоску. Но внутри себя он был доволен. Второй вариант, гарантировавший безопасность, сработал как механические часы первого класса точности.
…Вечером того же холодного дня он подошел к бараку, в котором жили военнопленные.
Открыв дверь и встав на пороге, выкрикнул по бумажке:
– Лайонс Горват, Анзелм Фишер, Изидор Эдельштейн, Эмил Фекете, Виктор Гринфелд, Имре Надь, Верхаш Андреш!..
В бараке висел горячий туман. В большом чане, поставленном на металлическую буржуйку, кипятили белье, и голый по пояс венгр с татуировкой розы на левом плече размешивал белье деревянной палкой.
– Чего тебе? – спросил у Юровского голос без акцента.
Яков Михайлович удивился. Ему сказали, что военнопленные не говорят по-русски, а здесь одна фраза на родном языке смешала карты и произвела вместо подкидного дурака сложный европейский покер.
Перед ним стоял седоволосый сухой человек с томиком Гейне, открытым на середине.
– По-русски понимаешь? – изумился комиссар.
– А почему нет? Здесь люди с образованием. Не вам чета.
– Фамилия! – рявкнул Яков Михайлович, намереваясь поселить одним своим голосом сумятицу в умах.
– Эдельштейн Изидор.
– Звание!..
– Командир артиллерийской батареи.
Из офицеров, – подумал Юровский. – Значит, интеллигенция. Как же мне не везет!..
– Вот что, товарищ Эдельштейн. Мне нужны люди, годные под расстрел.
– Вы хотите нас убить? Есть постановление суда или военного трибунала?
– Вы меня не поняли, товарищ Эдельштейн, – терпеливо объяснил Юровский. – Кого расстрелять – их всегда много. Здесь целый город можно смело ставить к стенке. Мне надо не кого, а кто. Кто расстреляет и кого потом наградят.
Эдельштейн закрыл томик Гейне, загнув уголок страницы и сделав тем самым закладку. Сказал что-то по-венгерски своим товарищам. Те возмущенно загалдели.
– Расстреливать никого не будем, – коротко сказал военнопленный, переведя иностранный ропот на русский язык.
– Основания? – кротко спросил Юровский.
– Мы не каратели.
– Но вы же еврей, товарищ Эдельштейн. И коммунист. А вам приказывает другой такой же коммунист. Даже просит.
– Я прежде всего венгр, – сказал Эдельштейн. – И в ваших русских играх участия не приму.
– Венгр… А что это значит – венгр? – пробормотал Юровский, наливаясь уже не раздражением, а жгучей злобой. Она начинала капать вниз, как мякоть сливы, которую сжали в кулак.
– Венгр – это значит… – Эдельштейн задумался. – Есть такая река Дунай… Она течет посреди Будапешта. В летний ясный поддень, если встать на холм, можно увидеть вдалеке Вену. Она совсем рядом, в сорока верстах. Белый город встает из речного тумана… Рыба спит, и птицы от жары не поют…
Он запнулся, голос его дрогнул.
– Нет. Венгр – не это, – сказал Юровский, терпеливо выслушав его короткую исповедь. – Венгр – это твой барак. Чтобы крепкий дом сгорел, нужно подпалить его с четырех углов. А здесь хватит одного. Плеснуть керосина, когда вы спите, и зажечь. Хорошо будет. Тепло, как в Будапеште.
– Уходите отсюда, – прошептал офицер, – пока вас не разорвали в куски.
– Я-то уйду, – ответил Яков Михайлович. – Но ты никуда отсюда не уйдешь. Упреешь вместе со своим бараком. Как клоп. Это тебе и будет моя любовь за теплый прием.
…Он вышел на ветер, задыхаясь и кашляя. В его сознании мгновенно промелькнула странная химера: он в кремлевской больнице медленно умирает от рака и перед смертью, в боли и отчаянии, надиктовывает секретарше радостные воспоминания об Ипатьевском доме. В назидание потомству. В упрочение своей исторической роли, которую он сознательно сыграл.
Но чтобы поднять роль, нужно ее организовать и выучить. С организацией пока не вытанцовывалось – отказ австро-венгров от веселой ночки с пальбой грозил провалом всей постановке.
А ведь начало он придумал эффектное, с фантазией и газом. Пригодилась фотография, которой он занимался раньше под присмотром жандармерии. Он приглашает узников в подвал якобы для того, чтобы сделать снимки. Фотографическая камера уже стоит там на треноге. Яков Михайлович комбинирует подрасстрельных статистов так, чтобы не заслоняли друг друга. Потом зачитывает короткое постановление Уральского совета. Солдаты за его спиной начинают палить из винтовок, и он также делает несколько точных выстрелов. В воздух или стены, стараясь никого не задеть. Это взятка совести должна обеспечить ему относительное спокойствие перед самим собой во времена, когда его карьера выйдет на всероссийский уровень и резко пойдет вверх.
Только где взять солдат? Значит, будут расстреливать свои, русские. Кого найду и кто не убежит со страха. А с австро-венграми мы еще посчитаемся. Будет время и место. Нежданный пожар в тяжелую минуту – эта идея нравилась ему все больше.
Просто нужно аккуратно обращаться с буржуйкой и не подкладывать в нее лишних дров, когда она уже и так раскраснелась, как вдова при встрече с любимым племянником.
Глава десятая
Дни и ночи Алисы
1
Бесценный мой!
Мы провели все утро в лазарете, затем быстро переоделись, позавтракали и поспешили в город в Покровскую общину на Васильевском острове… Большая палата для офицеров, уютная гостиница для них, с мебелью, крытой кретоном, три комнаты для солдат, очень просто и хорошо обставленные. Мы затем прошлись по общине, осмотрели раненых, во дворе находится еще одно большое здание, принадлежащее общине, – городская больница, в верхнем этаже там размещено сто тридцать раненых. Оттуда мы помчались на мой склад. Мне отрадно было застать множество дам за работой и найти груды заготовленных вещей.
Мы были в местном лазарете, и я там вручила четыре медали ампутированным солдатам – там не было других очень тяжелых случаев. Оттуда мы отправились в Большой дворец, чтобы повидать всех наших раненых. Они уже горюют о том, что так долго нас не увидят. Сегодня утром оба нижегородца, Наврузов и Ягмин, подверглись операции, а потому мы хотим заехать к ним вечером, чтобы посмотреть, как они себя чувствуют…
Должна кончать, собираемся идти в церковь, и хотелось бы перед тем отдохнуть. Шлет тебе свои нежнейшие благословения и поцелуи, мой Никки, твоя преданная Женушка…
Рада, что вам… посчастливилось увидеть хорошенькие личики; мне чаще приходится видеть иные части тела, менее идеальные.
Моя дорогая!
Сердечно благодарю тебя за твое любящее письмо. Сегодня твое рождение – мои молитвы и мысли о тебе более сердечны, чем когда-либо. Да благословит тебя Бог и да пошлет он тебе все то, о чем я ежедневно от всего сердца ему молюсь!
Слава Богу, известия продолжают быть хорошими… Я получил очень милый ответ от Джорджи на мою телеграмму, которую я послал после морской битвы. Оказывается, только одни крейсера их вели бой со всем германским флотом, а когда показался большой английский флот, немцы быстро вернулись в свои гавани.
Нежно тебя и детей целую и крепко тебя обнимаю. Навеки твой Ники.
Прощай, бесценный и ненаглядный мой! Как нестерпимо больно отпускать тебя – больнее, чем когда-ли-бо… Но Господь, который весь любовь и милосердие, помог, и наступил уже поворот к лучшему. Еще немного терпения и глубочайшей веры в молитвы и помощь нашего Друга, и все пойдет хорошо! Я глубоко убеждена, что близятся великие и прекрасные дни твоего царствования и существования России. Только сохрани бодрость духа, не поддавайся влиянию сплетен и писем… Покажи всем, что ты властелин, и твоя воля будет исполнена. Миновало время великой снисходительности и мягкости, теперь наступает твое царство воли и мощи! Они будут принуждены склониться перед тобой и слушаться твоих приказов и работать так, как и с кем ты назначишь. Их следует научить повиновению. Смысл этого слова им чужд: ты их избаловал своей добротой и всепрощением. Почему меня ненавидят? Потому что им известно, что у меня сильная воля и что, когда я убеждена в правоте чего-нибудь (и если меня благословил Григорий), я не меняю мнения, и это невыносимо для них. Но это дурные люди…
Так как ты очень снисходителен, доверчив и мягок, то мне надлежит исполнять роль твоего колокола, чтобы люди с дурными намерениями не могли ко мне приблизиться, а я предостерегала бы тебя. Кто боится меня, не глядит мне в глаза, и кто замышляет недоброе, те не любят меня. Хорошие же люди, честно и чистосердечно преданные мне, любят меня: посмотри на простой народ и на военных, хорошее и дурное духовенство – все это так ясно, потому это не огорчает меня больше так, как когда я была моложе. Но когда люди позволяют писать тебе или мне гнусные, дерзкие письма – ты должен карать… Мы не можем позволять, чтоб нас топтали. Твердость прежде всего!..
И наш Дорогой Друг так усердно молится за тебя – близость божьего человека придает силу, веру и надежду, в которых так велика потребность. А иные не могут понять твоего великого спокойствия и потому думают, что ты не понимаешь, и стараются тебя нервировать, запугивать, уязвлять. Милый, помолись у иконы Могилевской Божьей Матери – ты там обретешь мир и крепость… Пусть народ видит, что ты – царь-христианин, не смущайся – такой пример принесет пользу другим.
Спи спокойно, душой и сердцем я с тобой, мои молитвы витают над тобой. Бог и Святая Дева никогда не покинут тебя! Навеки всецело твоя!
Моя возлюбленная душка, женушка!
Сердечное спасибо за милое письмо, которое ты вручила моему посланному, – я прочел его перед сном.
Какой это был ужас – расставаться с тобою и с дорогими детьми, хотя я и знал, что это ненадолго. Первую ночь я спал плохо, потому что паровозы грубо дергали поезд на каждой станции. На следующий день я прибыл сюда в 5 ч. 30 мин, шел сильный дождь, и было холодно…
По прибытии в Ставку я отправился в большую деревянную церковь железнодорожной бригады на краткий благодарственный молебен… После завтрака мы снимались группой со всем штабом… Утром после доклада я гулял пешком вокруг всей нашей Ставки и прошел кольцо часовых, а затем встретил караул лейб-казаков, выставленный далеко в лесу. Ночь они проводят в землянках – вполне тепло и уютно. Их задача – высматривать аэропланы. Чудесные улыбающиеся парни с вихрами волос, торчащими из-под шапок…
Трудно поверить, что невдалеке отсюда свирепствует великая война, все здесь кажется таким мирным, спокойным. Здешняя жизнь скорее напоминает те старые дни, когда мы жили здесь во время маневров, с той единственной разницей, что в соседстве совсем нет войск…
Возлюбленная моя, часто-часто целую тебя, потому что теперь я очень свободен и имею время подумать о моей женушке и семействе…
Спокойной ночи, мое милое Солнышко. Всегда твой старый муженек Ники.
2
Поначалу она чувствовала себя во сне. Кругом все было сном: квартира на Гороховой, которая стесняла, казалось, все движения и не позволяла дышать, как она привыкла. Улица – серая погода, серая мостовая, по которой сновали туда-сюда серые людишки, ими приходилось повелевать… зачем? Для чего?.. Слышимость за стенами. Вдруг около двух часов ночи кто-то споет баритоном. Это генерал Рузский, его давно нужно было заковать в кандалы, ведь он был за отречение моего Ники, но муж, как обычно, сделал вид, что ничего не заметил. И далекий голос старьевщика-цыгана каждое утро: «Старые вещи покупаем и меняем!.. Старые вещи!.. Старые вещи!..» Она и чувствовала себя той старой вещью, которую того гляди выкинут на свалку.
А улица сама по себе была великолепной. Идущая от Адмиралтейского проспекта до Семеновского плаца, она являлась украшением левого берега Невы. Вместе с двумя другими братьями – Вознесенским и Невским проспектами – она была лучом, сверкающим от центральной башни Адмиралтейства и простреливающим центр города насквозь. Но разве увидишь луч, когда глаза в слезах?
Утешали дети. Цесаревич не отходил от окна, наблюдая за прохожими, и все время просился на улицу. Румянец играл на щеках дочерей. И когда Анастасия призналась, что была вечером на танцах, мне стало дурно. Где ты была, заблудшая душа?! В доме Главполитпросвета. В вертепе! В публичном доме! И что же там танцевали и кого? Танцевали танго и вальс, был ответ. На аккордеоне играл какой-то безногий солдат. Но кого танцевали? Конечно же, мужчин. Городской сброд, которому нужен кнут. А тут еще царевич вмешался:
Вчерашний день, часу в шестом
Зашел я на Сенную…
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни слова из ее груди —
Лишь бич свистал, играя…
И музе я сказал: гляди!
Сестра твоя родная!..
Он прочел по книжке. Что это? Кто посмел написать эту порнографическую низость? Некрасов. Не знаю о таком. Низменные страсти и низменные мысли… – зачем все это литературе? «А вы должны пойти вместе со мной на танцы, маман!.. Это такой миракл, фанстастик! Там одни матросы!..» – «И ни одной девицы?..» – «Было несколько швей и медсестер… Пойдемте, маман, сегодня вечером! Вам понравится!..» – «Спасибо. Идите alone, если вы превратились в пуб-личную женщину!..»
А мой засмеялся, услышав ее рассказ.
– Ее обидят, – сказала я. – Словом или делом.
– За меня заступится сыщик Коновалов… – успокоила Анастасия.
А ведь закраснелась, когда произнесла эту фамилию, я сразу заметила.
– Кто такой этот сыщик?!
– Персональная охрана, – пояснил Ники.
– Надежен?
Он равнодушно пожал плечами.
– Не понимаю, – произнесла я, начиная задыхаться, – твоей холодности… твоего легкомыслия по отношению к собственной дочери.
– Она уже большая и может сама постоять за себя.
– А если ей скажут неприличное слово?!
– Она сама, кому захочет, скажет, – вмешался Алексей.
Он ее выдал. Выдал с торжеством, но в нем было что-то и от себя, личное и совсем безрассудное. Я всегда была проницательна и держала всю семью в кулаке.
– Вы знаете, дети, неприличные слова?
Анастасия только поджала губы, а царевич подтвердил:
– Конечно.
– Какие же это неприличные слова?
– Разные. Сказать вам сейчас?
– Не надо. Лучше напишите на бумажке, чтобы не засорять атмосферу.
– Определенно… – согласился Ники, просматривая у окна какие-то бумаги, держа их на весу.
А с чем согласился? С бумагами или с ужасом, который творился в его семье?..
– Что вы там читаете? Как можно что-то читать, когда царевич сейчас пишет неприличные слова?
– Это закон о народной милиции, мое солнышко. Прислали из Совнаркома.
– Не подписывай. Не теряй лица!
– Да я и не собираюсь… Во всяком случае, так сразу… Нужно обдумать и взвесить.
– Все законы должны исходить из тебя самого, а Совнарком их должен только утверждать!
Я вырвала из рук Ники негодные листы и тут же порвала в клочки на его глазах.
– У меня есть второй экземпляр, – сообщил он, не теряя самообладания.
– Маман, готово! – сказал цесаревич, отдавая мне листок с ругательствами.
Я заглянула в него и пожалела, что родилась на свет.
– Вот! – закричала я. – Полюбуйтесь и вдумайтесь в то, во что вы погрузили всех нас!
Ники сморщился и крякнул, так он делал всегда, когда у него начинала болеть голова. Ничего!.. Пусть видит дело рук своих!
– Болотный аспид, – прочел он вслух. – Мымра. Шалава. Говядина. Белопогонная падаль…
– Что есть такое мымра?! – спросила я, зады-хаясь.
– Мымра – это, наверное, вздорная женщина, – объяснил Ники, стараясь быть безучастным.
– А говядина?
– Мясо, которого не хватает.
– …Бе-ло-по-гон-ная па-даль? – произнесла я по слогам этот славный каламбур.
– Это, по-моему, мы с вами, – произнес мой смиренный муж.
– Сейчас революция, маман, – сказал мне наследник престола. – И папа ее возглавил.
– Он не должен ее возглавлять, он должен ее подавить!.. С жестокостью и кровью!..
Я подняла кулаки и ударила Ники в грудь. А могла бы и по лицу. По его бритым светским щекам. У-ух, как я могу драться! Как люто и страшно я могу ударить, если захочу. Съем любого без масла и русского хрена!..
– Если ты не можешь подавить или не хочешь… Возглавь смуту. И поведи ее, куда нужно России, – произнес Ники.
– Но разве твоей стране необходима смута?
– Нужны перемены. Иногда, кроме смуты, нет другой возможности их произвести.
Здесь я расплакалась, потому что силы оставили меня. Села на бархатный диван и стала рыдать, как простая русская баба. Не как внучка королевы Виктории. Где мои силы? Откуда они могут взяться в этой каменной клетке на Гороховой?..
Подбежал врач Боткин. Накапал мне в стакан капель и дал выпить.
– Я давно хотела вам сказать, маман, – произнесла Мария, появляясь в комнате. – Я тоже хочу.
– Чего? Оказаться говядиной или мымрой?
– На танцы хочу. Вместе с Анастасией.
Я швырнула в нее стакан. Это был заговор, и я, как мотылек, застряла в его паутине.
– Вот господин Ульянов, поди, не ходит на ваши танцульки!..
– Господин Ульянов очень занят, – подал голос русский царь. – Кроме того, ему нездоровится после злополучного выстрела.
И это оценка русского самодержца – трогательная забота о своих врагах!.. Боже мой! До какой наивной пошлости мы докатились!
– Неужели ты не посадил его? – изобразила я наивность девочки. – Ты ведь мне обещал… Когда?
Ники пожал плечами и начал жевать кончик папиросы, не закуривая…
– Вам нужно прилечь, – заметил Боткин, прослушивая мой пульс. – Вы сильно перевозбудились, ваше величество!..
– Ленин и правда туда не заходит, – подтвердила Анастасия. – Но комиссар Луначарский с супругой бывают часто.
– И что же они там производят? Воровство? Пытки? Кровосмешение?..
– Они производят фокстрот, – сказала Анастасия. – Вот так!..
Ноги ее, точнее ступни, ритмично задвигались. Она сбросила тапочки и начала производить на зеленом ковре движения публичной женщины, соблазнительно покачивая бедрами. Мария вместе с наследником испытали восторг и стали дружно хлопать в ладоши, подбадривая ее.
– Я и говорю – кровосмешение… Мы всё проиграли, – пробормотала я, обращаясь к мужу. – Если фокстрот пришел в наш дом, то у нас нет будущего.
– Это всего лишь американский танец, – объяснил мой наивный муж, – ничего более.
– Это называется модернизацией страны, – сказал цесаревич.
– Где ты прочел про это, мой бедный мальчик? Или достучался своим неокрепшим умом?
– В «Известиях», маман.
– Разврат и порнографию вы называете модернизацией? – вкрадчиво и тихо спросила я.
– Не только, – сказал Ники. – Я тебе потом объясню, моя дорогая… А сейчас мне нужно спешить на заседание кабинета.
– Вас там удушат, на этом дансинге!.. – привела я свой последний довод. – Фокстротом в сердце и танго по затылку.
– Там много охраны из числа народной дружины, – сказал муж. – Если комиссары туда приходят, значит – проверено, безопасно.
– I cannot live!.. Вот до чего вы довели свою несчастную мать! Не хочу жить и дышать этим отравленным воздухом перемен!..
Я вдруг услышала свой голос со стороны. Он был чужим, и даже я сама его не узнала.
А вечером… Вечером угадайте, что я сделала? Не поверите. Я сама поехала на дансинг в дом Главполитпросвета. Поехала тайно. Мне нужно самой было посмотреть на вертеп. И удостовериться в том, что это на самом деле так невинно, как меня пытались уверить.
Страшный Главполитпросвет, выговорить который не позволял воздух в легких (он кончался раньше, чем это длинное слово) оказался всего лишь бывшим народным домом на Лиговке. Она сама открывала его в 1903 году и потом жалела об этом, так как в первую русскую революцию народные дома стали рассадником смуты.
Поначалу худшие опасения Александры Федоровны подтвердились: дансинг производился в так называемом «красном уголке», на стенах которого висели крупные фотокопии с лицами Ленина и Троцкого и чуть меньше – государя Николая Александровича. Своего же портрета Алиса не обнаружила и налилась жгучей обидой. Ведь ее должны были узнавать на улицах, целовать руки, подавать прошения об облегчении участи… Где они, перекатные русские калики, обделенные умом и жизнью обиженные холопы?.. Холопов не было. Вместо них сюда приходили солдаты, матросы, учителя… Впрочем, социальный статус этой толпы определялся не вполне. Они все были одинаковы. Довольно бедно одетые, курящие какую-то гадость (нужно выйти в Учредительное собрание с инициативой – запретить курение в общественных местах!..). Однако в лицах их государыня заметила нечто новое. Они были веселы. Эта веселость сильно настораживала и даже огорчала. Каковы ее причины? После изнурительной войны, позорного мира и совсем унизительного для государя октябрьского переворота… чего смеетесь?.. Только потом она поняла: эта была веселость свободы, понимавшейся как безответственность. Последняя уничтожила подобострастие. И это было первым открытием императрицы.
Одноногий аккордеонист маялся без дела. Вместо него играл патефон, заменивший совсем недавно знакомый всем граммофон. Тот был неповоротлив, помпезен, с большой трубой и дорогим ящиком, но французская фирма «Пате» разработала его народный вариант, удобный для переноса, с маленьким рупором, встроенным непосредственно в корпус. Получился праздник, годный для любой обстановки, например для открытого воздуха или красного уголка дома Главполитпросвета.
Патефон, хрипя и спотыкаясь, ерзал какой-то адский тромбон. Фокстрот!.. – мелькнуло в помутненном уме Алисы. Явный и законченный фокстрот: вместо того чтобы кружиться в благородном вальсе, парт-неры затаптывают ногами невидимого врага. Смесь Малороссии и Монмартра. Простонародная шансонетка превращает в пыль сдержанную честь былого искусства, стаскивает его с высоты духа и измазывает в грязи низменных страстей. Страсти!.. Вот что затронуло ее сейчас, кольнуло и обожгло. Мы же привыкли прятать их за мундиром. А здесь они выставляют всё напоказ, а мы должны сопереживать, принимать в них участие. Это и называется современным искусством?..
В толпе, стоявшей вдоль стен, она увидела Анастасию и Марию. Девушки, царевны, умницы и красавицы, как завороженные слушали зарубежную дребедень, скорее всего американскую.
Обжигающий вихрь ударил в голову Алисы. Это с ней часто бывало, особенно в минуты гнева. Жар королевской крови, британской, немецкой и русской, заставил забыть саму себя.
Она подошла к патефону и сняла с пластинки адаптер. Танцующие пары застыли, с неудовольствием глядя на императрицу. Движение их грело, держало на ногах. В бывшем народном доме топили плохо, и изо ртов шел еле различимый пар. Кто-то в толпе удивленно крякнул.
– Русскую!.. – приказала Алиса прикорнувшему инвалиду.
В ее голосе было нечто, что заставило бы и мертвого восстать.
– Есть, барыня! – откликнулся инвалид, который сразу понял, что к чему. Инстинктом понял, нутром…
Грубые пальцы коснулись захватанных кнопок видавшего виды боевого товарища. И нежная музыка полилась из него.
Алиса вынула из кармана жакета платочек и, пустив его по ветру, пошла по кругу, выстукивая каблуками барабанную дробь.
Анастасия от неожиданности расхохоталась. А красавица Мария, мгновенно заразившись материнским задором, сама вступила в круг с платочком. Она была красива, по выражению Толстого, тяжелой русской красотой. А может быть, и немецкой. Плотью и статью – в мать, в породу, предполагавшую мраморную кожу на крепком и сдобном теле… Паркет затрещал под обеими.
Это было ужас как хорошо!..
– Жги, братцы, жги!.. – вскричал какой-то матрос и бросился вприсядку.
С восторгом глядя на Марию, он станцевал перед ней почти на коленях…
…Государь, увидев это, стесненно кашлянул в свою ладонь. Он заехал сюда после заседания кабинета, подозревая, что жена собирается проследить дочерей в народном доме. За десятилетия брака они чувствовали намерения друг друга с точностью градусника. Она же сейчас свалится от истерики, – подумал он. – Надо ее задержать!..
– Вальс можешь, любезный? – шепнул он инвалиду.
– Сделаем, гражданин хороший.
Аккордеон заиграл что-то печальное и сдержанное. Оно своим благородством успокаивало саднящую душу, прикладывая к ней компрессы из розового масла.
Николай Александрович, одернув на себе китель, подошел к императрице, поцеловал ей руку и взялся за ее располневшую талию.
– Ники, – прошептала Алиса. – Я больше не могу!..
– Вам плохо? – испугался он.
– Не знаю. Еще не поняла…
Ильич лукаво подмигнул ей с фотографии. Троцкий настороженно смотрел через свое пенсне, ничему не веря и не удивляясь.
Государь и государыня расстроенной страны, ищущей свое предназначение, заскользили вместе по холодному паркету: раз, два, три… Раз, два, три… Раз!.. Алиса поцеловала мужа в плечо.
А когда выходили из круга, какой-то мещанин бросился им в ноги со словами:
– Вы теперь наша матушка!.. Настоящая русская царица!..
Алиса дала ему золотой царской чеканки. Она была почти счастлива.
– Значит, так… – шепнула она мужу. – Проверьте, обеспечен ли город дровами… Здесь очень холодно.
– Дров и угля пока не хватает, – признался царь. – Все тепло уходит, чтобы греть заводы.
– Но здесь же… в культполитпросвете, – произнесла она с трудом бесконечное слово, – бывают комиссары. Они же мерзнут!..
– Они живут как все. Не хуже и не лучше нас.
Как все!.. Что за дикая, странная власть!..
А Ники никто не узнал. Теперь он был с голым лицом, незнакомый и почти чужой. Разве бывают безбородые русские цари? Не было и не будет никогда!..
Вторым выходом в свет был магазин «Главтабак» на Литейном. Здесь она обожглась. Никто ее там не узнал, а если бы и узнал, то было б еще хуже.
Почему-то в «Главтабаке» продавали рыбу. Остервенение носилось в воздухе. Императрица увидела, как какая-то с виду благородная женщина ударила кассира по голове сумкой. И в пересоленной селедке, завернутой в грубую бумагу, лежали кусочки кирпича.
Я развернула эту рыбу перед Николаем Александровичем и спросила с показным смирением:
– Что это такое?
– Кирпич, – сказал государь, принюхиваясь к селедке.
– Зачем он здесь?
– Для того чтобы вес был больше.
– Прошу вас… Очень прошу… – произнесла я, дрожа от праведного гнева. – Закройте этот магазин и расстреляйте управляющего. Для его же пользы.
– Не могу, Алекс. Не имею права, – развел руками Николай Александрович.
– А что вы имеете?
– Я имею соображение, что экономика равенства, предложенная большевиками, себя изжила.
– Дальше что?
– Дальше… Ульянов предлагает один странный парадокс. Политику, при которой социализм и капитализм будут существовать вместе.
– Монархия сохранится? – задала я единственный вопрос, который меня по-настоящему интересовал.
– Не знаю.
Он не знает, полюбуйтесь! Не знает, что будет с семьей, со всей Россией, которую он упустил.
– Я ему нужен всё более, – решил успокоить Ники, читая ее мысли. – После покушения в Москве Ульянов активно теряет поддержку в своей среде. А после того, что произошло в Екатеринбурге, его песенка, можно сказать, спета. Он падает…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.