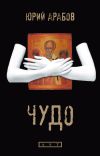Текст книги "Столкновение с бабочкой"

Автор книги: Юрий Арабов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Глава шестая
В людях
1
Люди меня не любят. Но любит народ. Народ – это когда людей ведет Бог. С народом я. Меня помазали на Царство. Я куда-то веду. Должен вести в сапогах. Но сейчас мне дали калоши. Чтобы меня не узнали. Может ли Государь быть в калошах? Нет. Но если меня узнают, то могут убить. Тогда народ исчезнет и останутся только люди. Плохие, хорошие. Ничем не связанные друг с другом. Этого допустить нельзя. Огромная страна, в которой нет народа. Может ли быть народ при республиканском правлении? Нет. Там одни индивидуумы. Как же жмут эти калоши. У какого-то русского писателя все в калошах. Не помню. Да. У господина Чехова. Когда он умер, императрица сказала: «Ники, ты должен его прочесть». Послушался. Прочел. Пошлый мир. Нет героизма, возвышенных чувств. Но забавно. Рассказы смешны. Повести ужасны. «Никто не знает настоящей правды…» – о чем это? Разве Спаситель не дал нам правду? Разве многострадальный Иов не запечатлел ее в своих муках? Запечатлел. А Чехов не хочет. Писатели живут наперекор Божьим заповедям. Лев Толстой в Гаспре не уступил мне дорогу. Мы оба ехали на лошадях и почти столкнулись, лоб в лоб. Он проехал первым и как-то странно посмотрел на меня. С сожалением и злобой. Христу тоже не уступали дорогу. Интересно, уступил бы ему дорогу Лев Толстой? Вряд ли. Много нам досадил. Опечалил. Письма писал. Сделал новую веру. А мы еще старую не освоили. Ужасный старик. В русских писателях нет надежды. Они не зовут на подвиг. Или смешат, или пугают. Но я не хочу смеяться. Я желаю возвышенности, благородных чувств, светлых устремлений. Как же жмут эти калоши!
С Невы, несмотря на лето, привычно дул холодный ветер. Река проснулась сравнительно недавно, в апреле, а до этого лежала, как царевна, в хрустальном гробу. Солнце поцеловало ее, и она встала. Всего-то на три-четыре месяца, в которых только дней десять, когда можно зайти в воду.
Николай Александрович оглянулся. Охрана из двух шпиков, как и договаривались, шла шагах в двадцати позади него.
Несмотря на июнь, несколько дней подряд лил дождь, и пришлось надеть штатские калоши, сняв царские сапоги, – чтобы не выделяться, чтобы слиться со своим народом и, может быть, исчезнуть на его фоне. Императрице об этом историческом выходе в народ ничего не говорилось. Для нее он поехал на заседание второго коалиционного правительства. Первое пало из-за очередной неудачи весеннего наступления на немцев. Мирные переговоры застопорились, парализованные недоброй волей Милюкова и Ко. Для новой политики нужны были новые люди, с призывом которых государь, по своему обыкновению, медлил.
Есть ли в городе революция? По всей стране – нет, это определенно. А в столице? Говорят, что из Советов были вытеснены эсеры и прочие социалисты, большинство получили большевики. Опять большевики!.. Я спросил у Фредерикса: «Не кончилась ли революция или она в другой фазе?» Он ответил мне: «Есть верное средство для проверки. Возьмите с собой на прогулку часы брегет. Если их украдут, то революция определенно состоялась».
У булочной Филиппова чернела длинная очередь мещан человек за сто. Пожилой господин в косоворотке, то ли учитель, то ли инженер, встав на деревянный ящик, выкрикивал фамилии по бумажке, которую держал в руках:
– Щеголев! Барсуков!.. Возницына!..
Из толпы отзывались на свои имена. Николаю Александровичу стало не по себе. Любой изумился бы на его месте. Булочная закрыта. Более того, окна забиты деревянными досками. Тогда чего около нее стоять?
Русский странен. Ему лишь бы толпиться. Соборность, да. Как это я забыл о соборности? Это от крестных ходов пошло. Когда все вместе и гуртом. Интересно, очереди зависят от соборности или, наоборот, соборность есть порождение очередей?.. А демонстрации против нас? Это уже точно от крестных ходов. Но если мы – глава церкви, то почему не можем отменить крестных ходов и прервать традицию толпы? Крестных ходов нет и демонстраций нет. Вот что лукавый мне шепчет. Сгинь, сатана, исчезни и расточись!..
– Вы зачем здесь, русские люди? – спросил он тихо у какой-то женщины.
Из-под платка ее высовывались папильотки.
– Хлеба ждем, гражданин хороший, – ответила она с раздражением, подозрительно посмотрев на его шинель без знаков различия.
– Не надо ждать. Хлеба в столице достаточно. Мне сообщали. Ступайте по домам, господа.
– У всех дезертиров мозги с наперсток, – сказала она. – Давно, небось, в Петрограде не был?
– Изрядно, – ответил государь, уходя от прямого ответа.
– Теперь – другое. Главное в новой власти – запись. Мы все записаны. Дежурим и получаем.
– Ваша как фамилия? – спросил с деревянного ящика пожилой гражданин, который зачитывал список.
– Красносельский, – ответил Николай Александрович и зарделся от собственного вранья.
– Красносельский… Вас нет, – пробормотал пожилой, заглядывая в свою бумажку. – А имя как?
– Николай…
– Точно нету. Записать?
– Разрешаю. Будьте добры, – милостиво согласился государь.
– Только хлеб вы получите не раньше субботы. Перекличка два раза в день, утром и вечером. Кто не приходит, тот вылетает из списка.
– Странно, – сказал царь. – А почему окна в булочной заколочены?
– От беспорядков. Вы что, с Луны свалились?
– С фронта.
– Ну, это еще хуже… Ранения есть?
– Контузия.
– В голову, наверное…
– В сердце, – сказал царь.
И он не врал.
– Войну хотят окончить, товарищ Красносельский, – наставительно заметил пожилой гражданин. – И окончить самым неблаговидным образом. За спиной союзников. Мы уже потеряли плодородные территории. Потому и хлеба не хватает.
– Хлеб будет. Всего вам доброго.
И государь бочком отошел от толпы.
– Он мне кого-то напоминает, – пробормотала женщина в папильотках, с подозрением глядя вослед Николаю Александровичу.
– Все бородатые люди похожи друг на друга. А дезертиры – тем более. Бороду сбреет и обретет собственное лицо. Так… Гвоздиков!
– Я!..
– Голеницкий!..
– Здесь.
Перекличка продолжилась.
А Николай Александрович тем временем подошел к своей охране.
– Запишите. Хлеб в городе. Выяснить. Что препятствует его обращению?
– Айн момент, ваше величество!
Шпик вытащил из кармана маленький блокнотик и записал в него пожелание государя.
Николай Александрович снял с головы фуражку, вытер накрахмаленным платком лоб и снова нахлобучил ее по самые брови. Теперь идем туда, куда собирались. На Петроградскую сторону, в начало Кронверкского проспекта. К дворцу Матильды Феликсовны Кшесинской. Место неприятное. Много связано с ним сердечных мук и юношеского бреда. Кто не любил балерин, тот не знает тонкостей любви. И хотя он давно покаялся в этих тонкостях, но все равно сердце дрожало, будто это было вчера.
Семья оберегает человека от блуда. Она похожа на монастырь, где насельники теряют свои половые различия и становятся телом единым. Декаденты тщетно звали совершенного человека, андрогина. А им всего лишь надобно было жениться. Тогда бы они поняли, что такое двуполость и что такое андрогин. Это всего лишь усталый глава семейства, у которого нет ни времени, ни сил на какой-либо блуд. Хорошо ли это? С нравственной точки зрения – да, хорошо. Но причиной той государственной инфантильности, в которой его обвиняли, была, возможно, его половая не-определенность, которая есть усталость, прежде всего от обязанности мужчины, сопряженной с постоянным выбором, часто жестоким. Равнодушие – оборотная сторона подобной усталости. Равнодушие ко всему, что не касается твоей семьи.
Государь не знал, точнее, не вдумывался в то, что произошло с особняком его бывшей любовницы. Ему говорили, что теперь там солдаты, большевики… Молчаливо допуская, что Матильда, поддавшись общему революционному брожению, сама отдала им свой дворец, Николай Александрович решил не выяснять всех тонкостей этого коварного дела. Тем более что никаких писем с просьбой о помощи он от Матильды Феликсовны не получал. Их сношениям препятствовала императрица. Если бы он начал сам заниматься этой проблемой, то со стороны жены последовали бы подозрения необратимого характера, и из черной тучи, что нависла над головой государя, пролился бы даже не дождь, а раскаленное олово. Для него было легче заключить сепаратный мир с кайзером, чем узнать, что происходит с Матильдой. Воинственностью Марса он не обладал. Но это отсутствие мужества и решительности каким-то образом вело его по жизни, не давая окончательно погибнуть… Чудны дела твои, Господи, и слабостью своей ты побеждаешь силу.
Он чувствовал, что устает от ходьбы. Город был слишком большим, слишком холодным и мрачным, чтобы чувствовать себя в нем счастливо. Сфинксы, привезенные из Египта, напоминали о тягостном бессмертии, лишенном личностного начала. Для чего бессмертие, если ты не сохраняешь индивидуальности со всеми признаками несовершенств и даже пороков, которые накладывает жизнь? Какая жестокая пошлая сказка!.. На одном из сфинксов Николай увидел надпись, сделанную черным углем: «Долой самодержавие!». Увидел и огорчился. Из-за сепаратных переговоров с кайзером он выглядел предателем. Псковский вагон и отказ от ожидаемого всеми отречения… Он еще дорого за это заплатит!..
Только недели две в году, в десятых числах июля, Петрополь становился похож на европейский курорт: черная вода Гатчины делалась вдруг бархатной, волны Финского залива, разбивающиеся о Петродворец, смеялись, показывая язык. И даже грязноватый Обводной канал становился похожим на большую купальню для простонародья. Боже мой, да это же не Россия! Это прекрасная культурная страна с мыслящим камнем и говорящей водой, что шепчет сказки детям, когда заходит солнце. В такой стране не должно быть революций. В такой стране надобно жить, а не воевать. Как жалко, что это всего лишь на две недели!.. Весна, осень, зима – самое подходящее время для потрясений.
Ему надо было попасть в начало Кронверкского проспекта, что лежал на Петроградской стороне. Извозчиков не было. За всю экспедицию встретился лишь один экипаж, который не остановился и чуть его не раздавил, несмотря на поднятую руку шпика и крика: «Извозчик!..»
За спиной раздался стук копыт. Государь обернулся. По рельсам ползла конка – вагон на железных колесах, запряженный двумя лошадьми. Почему конка? Ведь начиная с 1912 года в городе исправно ходят трамваи. Электричества, что ли, нет? Даже издалека было видно, что он переполнен, этот вагончик. Николаю вдруг захотелось в него влезть. Нельзя… Раздавят! – сказали ему глаза обеих шпиков. Конка остановилась неподалеку. Николай, запахнув шинель, решительным шагом направился к вагончику.
Из него высыпала серая масса плохо одетых людей. Но, повинуясь логике «вдох-выдох», вода, вылившись на берег, послушала силу отлива и снова потекла в вагонную давку, прихватив с собой государя и десяток ждущих на остановке горожан.
Его вбили, как тряпку в переполненный чемодан. Он с ужасом осознал, что охрана не успела и не влезла вслед за ним. Теперь – только самостоятельное плавание без спасательного круга. Господи, вверяю себя в руци Твои!..
В вагоне пахло чесноком, по2том и махоркой. Николай Александрович вспомнил, как его предупреждали во дворце: берегитесь карманных воров!
А также насильников, убийц, фальшивомонетчиков, скотоложников и дезертиров с фронта. Но весь город теперь, все его улицы и площади был один дезертир с фронта! А разве сам он не дезертир? Государь нащупал в кармане золотые часы с царским вензелем… ничего! Они были на месте.
– Билеты, – пробормотал он. – Где можно купить билеты?..
Он уткнулся носом в перекрещенные пулеметные ленты «Максима». Ими, словно корсетом, был обвязан небритый человек в морской фуражке с надписью «Изяслав».
– Ты что, братишка? Проезд свободный, – сказал матрос, пытаясь оглянуться.
– Это неправильно. Городское хозяйство разорится, если не брать денег за транспорт, – пробормотал Николай Александрович.
– Теперь коммунизм. И никакого хозяйства быть не должно. Даром мы, что ли, на фронте кровь проливали?..
Государь притих. Вот тебе на! В коммунизм попал. В самое сердце смуты. Летел на сахар, а попал в мазут. Поди, и к причастию не допустят, если сознаешься в коммунизме и бесплатном проезде. Говеть придется сорок дней и отбивать тысячу поклонов. Да меня и так не допустят, – сказал он себе, – после того, что совершено в Гельсингфорсе.
– Выпустите меня, господа! – закричал он. – Я хочу сойти!
– А чего лез? – спросили из толпы недобро.
– Я думал, что проезд платный. А бесплатно я ехать не могу. Как законопослушный гражданин – не могу.
– Стоп машина, – обратился кто-то к вознице. – Деду плохо. Умом тронулся.
Вагон остановился. Николай Александрович вывалился из него, как антрекот, одетый в шинель. Оставляя пуговицы и мечты передвигаться по городу не на своих двоих.
– Слава тебе, Боже наш! – перекрестился он на восток.
Полез в карман шинели и не обнаружил там часов. Их вытащили, увели. Это был дурной знак. Значит, революция все-таки происходила. Экспедиция началась с неприятности, которая сулила впереди большой провал. Однако терять было нечего. Степень свободы зависит от глубины поражения. Чем оно крупнее, тем свобода абсолютнее. Его поражение было крупным. Потеря власти и авторитета… что может быть позорнее? Позор развязывает руки. Нищета воспитывает свободолюбие. Нет более зависимых людей, чем богатые и счастливые.
2
На площади возле дворца Кшесинской толпились хмурые бандиты. Поскольку Временное правительство объявило амнистию дезертирам, их жизнь была лишена смысла. Раньше они хотя бы прятались от городовых, а городовые – от них, потому что бежавшие с фронта ходили стаей и справиться с ними могли лишь конные казаки. Теперь же, находясь на легальном положении, жизнь дезертира катилась под уклон. Руки, привыкшие сжимать винтовку, нуждались в цели и действии. Тот человек, который мог бы им показать цель, стал бы сразу значимым в политическом смысле, поскольку в Петрограде в это время находилась чуть ли не половина Западного фронта.
В разных концах небольшой площади люди пели. Слова их песен были незнакомы государю, и он с любопытством слушал их, спрашивая себя: Хороши ли они? Например, эти…
…мрет в наши дни с голодухи рабочий,
Станем ли, братья, мы долго молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?
Если бы Николай Александрович разбирался в литературе и мог бы отличить удавшееся стихотворение от плохого, то он бы, наверное, обратил внимание, что поется не совсем по-русски, что жалостливые слова про эшафот и юные очи, скорее всего, сдернуты с французских аналогов. А были ли при мне эшафоты? – подумал он. Совесть или то, что ее заменяло, ответила: Нет. Какие эшафоты?.. – намеренно забыв о столыпинских «галстуках», с помощью которых удушили смуту двенадцать лет тому назад. Но Петра Аркадьевича не было сейчас под рукой, а самому построить эшафоты не приходило в голову. Потому и шло все вразброд, но с революционной песней.
В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей.
Их имена с нашей песней победной
Станут священны мильонам людей.
И тут же другой конец площади ответил нестройно:
Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь – тяжелый труд.
Но день настанет неизбежный,
Неумолимо грозный суд…
Николай Александрович прослезился. Разве это спето не про него? Разве он не падает с честью во имя идей? Падает. Но какие именно это идеи? Ему пришло в голову, что это – идея семьи, но перенесенной на всю страну. Он – ее глава, но есть еще управляющие, слуги, повара и дворники. Хорошая ведь идея. Что с ней делать? Только пасть под ее тяжестью и самому идти на эшафот.
Мщенье и смерть всем царям-плутократам,
Близок победы торжественный час…
Я не плутократ! – хотелось закричать ему. – Я – просто растерзанный человек на умытой кровью земле!..
С балкона дворца бывшей балерины обрюзгший человек в пенсне что-то кричал, стараясь перекрыть своим слабым голосом мощный музыкальный стон народных масс.
– О чем он? – спросил государь у стоявшего впереди солдата.
– Да разве разберешь? Вон гомон какой… Никто ничего не слышит… Тише вы, собаки! – закричал солдат. – Послушать хочу!..
Его просьбу никто не принял в расчет. Толпа жила своей жизнью, не зависящей от ораторов и не принимавшей их слова на веру.
Долой тиранов, прочь оковы,
Не нужно старых рабских пут!..
– А господин Ульянов выступать будет?..
Солдат пожал плечами. Похоже, что он даже не знал такой фамилии.
Вот те на!.. Да это же обман! Какой дворец Кшесинской? Какой там митинг, если никто не слышит друг друга? Революция глухих и равнодушных… да разве может быть такое? Кто поймет хоть что-то в подобном содоме?
Человек на балконе закричал «ура!» и поднял вверх короткие руки. Ему засвистели и заулюлюкали. Он ушел в комнату, и некоторое время балкон оставался пустым.
Из чего нужно будет формировать новую армию? Неужели из этих уголовников? Деревня истощена. Нового набора она не перенесет. Эти уже развращены агитацией и бездельем. Где та сила, которая сделает из преступника послушного долгу гражданина? Вопрос без решения. Убери меня с этой земли, Господи! Ничего я делать не могу. Не выходит. Совершена ошибка. Нужно было отрекаться, а не ехать в Гельсингфорс. Гражданин тогда был бы убит, но сохранился бы отец, глава многочисленного семейства. Скверно. Но отречься еще не поздно.
На балкон тем временем вышел невысокий человек калмыцкого вида и призвал к чему-то, выбросив вперед правую руку. В первых рядах, те, кто стояли ближе, яростно захлопали. Последние же ряды площади сразу подняли намалеванный лозунг: «Ленин – немецкий шпион!» И где-то сбоку загорелось еще одно невнятное полотнище: «Инвалиды требуют протезы!».
Калмык заискрился от этого хаоса. Обманувшись, что его слышат, он сжал кулаки и неистово погрозил кому-то в толпе. Государю показалось, что грозят именно ему. Он стесненно кашлянул в бороду и оглянулся по сторонам, смущаясь, что другие поняли – побить хотят его одного.
Но тут его ждала новость. Вокруг Николая Александровича оказалось безлюдное пространство. Точнее, народ вдруг отошел к каким-то фокусникам, которые, изображая китайцев, стали тянуть изо рта бумажные ленты.
Это было неприлично, неблагодарно и смешно. Поддельные китайцы, бродяги, изображавшие артистов, перевесили пламенного революционера, и тот на балконе уже осознал свое поражение. За спиной государя захлопали и восторженно закричали – то набеленный пудрой китаец начал жонглировать резиновыми мячами. Хлопавших было трое – двое мужчин и одна женщина, все в широких несвежих шароварах. Рядом с ними стояла медная кружка, в которую они собирали пожертвования.
Пользуясь оттоком зрителей, Николай Александрович протиснулся в первые ряды, почти под самый балкон, и задрал голову вверх.
– …Перерастание буржуазно-демократической в революцию социалистическую! – услышал он голос огорченного калмыка, который слегка картавил, выдавая порочную интеллигентность.
Снова выбросил вперед правую руку и ушел, выполнив свое дело, с балкона. По-моему, я его где-то видел. Причем недавно. Дежавю. Интеллигент. Профессор. Может быть, хороший юрист. Кому нужны юристы? Нам – нет. Нам нужны простые русские люди. Возможно, неграмотные. Знают церковные праздники – и хорошо. Более не надо. А юрист владеет римским правом. Суется туда, куда его не просят. Вредный тип гражданина. Но приходится с ним мириться. Они растут в России, как на дрожжах. И может быть, скоро наступит такое время, когда все в России будут юристами. Последнее наступит время. Безнадежное. Хорошо еще, что юрист не кровожаден. Для него важен лишь титул, колонтитул и буква закона. А нам колонтитул не нужен. Нам живая вера нужна. В Россию и государя императора.
– Кто это был, товарищ? – спросил Николай у матроса, тельняшка которого была порвана на груди, и сквозь нее смотрела татуировка – крест в виде якоря и с надписью «Держи конец!».
– Кому и треска – товарищ, – ответил матрос.
– Это самый главный из них? – поинтересовался царь.
– Теперь каждый – главный, – сказал матрос.
– А где с ним можно переговорить по личному вопросу?
Матрос пожал плечами.
– Учила треска пескаря говорить… Ты кто?
– С фронта. Участник наступления в Барановичах.
– Пехота?
– Артиллерия, – неохотно соврал государь.
– Агитировал или был противу всех?
– Нет, я сам – жертва агитации.
Матрос недоверчиво посмотрел на него.
– Держи конец, – посоветовал он.
– В каком смысле?
– Есть такие, которые держат конец, и есть те, которые его кидают, – туманно объяснил революционер. – А есть люди, которые вообще без конца. А зачем мне нужно в Смольный? Не легче ли будет вызвать его к себе? А если не придет? К себе… Это какая-то рутина. Старое время, которому уже нет места. Пусть кабинет министров позовет его на разговор. А я неожиданно появлюсь во всей своей славе. Нелепица. В горестном поражении я появлюсь. А если прийти к нему с каким-то частным делом? Не как государственное лицо, а как сугубо штатское. Обычный горожанин. По личному вопросу. Он все же власть. Точнее, подобие. Но опасно. Могут убить или арестовать. Но зато это достойный выход из моего позора. Героическая смерть от руки коварного юриста. А как же семья?
– Вот вы, вы!.. – закричал ему кто-то истерическим женским голосом. – Вы бы, что ли, сюда вмешались!..
Государь вздрогнул. Перед ним стояла худая миниатюрная женщина, волосы которой были выкрашены в иссиня-черный цвет. Щеки были намазаны белилами, глаза подведены, выщипанные брови нарисованы… Зачем их было выщипывать? Чтобы потом нарисовать?.. Она была бы похожа на проститутку, если бы не дорогие кольца, украшавшие тонкие руки. Кто с такой пойдет и куда? Разве что в самое пекло!
– Вот вы… Знаете, что расположилось на этаже моего бывшего дома?
Николай Александрович сглотнул. Сомнений не было – это была Матильда. Его Маля, но только усох-шая и безумная, будто отраженная в кривом зеркале.
– На первом этаже моего несчастного дома расположился броневой автомобильный дивизион! А знаете, кто у них главный? Какой-то бандит Агабабов!
– Наверное, товарищ Агабабов, – поправил ее государь, справившись с волнением. – Но вы можете жить на втором этаже… Это даже лучше!
– На втором этаже заседает ЦК большевиков. Я самому Александру Федоровичу писала… И никакого ответа. И Мордухаю-Болтовскому отправляла прошение… И в комитет РСДРП у Калинкина моста ходила!
– Зачем Мордухаю?.. Что может сделать Мордухай?.. – поморщился Николай Александрович, поймав себя на мысли, что имена нынешней администрации ему крайне неприятны.
Керенский ничего не может. Даже помочь несчастной Мале. Значит, гнать его, Керенского! Кто может его выгнать? Ленин. Через него и нужно действовать.
– Я пошла к большевикам и сказала: я – известная артистка с международной славой! Мне полагается жить во дворце. Съезжайте, говорю, с моей жилплощади! А они мне: съедем, когда уберется броневой автомобильный дивизион. Хорошо. Пошла в дивизион и спрашиваю: «Когда вы съедете?» А бандит Агабабов мне отвечает: «Когда уедет ЦК большевиков!..»
Кшесинская не узнала во мне меня. Как грустно! Но почему-то именно ко мне и обращается…
– Даже у собаки есть конура! – продолжала кричать Матильда. – Даже у лис есть норы, а у всемирно известной балерины ничего нет!.. Я вынуждена скитаться по друзьям и есть объедки с их стола!..
– …Ваше величество! Насилу нашли!.. – позади него стоял знакомый шпик с влажным лицом размороженного сала.
– Тише! – государь приложил палец к губам.
– Я вызвал автомотор. Он стоит на углу. Или вы хотите еще здесь остаться?
– Нет. Я уже все понял, – сказал Николай Александрович.
Действительно, на углу стоял «роллс-ройс» с откидным верхом, пригнанный из Зимнего дворца. Перед государем открыли дверцу, спустив на мостовую коврик.
Матрос, с которым он разговаривал, и Матильда Кшесинская увидали, как дезертир садится на заднее сидение роскошного автомотора. Артиллерии всегда большая честь, – подумал матрос. – А моряки? Они не плавают, а ходят. И не купаются, а тонут. Держи конец и отдай швартовые. Семь футов под килем. Ленточки на ветру. Скучно.
Где я его видела раньше? – подумала Матильда Феликсовна. – Дворянин, это заметно по выправке. А глаза печальные, как у побитой собаки. Матка Боска! За что караешь, Господи?.. За что гнобишь?
Ей было нехорошо. Миниатюрная Дюймовочка, экстравагантная полячка, в салоне которой паслась настоящая деревенская коза, превращалась постепенно в бездомную нищенку. И это при трех любовниках из августейшей фамилии… На ее рояле совсем недавно играли Брамса. Дым дорогих кубинских сигар был похож на фимиам. Коза Беата ходила между черных штанин от фраков и гадила тут же в салоне. Ее помет был похож на аккуратные шарики из глины и сена. Кто-кто из гостей наступал на них и падал, поскользнувшись. Но смешливой маленькой Мале, избалованному славой ангелу, уведшей своего первого мужчину из чужой семьи в возрасте четырнадцати лет, прощали всё. На ее грехах лежал отблеск царской порфиры. Только недавно, забредя в свой бывший дом в поисках правды, она услышала, как один матрос сказал другому: «Какая худенькая!.. Ее бы сразу и удавить!..»
…Вечером государь решил позвонить в Смольный институт. С дворцом Кшесинской связи не было вообще.
– Девушка, дайте мне Смольный, пожалуйста.
В трубке раздались шорохи и помехи.
– Смольный слушает, – раздался в трубке усталый голос.
– Могу ли я поговорить с кем-нибудь из членов военно-революционного комитета?
– По какому вопросу?
– По личному.
– Кто спрашивает?
– Романов. Самодержец Всероссийский.
В трубке наступила тягостная пауза. Потом раздался хриплый смех, и связь пропала.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.