Текст книги "Дар речи"
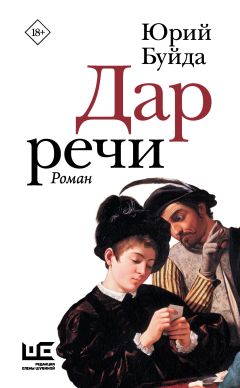
Автор книги: Юрий Буйда
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Левая нога генералиссимуса Сталина
2020
Как это ни удивительно, пробуждение мое было легким.
Вчерашний долгий день, Арсен Жуковский, мертвое лицо Дидима, много крепкого алкоголя, красная от ужаса и злости Грушенька, обожженное лицо Бобиньки, – всё это мучило меня ночью, но утром под душем исчезло, как и не бывало.
Я даже вышел во двор, чтобы выпить кофе и покурить на заснеженной скамейке, размышляя о Джульетте-Юлии Минаковой-Минелли, спящей по соседству тяжелым, но некрепким старческим сном в объятиях юного мерзавца.
Почему ее подозревали в попытке убийства Марго? Жуковский говорил, что та сдала в КГБ родителей Юлии и то ли мужа, то ли брата, если у нее был брат; а может, любовника, их у нее точно было много. Юлия тогда была девчонкой, молоденькой и прелестной, очень гибкой и самонадеянной.
Шаша рассказывала, что даже в старости Джульетта учила ее владеть телом, правильно носить грудь и задницу. А кроме того, она занималась с Шашей французским.
«Она меня замучила согласованием возвратных глаголов, – рассказывала Шаша и продолжала старушечьим голосом, передразнивая учительницу: – Чтобы понять, ставить в конце букву s или нет, которая, разумеется, не произносится, необходимо проделать несколько мыслительных операций. Определить, что за действие обозначает глагол и на кого оно направлено. Что важнее для глагола: субъект, его число и пол – или объект и способ его взаимодействия с глаголом? Если речь о непосредственном касании, тогда без предлога, а если в перчатках – с предлогом. Ну и очень важно место объекта. И только проведя в уме эти операции, можно решать, ставить или нет в конце букву s, которая всё равно, черт возьми, не произносится, а существует только на письме».
Судя по тому, что рассказывал Жуковский, стукаческая активность Марго пришлась на пятидесятые годы, угаснув ко второй половине шестидесятых. Почему же Юлия не попыталась отомстить еще тогда, почему ждала столько лет, прикидываясь чуть ли не закадычной подругой? Ну, не в пятидесятых, когда она была совсем юной, так в шестидесятых, семидесятых. Что случилось, что заставило ее вдруг вспомнить всё и решиться на поступок? Или она ни при чем?
Я поднял голову и увидел на крыльце Шашу. На плечи она накинула чужую большую шубу. Спускаясь по ступенькам, держалась за поручни обеими руками.
– Замерзнешь, – сказал я, – пойдем домой.
– Посидим минуточку – воздух хороший…
Затушив сигарету в ржавой пепельнице, я смахнул снег со скамейки.
– Грушенька уже рассказала?
– Конечно, – сказала Шаша, приваливаясь боком ко мне. – Надо было тебе раньше открыться, но духу не хватало…
Я ждал.
– Девять лет назад я узнала, что Скуратов содержится в психоневрологическом интернате в Подмосковье…
– Значит, ты знала с самого начала, что он выжил?
– Не с самого начала. Это Арто. После того как он отвез нас в Москву, Конрад вернулся в тот дом – и не нашел тела. Нашел следы, много следов. Стало понятно, что Бобинька приехал с группой поддержки, которая пряталась рядом с домом, в осиннике. Они его и спасли. В канистре у Конрада был не бензин, как мы думали, а кислота. Он облил Бобиньку кислотой – лицо, руки. Конрад говорил, что тот только вздрогнул, потом затих… Он выжил, но ему требовалось лечение. Сначала этим занималась жена, потом она устала и сдала его в интернат, в хороший интернат, а когда еще сильнее устала и ушла к другому мужчине, деньги кончились, и Бобиньку перевели в другой интернат. Как он там выживал, ума не приложу… Врачи пользовались больными как бесплатной рабсилой, а медсёстры и санитарки выбирали мужика покрепче и насиловали. Там было что-то инфернальное… Их потом посадили, главврач получил десять лет тюрьмы, но это потом. Я его забрала и поселила здесь…
– Дидим знал?
– Конечно. Он сказал, что не просил убивать или калечить Бобиньку, а просил избавить его от проблемы. Знакомо, да? Начальник высказывает общее пожелание, подчиненные расшифровывают его послание в меру своего ума, но в рамках образа, созданного начальником… Ну, значит, я оказалась в дурах, как всегда… Впрочем, он не возражал, поставил лишь одно условие: чтобы Бобинька не доставлял ему никаких хлопот. Ну и чтобы он никогда не слышал его имени. Нарцисс…
Я обнял ее за плечи.
– Боюсь тебя всю жизнь, – сказала она. – Ну ведь странный страх какой-то, согласись? Ты совсем не праведник, но боюсь тебя. Всю жизнь не верила, боялась верить…
– Мне?
– Себе, конечно. Я красивая, умная, незлая, ёбкая – любить меня можно, еще как можно, но терпеть всё это… Как ты терпишь? Ты странным образом воплощаешь необсуждаемую норму, нормальность как таковую… в хорошем смысле, конечно… видишь, в эпоху психов и гениев об уважении к норме трудно говорить, не извиняясь… но не понимаю, как тебе это удается, это выше моего ума… Что? Я сейчас цитирую? Кого?
– Любовь есть мир превыше всякого ума – это, Шаша, вольный пересказ Нового Завета.
– Not guilty![24]24
Я тут ни при чем! (англ.)
[Закрыть]
– Кстати, – сказал я, – а Бобинька может говорить?
– Более или менее, но скорее – менее.
– Бог мой, и он больше двадцати лет молчал? Не донес?
– Я как-то спросила его об этом, но он только усмехнулся.
– Это ж ад.
– Теперь мы все в этом аду.
– А как насчет бумаг? По бумагам он всё еще в психбольнице или как?
– Я – официальная опекунша. Всё оформлено, с печатями и подписями. И не очень дорого. Обычно стыд обходится дороже.
– Стыд?
– Ну, страх…
– Пойдем-ка в дом, ты замерзла.
– А ведь сегодня – годовщина у матери…
– Хочешь съездить к ней?
– Накормлю этого нарцисса, и съездим. И еще… Так будем звонить Югу или нет? Или сама идея тебе кажется дикой? Мне – кажется, но иного выхода я не вижу.
– Я же тебе рассказывал, что́ грозит Дидиму, если он во всём признается, покается и так далее. Не так уж и страшно, а при его деньгах и связях…
– Но он же молчит как каменный истукан!
– Не пора ли его в больницу?
– Вот к этому я сейчас точно не готова. Всё еще надеюсь, что он перевернется, ударится оземь и заговорит.
Чтобы добраться до могилы Глазуньи, мне пришлось хорошенько поработать лопатой – надо было расчистить тропу длиною метров двадцать. Я разгреб снег у ограды – и только тогда понял, что же было не так с могилой. Теперь рядом с надгробием Ольги Немиловой стояла плита с именем Петра Нифонтова, Петрундия, ее первого и последнего мужа.
– В позапрошлом году поставили, – сказала Шаша, подошедшая сзади. – Ты когда здесь был?
– Да когда ее хоронили…
– Хочу заменить два памятника одним – и написать на нем «Филемон и Бавкида».
Я очистил от снега скамейки и столик, и мы с Шашей помянули ее беспутную несчастную мать и мужа, которого в Новой Жизни и окрестных деревнях все называли только Петрундием, охламоном и обалдуем.
– Хочешь одна побыть?
Шаша не ответила.
Я вернулся к машине.
Шаша долго не знала, что этот обалдуй – ее отец.
Он был маленьким, кривоногим, жилистым, тупым, косноязычным, некрасивым – нос сапожком, рябой, лопоухий, за всю жизнь прочел только одно литературное произведение – устав караульной службы, когда служил в армии.
Вернувшись с действительной, устроился на тот же завод стройконструкций, где с четырнадцати лет был подручным кузнеца. С первой же получки напился, пришел домой на ходулях, у крыльца упал и сломал руку.
Но прославился он после того, как попытался завладеть ногой Сталина, чтобы продать ее подороже.
Памятник Сталину стоял в пристанционном поселке. Весенней ночью шестьдесят первого года памятник свалили, разрезали на части и повезли на станцию кружным путем, чтобы отправить в переплавку. На разбитой дороге грузовик перевернулся, куски бронзы рассыпались, один из них закатился в овраг, залитый доверху дождевой водой, и увяз в грязи. Его попытались вытащить из оврага, но время поджимало – махнули рукой и забыли. И много лет об этом куске не вспоминали.
Возвращаясь как-то после пьянки из пристанционного поселка, известного шалавистыми бабенками, Петрундий упал и скатился в овраг, а когда очнулся, увидел перед собой огромный сапог. Ковырнул – под грязью оказался чистый желтый металл. Петрундий понял, что это тот самый сапог Сталина, который потерялся при перевозке. Сапог великого вождя, часть памятника, поставленного при жизни Сталина. Петрундий понимал, что такие памятники делают из золота, только из самого чистого золота высочайшей пробы. На этот сапог пошло, наверное, полтонны золота. Это было сокровище, клад, богатство, и Петрундий не мог упустить такой шанс.
Ему удалось вовлечь в эту авантюру дружков-собутыльников, которые нашли трактор, подъемный кран и грузовик, чтобы вытащить сапог из вязкой грязи, погрузить в машину и доставить во двор двухэтажного дома, где жили родители Петрундия. При помощи подъемного крана, выбив часть стены с окном, бронзовую ногу доставили на чердак. Петрундий укрыл сапог брезентом, выдал мужикам ведро самогона и выпроводил вон, кое-как залатал дыру в стене, заперся на тридцать три замка и три щеколды, выключил свет, лег на полу рядом с сокровищем, глотнул самогона, и из глаз его потекли слёзы счастья.
Около месяца он искал покупателя, и всё это время сталинский сапог лежал посреди чердака, перегораживая помещение из угла в угол. Из-за этого сапога Петрундий не мог добраться до лежанки, поэтому спал на полу. Но это его ничуть не смущало.
Участковому милиционеру Митрофанову, который попытался было выяснить, не является ли владение сталинским сапогом актом посягательства на социалистическую собственность, Петрундий выставил ведро самогона, пообещал долю в доходах и пригрозил порчей, которую запросто могла наслать на него шалава Сонька Дайка из пристанционного поселка, известная ведьма с шестью пальцами на левой ноге.
С утра до вечера на небритой его физиономии сияла пьяненькая улыбка. По ночам он подсчитывал будущие барыши. Обедал чем придется, а ужинал и вовсе самогоном, репчатым луком и холодной вареной картошкой, которую макал в соль. Глаза его ввалились и покраснели, нос заострился, щетина не поддавалась бритве – Петрундий ушел в мечту весь, целиком, физически и душевно, и так был уверен в будущем богатстве, что даже не лез в драку с теми, кто над ним насмехался.
Наконец он договорился о цене сапога с Мишкой Гохманом из заготконторы, и позвал собутыльников, чтобы вытащить сапог во двор, где ждал грузовик. Десятеро мужиков, крепко выпив для силы и помогая себе красным русским словом, подняли сапог, но не устояли – их повело к окну вслед за тяжестью, пол под ними крякнул, захрустел и провалился, увлекая за собой жилище Петрундия и квартиры снизу, дом накренился, и одна стена обрушилась вместе с людьми, кошками, кроватями, печками, комодами, швейными машинками и кастрюлями…
Когда пыль осела, люди увидели гору битого кирпича, бревен, досок, штукатурки, из-под которой доносились стоны и крики о помощи.
Соседи, пожарные, милиционеры бросились разбирать завалы.
К вечеру выяснилось, что под рухнувшими стенами и перекрытиями погибли три кота и мечты Петрундия. Сам же он – уцелел. Исцарапанный, окровавленный, обоссавшийся, весь в синяках и порезах, в лохмотьях, босой, он остервенело рылся в мусоре, подвывая, блюя и кашляя, и всё пытался добраться до драгоценного сталинского сапога, и всё кричал и вырывался, когда его тащили к машине скорой помощи, и всё плакал навзрыд, пока ему не сделали укол успокоительного…
После женитьбы и рождения ребенка он вроде бы затих, но вскоре снова запил, и пил так, что однажды, набравшись до чертиков, нечаянно спас из огня семью Пахомовых – вынес на себе старуху с прялкой, женщину с тремя детьми, двух кошек и телевизор, после чего добавил и лег спать. Очухавшись, ничего не мог вспомнить, и только недоверчиво качал головой, когда ему рассказывали о его подвиге. А вскоре Петрундия в торжественной обстановке наградили медалью «За отвагу на пожаре». Председатель райисполкома назвал его героем, начальник пожарной охраны вручил почетную медную каску с гребнем.
На радостях Петрундий пил три дня, шатался по Левой Жизни в медной каске на голове и с медалью на лацкане пиджака, распевал похабные частушки и лез в драку, а когда закончились деньги, продал каску цыганам, чтобы было на что опохмелиться.
После этого Глазунья выгнала его вон и устроилась в дом Шкуратовых помощницей по хозяйству. Не прошло много времени, как привлекательная молодая женщина стала наложницей Папы Шкуры. Он был нежадным человеком и не раз помогал деньгами Глазунье, если та жаловалась на бедность. Шаша донашивала вещи хозяйских детей, а потом помогала матери – и со временем стала частью семьи Шкуратовых…
Шаша старалась держаться подальше от Петрундия, да и он ей не докучал.
Примирение произошло неожиданно.
Когда я впервые ее увидел в доме Шкуратовых, Глазунья еще не знала, что больна. Тогда, заметив пристальный взгляд матери, следившей за Глазуньей, я решил, что это ревность. Это и была ревность, но был и профессиональный интерес. В следующий наш приезд в Правую Жизнь мать отвела Глазунью в сторону и довольно долго донимала ее расспросами. Прощаясь следующим утром со Шкуратовым-старшим, она сказала, что у Глазуньи прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, точнее, заболевание экстрапирамидной моторной системы, а попросту говоря – болезнь Паркинсона. Папа Шкура помрачнел.
Глазунья отмахнулась от этих разговоров, но болезнь прогрессировала быстрее, чем ожидалось, и через четыре года она была вынуждена уйти от Шкуратовых. Борис Виссарионович, однако, помог ей с лечением в Центральной клинической больнице, что в те годы было равносильно полету на Марс. Глазунье сделали таламотомию, дрожь почти прекратилась, но нахлынули осложнения – и она стала почти беспомощной. Однажды Петрундий поднял ее у магазина, отнес домой – и остался с ней до конца.
После смерти Глазуньи Петрундий протянул недолго; его похоронили рядом с бывшей женой.
– Они часами сидели на скамейке во дворе, – вдруг заговорила Шаша, когда мы возвращались с кладбища в Правую Жизнь, – и держались за руки. Он шепотом пел ей матерные частушки и гладил по голове, а она целовала его руки. Филемон и Бавкида, бля! Но Петрундий, а? Готовил, стирал, полы мыл – и не ныл. Ее трусы и лифчики стирал! Я ему деньги, продукты, а он говорит: «Да у нас всё есть, ангел Сашенька. Была бы душа – всё и будет». Прям какой-то Платон Каратаев! Раскольников на каторге! Мать Тереза! Лапоноид, бля! Притащил из какого-то разорившегося ателье дверь с табличкой «Цех плиссе и гофре». Повесил ее на дворовый туалет, спрашивает, когда я двинулась туда: «Ты там что собираешься делать – плиссе или гофре? Если гофре, возьми туалетную бумагу». Он же всю жизнь спинным мозгом обходился, а в спинном мозге никакой души нет – только спинномозговая жидкость, ликвор спиритус идиотус! Хватит хихикать!
– И ты еще спрашиваешь, откуда взялся Бог, – сказал я.
Ужинать мы решили наверху, в компании Дидима; он к этой идее отнесся как к любой другой: никак. Изредка кивал, не снимая наушников, и всё.
– Не удивлюсь, – сказала Шаша, – если он слушает письма. Давным-давно мы с ним на два голоса записали последние оставшиеся письма. Он читал за деда, а я – за бабушку. Тогда эта запись хранилась на кассете, потом он перевел ее в цифру…
– У меня есть их копии, – сказал я. – Копии этих двух писем.
– И как тебе удалось их раздобыть?
Она была явно удивлена.
– Сфотографировал. Ему было не до того – он тогда разводился с чешской фифой.
– Милена, – сказала Шаша, – вторая жена. Иногда мне казалось, что женился он на ней только потому, что она тезка невесты Кафки.
– У меня не сложилось впечатления, что он ценитель Кафки…
– Это да. Но читал и знал – всё про всё. Как-то сказал, что сегодня в гоголевскую шинель набилось столько бесталанных идиотов, что она уже напоминает шкуру дохлой собаки, кишащую блохами. Современная литература, говорил он, не глубоко проникает, а плотно прилегает. Согласись, чтобы это сказать, надо хоть сколько-нибудь знать предмет. А как-то я брякнула, что все эти софоклы, данте и шекспиры – пустой звук, они мертвы для современной культуры. Они не умерли, сказал он, они заговорили на другом языке, которого мы пока не понимаем; может быть, это связано с нынешним кризисом культуры, может быть, кризис можно преодолеть, если мы этот язык поймем…
– И при всём при том считал, что Бальзак и Драйзер полезнее для русского человека, чем Пушкин или Фолкнер!
– Потому что русский человек не чувствует душу денег…
– Душу?
– Нельзя стремиться к богатству – и всей душой презирать деньги. А всё, что входит в круг жизни человека, становится отпечатком его души.
Я кивнул на Дидима.
– Отпечаток молчит и дует вискарик.
– Кстати, а зачем тебе эти письма?
– Как-никак я член семьи, хотя и sinister[25]25
Здесь: незаконнорожденный, бастард. (англ.)
[Закрыть].
– Хм…
Я приготовил стейки из семги, соорудил салат с помидорами и открыл бутылку белого.
Однако вино мне пришлось пить в одиночестве: Шаша предпочла минеральную воду без газа, а Дидим по-прежнему цедил виски.
– А на десерт у нас вопрос, Дидим, – сказала Шаша, вытирая губы салфеткой. – Что же нам делать с этой девчонкой, которая лежит в холодильнике? Ее зовут Ольга Куракина, она местная. Мать расклеила повсюду объявления с ее фотографией и раздает всем листовки. Она лежит там и медленно разлагается…
Дидим молча смотрел на Шашу.
Только сейчас я заметил, что бреется он, как и прежде, каждый день, и содрогнулся при этой мысли.
– Выход есть, – сказал я, – вернее, их несколько. Первый и очевидный – bona fides[26]26
Честные средства. (лат.)
[Закрыть]: мы звоним в полицию и выкладываем всё как на духу. В этом случае ты получишь два-три года колонии с возможностью условно-досрочного освобождения. Плюс штраф за надругательство над мертвым телом. Я имею в виду твои выстрелы в труп. Ну и, конечно, в полиции и на суде придется насчет этих выстрелов объясняться: закон считает, что нормальный человек поступить так не может, поэтому на всякий случай будь готов к психиатрической экспертизе. Шаше в этом случае грозит, думаю, условный срок как соучастнице. – Я сделал паузу. – Второй вариант – falsum fides[27]27
Ложные средства. (лат.)
[Закрыть]: нанимаешь лучшего адвоката за любые деньги, сдаешься полиции и пытаешься доказать, что девчонка была уже мертва, когда ты к ней подъехал. Остальное – психология: вместо того, чтобы звонить в полицию, ты в состоянии аффекта, вызванного шоком, погрузил ее тело в машину и отвез в свой дом. Потом несколько дней душевных терзаний, метаний и тому подобной мути, и вот ты созрел для объяснений с правоохранительными органами, всё осознал и раскаиваешься в том, что сразу не обратился в полицию, а повел себя как дурак. Огнестрельные ранения не имеют к тебе или Шаше никакого отношения – стрелял в нее кто-то другой, тот, кто убил ее и покинул место преступления. В этом случае всё оружие в доме предварительно следует, конечно, уничтожить или спрятать. Поскольку ты каждый день бреешься и принимаешь душ, а также пользуешься хорошими кремами для кожи, о следах пороховых газов, думаю, можно не сильно беспокоиться. Но одежду, в которой ты тогда был, придется сжечь. Всю, вплоть до носков и трусов. Твою тоже, – добавил я, обращаясь к Шаше. – Ну и третий вариант, о котором я говорю только потому, что он существует, – criminalibus fides[28]28
Преступные средства. (лат.)
[Закрыть]: нанимаешь надежного человека, хорошо платишь ему, чтобы он закопал тело где-нибудь в лесу или лучше сжег, а потом обеспечиваешь молчание этого человека. Тут два варианта: ты ему доверяешь либо полностью, либо отчасти, а если отчасти, то его молчание, возможно, придется покупать всю жизнь. Или после дела ликвидировать этого надежного человека, чтоб потом не мучиться, но это придется делать своими руками, и тело прятать своими же, и делать всё это в одиночку, без свидетелей и соучастников, чтобы избежать die Schlecht-Unendliche[29]29
Здесь: бесконечный тупик. (нем.)
[Закрыть], – неожиданно для себя завершил я свою речь.
Дидим несколько мгновений смотрел сквозь меня, потом вдруг резко отвернулся и лег на диван спиной к нам.
– Ты болен, – сказал я в его спину, – но дара речи не утратил, и рано или поздно заговоришь. Лучше раньше, потому что в противном случае твой мозг просто взорвется, Дидим. Без речи ты – ничто, без речи ты – белковый бипед, брат. – Повернулся к Шаше. – Помоги, пожалуйста, убрать посуду.
– Ага, – сказала Шаша, – только дай мне минутку, чтобы прийти в себя. Белковый бипед?
Я развел руками.
Когда мы легли в постель, Шаша вдруг спросила:
– Ты ненавидишь его? Презираешь? Он заслужил, и я его не стану защищать…
– Я им – восхищаюсь, и всегда восхищался. Я ведь был нищим, когда встретил его… и тебя… нищим не в смысле денег…
– Это я понимаю.
– Встреча с ним изменила меня…
– И это я понимаю.
– В нем было и осталось что-то от великолепного Дон Жуана, который соблазняет всех, без различия пола, какое-то дьявольское обаяние, ум и обаяние, и даже его холод и его цинизм были совсем не такими, как у всех тех циников с холодным сердцем, которых я встречал, а встречал немало, поверь авдокату. Он был какой-то озаренный, из него перла сила, воля, уверенность… словно внутри него, где-то между сердцем и желудком, горела неугасимая свеча… он умел так подчинить человека, что тот становился выше… Помню, он как-то сказал об отце, что тот, как и все шестидесятники, принадлежит к числу неотпетых мертвецов, но я люблю его, сказал он, и это мое презрение к нему – лишь часть моей любви. Тогда я это принимал, но не понимал; сейчас понимаю, но не принимаю, потому что любовь не может, не должна вмещать в себя презрения или ненависти… но ведь и он изменился – и как! В общем, я стал таким, каким стал, во многом благодаря ему. От него веяло таким веселым родственным доверием, которое нельзя почувствовать и не измениться… Знаешь, я менял к нему отношение раз сто, наверное. Какое-то время я считал его неспособным к любви. Эта его отстраненность, этот смешливый изгиб губ… а потом как-то увидел, как Марго на него смотрит, и понял, что он для меня – невидимка, которого можно увидеть только в зеркале – в других людях… невидимка проходит мимо зеркала – и вдруг становится видим, а через миг снова исчезает… человек, не содержащий в себе любви, не может быть любимым, что бы там ни говорили романтики… он – такой, небесследный человек… уходит навсегда или на минуту – всё равно, а след – нестираемый отпечаток чего-то значительного, важного – остается… как бы это выразиться… даже когда забываешь его, он остается где-то глубоко внутри, как тайна… – Я перевел дух. – Ну и потом: как бы я жил, если бы благодаря ему и его друзьям так и не узнал, что такое датский поцелуй, оксфордская запятая и кубинская пятка?
– А что такое датский поцелуй?
– Не губами, а всем ртом, словно хочешь сожрать партнера.
– И как это работает?
– Тогда терпи…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































