Текст книги "Дар речи"
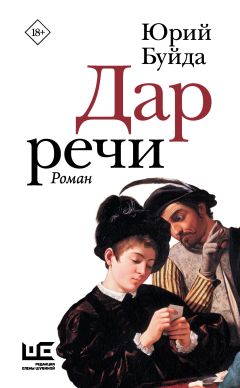
Автор книги: Юрий Буйда
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Семь минут
1991
22 августа 1991 года на Лубянской площади был снят с пьедестала памятник Дзержинскому, и в тот же день в своей квартире застрелился министр внутренних дел Борис Пуго, человек одинокий, замкнутый, лишний – вроде Евгения Онегина или Чайлд Гарольда.
Эти упоительные события веселили кровь, которая ударяла в голову пуще водки.
В толпе на Лубянской площади было много знакомых. Папа Шкура предложил продолжить праздник на даче в Правой Жизни. Мы набились в три машины и помчались на запад, замедляя ход на проспектах, на которых клубились толпы растерянных и веселых людей.
Папа Шкура, Дидим, моя мать и я ехали в первой машине – в той самой черной «Волге» с волшебными номерами, на которые теперь никто не обращал внимания.
Дидим всю дорогу подначивал отца, декламируя манихейский канон советского марксиста: «В мире существуют два начала и две силы, чужеродные, противоположные, никак не связанные и не имеющие ничего общего, – Свет и Мрак. Свет представляет собой нерасторжимое единство, его персонификация и активное начало – верховное божество. Его имя – Сталин, он же – Бог-отец. Страна Сталина есть обитель покоя, характеризуемого как единство, гармония и согласие. Сталин полностью благ – он не знает никакого зла. Противоположная Свету сила – Мрак. Его активное начало и персонификация – Троцкий, он же Грех и помысел смерти. Он бездуховен, лишен блага и гармонии, его творения безобразны. Троцкий беспокоен и агрессивен, его силы извечно заняты борьбой друг с другом. Пространственно Сталин и Троцкий расположены вертикально один относительно другого. Сталин пребывает “в высоте”, Троцкий – в самой нижней части вселенной, “бездне”…»
– А вот вообрази, что вместо Сталина в сорок первом во главе страны – Троцкий, – сказал Папа Шкура. – Войну мы точно проиграли бы…
Но уверенности в его голосе не было.
Шкуратов-младший уже создал еженедельник, за которым по утрам выстраивались очереди у газетных киосков. Им восхищались, ему завидовали, его ненавидели, западные журналисты брали у него интервью и наперебой цитировали его фразу: «Наша газета не пропаганда, наша газета – это бизнес». Начинался взлет Дидима к вершинам славы.
Однако в те дни моя слава, как ни смешно, соперничала со славой Дидима, хотя моя – была нечаянной и носила, так сказать, довольно узкий характер.
Уже на четвертом курсе университета я стал работать в адвокатской фирме «Шехтель и Дейч». Устроился я туда благодаря Папе Шкуре, который дружил с Максом Шехтелем. Его партнер Михаил Дейч отнесся ко мне благосклонно: «Шрамм – хорошая фамилия. Илья? Элиас… Эли Шрамм – хорошее имя для хорошего еврейского адвоката. Ну-ну, я знаю, что ты не еврей, но тебе придется стать им, или ты не станешь хорошим адвокатом».
Весной к нам обратились англичане, которые хотели открыть в Москве ночной клуб. Тогда это была совершенная новость. Англичане договорились с администрацией кафе «Стрекоза и Шмель» об открытии клуба, но никто не знал – ни англичане, ни наши, – что такое совместное предприятие, как составляются устав и учредительный договор, как происходит регистрация, какие надо получать разрешения, как ведется внешнеэкономическая деятельность, кто в совместном предприятии должен отвечать за арендные договоры, заключение договоров с поставщиками, покупателями, вообще за любые формы договоров на российском рынке – от установки телефонов до покупки картошки, а кто – за менеджмент и поставку оборудования. Напитки, пепельницы, зубочистки, салфетки – всё везли из-за границы. Ну и, разумеется, нужна была охрана – рэкет в Москве стал привычным и распространенным явлением; Бобинька по-дружески привел к нам частную охранную фирму, состоявшую из бывших офицеров Конторы.
К тому времени я свободно владел английским, а один из англичан привез книжку – нечто вроде руководства для чайников, собирающихся заводить свое дело. Оставалось наложить западные рекомендации на советские законы, но это и оказалось самым трудным. Скажем, одно из разрешений, которое мне пришлось выбивать, нам выдал КГБ СССР… Летом клуб открылся, а я стал штатным консультантом совместного предприятия – Дейч сказал, что и не сомневался в моих «еврейских способностях».
На открытие заведения я пригласил Дидима, Шашу и всех остальных. Конрад отплясывал на стойке в обтягивающих кожаных черных штанах на пару с каким-то красивым мальчишкой, Шаша и Алена под аплодисменты и восторженные крики спели «Девушку из Нагасаки», а моя мать была хороша как никогда и напропалую кокетничала с Дидимом. Мне даже показалось, что между ними возникла какая-то близость, но тогда я не придал этому значения.
Один клиент нашей адвокатской конторы – старик-фронтовик – рассказывал о правиле семи минут: противник еще не пришел в себя после артиллерийского удара и боится высунуться из укрытий, не понимая, будут еще стрелять или нет, – и вот тогда, в этой семиминутной паузе, пехота бросается в атаку, следуя за огневым валом. «Успех обеспечен, – сказал старик, – если командиры воспользуются этими семью минутами; а если нет, атака может и захлебнуться». И Дидим, и я, и тысячи таких, как мы, бросились в атаку за огневым валом истории – и победили. Кто ж тогда знал, что это была победа в сражении, но не в войне…
Стол на даче соорудили на скорую руку, но еды и напитков было, кажется, даже с избытком. Много пили, много ели, много курили – и говорили. Поднимали тосты за свободу, новую жизнь и ленинские нормы жизни. Дидим поднял бокал последним, отвечая на реплику отца, который назвал его газету сектантской, снобистской, для избранных, что, по мнению Папы Шкуры, непременно приведет к окукливанию в узком круге либерально настроенной интеллигенции, если газета не обратится к массам, а не к тем немногим, кто не пугается, услышав слова «экзистенциализм» или «дериватив».
– Мы создали еженедельник, но это только начало, – сказал Дидим. – Скоро у нас появятся журналы о политике, бизнесе и культуре, потом, возможно, своя радиостанция, а может быть, и телеканал. Это будет медиахолдинг, которому обеспечен успех, – я в этом убежден. Ты прав, мы обращаемся не к массам, а к тем немногим, кто хочет нас услышать и слушать. Мы не будем кричать, чтобы нас услышали в задних рядах. Мы будем говорить обычным голосом, чтобы нас услышали свои и те, кто захочет стать своими. Мы произносим заклинания для тех, кто понимает нашу абракадабру. Может быть, наш язык пугает читателя, но наш читатель хватается за словарь, а не за револьвер. Наш заумный язык – новый звук, зовущий новый смысл. Мы попытаемся придать смысл бесформенной массе читателей, вызвать своих, воздействуя на них правдой магии. Конечно, речь идет о шифре, который понимают только отправитель и получатель, то есть о языке с переменными значениями, не поддающемся взлому при помощи логики и математики. Но «дыр бул щыл» и «узкие совы, желудеющие по канаусовым яблоням» на наших глазах становятся дырой в будущее, тем, что обязательно случится в России. Наши слова построят мосты в неизведанные области. Мы перепишем Россию вместе с ее историей, святыми и царями. Нам нужно подавить не Сталина в себе, но дух Толстого и Достоевского. – Он перевел дух. – Что ж, христиан тоже поначалу называли сектантами, а их язык – заумью, но этот язык завоевал мир. Речь дарована нам Господом, а не властью, не людьми, и потому должна быть свободна, как дыхание, океан или поток кипящей спермы. Я безусловно верю, что так и будет. Мы пойдем по всему миру, сеятели и жнецы, и мы знаем, что́ взойдет на этих землях – новая Россия, Russia Inter– national, растворяющаяся в мире, как сахар в воде. Мы ни в чем не уверены, но полны решимости. Шшаах!
И все его друзья и их друзья, всегда относившиеся к пафосу скептически, вскочили и, как это было принято среди «наших», громко разом прошипели:
– Шшаах!
И огненная вода хлынула потоком.
Я пил и ел, как все, и не сводил взгляда с Шаши, которая ни на шаг не отходила от Дидима, – заразное всеобщее возбуждение превратило красавицу в богиню.
Все напились. На полу в гостиной расположились со своими дружками и подружками Конрад, Бобинька и толстячок Минц-Минковский. Дидим исчез; мать я не видел после того, как она выпила четвертую или пятую рюмку коньяка. Глазунью Шаша повела домой, в Левую Жизнь.
Папа Шкура со стаканом в руке попытался осилить лестницу, но дальше первой ступеньки шагнуть не смог. Я подставил плечо, и мы кое-как поднялись на второй этаж.
Дверь в комнату Дидима была приоткрыта, в щель пробивался свет.
Шкуратов-старший толкнул дверь, шагнул, еще раз шагнул – и замер.
На широком диване лежали двое: Дидим – у стены, ничком, посапывая в подушку, Елизавета Андреевна Шрамм – с краю, свесив прекрасную ножку почти до пола. Ее голое плечо круглилось в полутьме над одеялом, а волосы свешивались на влажный лоб.
Заслышав шаги, она открыла глаза и протянула руку Папе Шкуре; тот взял ее и замер, сгорбившись, не выпуская стакана из левой руки. Ему не было шестидесяти, но в эту минуту он казался горьким стариком.
У меня заложило уши – я не расслышал, что Папа Шкура сказал Елизавете и что она ответила ему.
Я спустился во двор и закурил печальную сигарету.
Мальчику Шрамму было стыдно за мать, мужчине Шрамму было жалко обоих – и мать, и ее старого любовника.
Из темноты возникла Шаша, села рядом со мной, взяла у меня недокуренную сигарету, затянулась.
– Поздно уже. Соседка уехала к друзьям, ключ у меня.
И я поплелся за нею.
Обходя дом Минаковой-Минелли, чтобы попасть к парадному входу, мы задержались у застекленной веранды.
– Пойдем сюда, здесь короче.
Шаша отперла веранду и ступила на порог.
Внутри было темно.
Свет уличного фонаря мягко обрисовывал какие-то человеческие фигуры, сидящие в креслах и скрытые белыми чехлами.
– Она коллекционирует ростовые куклы, – сказала Шаша. – Ее величайшее сокровище. Но рассказывать об этом она не любит.
– Восковые фигуры?
– Да нет, из пластика, тряпок и дерева, если не ошибаюсь. Однажды она показала мне парочку – обалдеть как красиво. Они одеты в такие костюмы – взгляда не отвести. Вышивка, парики, перчатки, серьги, шляпки – от придворных дам времен Екатерины Великой до фрейлин последней царской семьи…
– Это ж каких денег стоит!
– Вроде бы ей их подарили. Сначала три, потом еще сколько-то. Две или три купила на свои. Но там до́роги не сами манекены, а их одежда.
– Зачем держать их дома? Придурь?
– Она среди них отдыхает. Садится между ними в креслице, пьет чай, курит и воображает себя, наверное, одной из них…
– Жутковато…
– Да уж, как среди мертвецов.
– Ну что, посмотрим?
Я развязал шнур, которым была перевязана ближайшая фигура, и снял чехол.
– Божечки боже, – сказала Шаша.
– Вот черт, – сказал я, – это же безобразная герцогиня!
Одно дело – смотреть на портрет безобразной герцогини Квентина Массейса, другое – когда из полутьмы на тебя взирает скульптурный портрет, тщательно вырезанный из дерева, проработанный до мельчайших деталей и раскрашенный так же, как лицо на холсте. Лицо, руки, большая дряблая грудь, поднятая корсетом, огромная верхняя губа, короткий вздернутый нос с огромными ноздрями, морщины, волосатая бородавка на щеке, большущие уши, роза в руке, глаза, светящиеся умом, – безобразная и невероятно притягательная уродина в двурогом чепце с белой вуалью и золотой брошью, украшенной жемчугом и бриллиантами…
– Я ничего не понимаю в работе скульптора, но сколько ж он времени потратил, чтобы вырезать все эти детали, а потом еще и оживить это лицо и глаза красками… И зачем? Скульптурная копия живописной работы – зачем?..
– Надо у Алены спросить, – сказала Шаша, – она ж у нас теперь дипломированный искусствовед, специалист по барокко. Но вообще-то женское безобразие влекло многих художников, например, Леонардо…
– И это безобразие должно стоить очень-очень дорого!
– Джульетта как-то упоминала мужа – то ли скульптора, то ли живописца, в общем, гения – жизнь которого оборвалась в расцвете сил и всё такое.
– Их тут одиннадцать, – сказал я, пересчитав куклы.
– Двенадцать. Одна на реставрации.
– И кем же Джульетта воображает себя, когда пьет чай с этими существами? Иисусом? Иудой? Кто там заменил Иуду?
– Матфей. Может, оставить тебя наедине с этой куклой?
– Мы оба тут лишние.
Мы вошли в дом, поднялись в спальню, я включил свет, Шаша – выключила.
Едва начало светать, мы вернулись к Шкуратовым.
Я не хотел, чтобы Шаша узнала о Дидиме и моей матери, но меня не оставляло ощущение, что ей что-то известно. Я одергивал себя, обвиняя в паранойе, но то и дело ловил на себе ее взгляд, задумчивый и как будто тревожный. Неужели, думал я, ее смирение дошло до таких низин самоотречения, что она помогла Дидиму затащить Елизавету Андреевну в его постель? Да нет же, этого не могло быть, потому что не могло быть никогда, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо. Но подозрения только усилились, когда она обменялась взглядами с Дидимом и Папой Шкурой, которые встретили нас в кухне.
– Кофе? – спросил Дидим, глядя мне в глаза.
– Лиза ничего не говорила тебе, Илюша? – спросил Шкуратов-старший. – Когда она собиралась домой? Она тебе говорила?
Он впервые назвал меня уменьшительно-ласкательным именем, сразу сбив с толку, и я только покачал головой.
Шаша внимательно посмотрела на меня.
– Давно ее нет? – спросила Шаша.
– Давно, – сказал Дидим.
– Утром никто ее не видел, – сказал Папа Шкура.
Только он не скрывал тревоги, остальным это хорошо удавалось.
О причинах ее внезапного исчезновения никто не проронил ни слова.
– Может, она сейчас едет домой, – нерешительно сказал я. – Может, уже дома. Не звонили?
– Удобнее это сделать тебе, – сказала Шаша.
Папа Шкура проводил меня в кабинет, где стоял телефон.
Я набрал номер, но никто не отвечал.
– Может, еще не приехала, – сказал я, опуская трубку на рычаг. – Или сразу на работу поехала.
За дверью раздался короткий негромкий крик.
Папа Шкура выглянул в гостиную.
Дидим держался рукой за щеку, которая стремительно краснела, а Шаша смотрела на него с холодным интересом.
– Я не призываю тебя к лицемерию, – сказала она, – но хотя бы сделай огорченный вид.
– А это поможет?
Дидим попытался схватить ее за руку, но Шаша увернулась и вышла из гостиной.
– Надо звонить, – сказала Папа Шкура. – Через каждые десять-пятнадцать минут. – Он перевел взгляд с сына на меня. – Если не возражаете, этим займусь я.
И посторонился, пропуская меня в гостиную.
– Извини, – сказал Дидим, когда Папа Шкура закрыл дверь за моей спиной. – I’m fucked, брат.
Я пожал плечами.
Дидим вышел.
Папа Шкура выглянул из кабинета.
– На работе ее нет. Но у нее сегодня библиотечный день. Может, пора звонить в милицию?
– В милицию? – Я посмотрел на него с ужасом. – Вы что, думаете, что она… что ее…
Он захлопнул дверь.
Я беспомощно огляделся – на полу валялись какие-то тряпки, женская сумочка, пустые бутылки – и вышел во двор.
День клонился к кошмару.
Папа Шкура через каждые десять минут звонил на Якиманку – Лиза не отвечала, звонил в институт – там о ней ничего не знали, звонил в милицию – там требовали заявления от родственников о пропаже.
Я курил во дворе, пил кофе в кухне, а после обеда заснул в гостиной на диване.
Вечером позвонили из милиции, Папа Шкура позвал меня к телефону.
– Илья Борисович, вы могли бы приехать в Старое Новое? Поскольку вы являетесь единственным известным нам близким родственником…
Шаша села за руль, и мы помчались в Старое Новое.
В опорном пункте милиции нас встретил участковый – пожилой капитан, который сказал, что он пока, значит, ни в чем не уверен, но надо, значит, посмотреть, чтобы удостовериться.
– В чем? – строго спросила Шаша.
– Два часа назад… – Он взглянул на наручные часы. – Два с половиной часа назад нам позвонила группа граждан, которые обнаружили тело, совпадающее с телефонограммой…
Значит, Папе Шкуре удалось расшевелить каких-то своих знакомых в милиции, и они разослали телефонограмму с приметами Елизаветы Андреевны Шрамм.
Тело было накрыто брезентом. Вокруг стояли милиционеры и двое в белых халатах – машина скорой помощи виднелась шагах в тридцати от кладбищенской ограды.
Капитан быстро приподнял брезент, чтобы мы могли рассмотреть лицо. При этом мне удалось рассмотреть и верхнюю часть тела – Елизавета Андреевна была без одежды.
– Да, – сказал я.
Капитан быстро опустил брезент.
– Да – что? Это она?
– Это моя мать, – сказал я. – Елизавета Андреевна Шрамм.
– С одним «эм» или двумя?
– С двумя.
– Подпишите здесь.
Я подписал.
– Спасибо, – сказал капитан. – Соболезную, Илья Борисович, и вам, – обратился он к Шаше, – тоже, значит, соболезную.
– Что дальше? – спросила Шаша.
– Вскрытие. А вы можете пока, значит, ехать домой.
– Куда? – спросила Шаша.
– Домой, – сказал я. – На Якиманку.
Я не позволил ей подняться в квартиру, а на похоронах держался от нее подальше. Легче всего было злиться на Шашу, потому что это было легче всего.
Имя насильника и убийцы установить так и не удалось.
Начиналась эра неотмщенных.
Поток времени бурлил, как речь в поисках смысла, и моя мать могла запросто затеряться в этом потоке, стать жертвой темного бога, о существовании которого многие догадывались, но до поры до времени с ним не считались. Этот бог участвовал в нашей жизни только в виде случайностей, но это не значит, что его не было. Он дремал за сценой, закутавшись в какую-нибудь тряпку, в какой-нибудь рыцарский плащ или дворянскую крылатку, пропахшую нафталином, смежив веки, похожий на груду высохшей глины, бесформенный и неподвижный, он ждал, когда наша жизнь по-настоящему полетит под откос, когда мы по-настоящему опьянеем от воли, от свободного падения в бездну, чтобы вдруг рыкнуть, скинуть с себя вонючую ветошь, выйти на сцену, явить себя во всей мощи бугристых мышц, стальных костей и жестоковыйного бессердечия, чтобы хорошенько врезать нам под дых и принудить к неизбежному, наплевав на необходимое, к жизни без оглядки, к жизни грязной и бесстыжей, к жизни с перекошенными от неистовства лицами, с разверстой пастью и кровоточащим сердцем, к жизни на разрыв, чтобы потом живьем вознести нас на свои страшные огненные вершины, швырнуть в свои страшные смрадные пропасти, нас, ободранных, горящих, вопящих, обсирающихся от ужаса, обоссывающихся от радости, отчаявшихся, ненавидящих, горюющих, злых, любящих…
Красное сторно
1990-е
Порвав с семьей Шкуратовых – как мне казалось, навсегда, – к другим берегам я так и не прибился.
Ночной клуб по-прежнему оставался главной моей кормушкой, благодаря которой я смог купить собственную квартиру – в старой, на Якиманке, угнетало незримое присутствие матери. По утрам я слышал шум воды – значит, она принимает душ, чувствовал запах кофе, который она варила на газовой плите в маленькой голубой кастрюльке, и аромат духов «L’Origan Coty», а потом негромкий щелчок английского замка. На службу она уходила очень рано, чтобы успеть поработать над докторской, прежде чем коллеги втянут ее в дебаты о психопатологии гомосексуализма или психологических проблемах мужской impotentia coeundi[30]30
Эректильная дисфункция (импотенция). (лат.)
[Закрыть]. Ну и книги, конечно: все эти Камю и Жене, подаренные «с любовью от Бобоши – Лизе, Лизетте, Елизавете Андреевне, ангелу и цыпленочку». Их мне пришлось взять с собой в квартиру на Остоженке, потому что ну не мог я продать их букинисту и взять за них деньги или просто выбросить.
Моника Каплан вместе с матерью уехала в Германию, там вышла замуж и перебралась в Париж, чтобы, как она мне писала, «с утра до вечера пить прекрасный чад, блистательную гниль и неживую одурь великого города».
На звонки Шкуратовых я не отвечал, письма Шаши сжигал не читая, что даже доставляло мне странное удовольствие, хотя в том полумраке, где находится глубина души, взрослый Шрамм грозил мне пальцем и укоризненно качал головой.
Все мечты Дидима осуществились. Его газету, а вскоре и журналы расхватывали, едва они появлялись на прилавках киосков. Их «узкие совы, желудеющие по канаусовым яблоням» нашли своих поклонников и критиков, называвших издания Дидима снобистскими, но даже недоброжелатели признавали, что Шкуратову-младшему удалось «совпасть с эпохой», создать команду «неспящих журналистов» и «облагородить цинизм пишущей братии».
Благодаря связям Шкуратова-старшего, который в выходных данных газеты значился консультантом, журналисты имели доступ в Кремль и в Белый дом, на Фрунзенскую набережную и Смоленскую площадь, они диктовали репортажи с места событий о больших и малых войнах, полыхавших на границах неимперской империи, и сообщали такие подробности из жизни криминальных группировок, от которых у читателя дыхание перехватывало. Они рассказывали русскому бизнесу, что такое бизнес и с чем его едят. Они доносили новости из цивилизованного мира, который разными способами пытался ассимилировать русскую культуру политическую, экономическую и духовную, чтобы растворить ее в глобальной, а русских сделать Russians International. Ну и, конечно, привлекала прямая речь журналистов Дидима, которые чувствовали себя естественно в роли высокооплачиваемых и бесстрастных патологоанатомов, сообщающих родственникам усопшей страны детали аутопсии.
Ему подражали, его ненавидели, и все хотели у него работать.
А Шаша была исполнительным директором медиахолдинга, его поцелуем и его топором. Тогда-то она и получила от коллег прозвище Шука. Шука Шаша, всё знающая, всё умеющая и безжалостная, если нужно.
Она очень похорошела, превратившись в идеальную La Belle Dame sans Merci эпохи постмодерна, воплощение изменчивого и смертоносного очарования зла.
Я любил ее всей ненавистью к ее прошлому, поэтому избегал встречи.
Ни она, ни Дидим больше не бывали в «Стрекозе и Шмеле».
А вот Конрад Арто, руководитель издательских проектов медиахолдинга, стал завсегдатаем заведения, и мало-помалу мы с ним сблизились. Разговор же о Дидиме, Шаше и Отелло сделал нас друзьями.
Об Отелло заговорил Конрад, когда я упомянул Дидима и Шашу:
– Негодное сравнение, – сказал я. – Не моя роль – Отелло. Почему-то этот мавр кажется мне каким-то ненастоящим. В отличие от меня, надеюсь…
– Ну да, ну да, – сказал Конрад, поигрывая сигарой, – и ты тут на стороне Яго. Он скорее презирает мавра, чем ненавидит. Он презирает его манеру выражаться высокопарно, with bombast circumstance[31]31
С напыщенным видом. (англ.)
[Закрыть]. Bombast – это такая шерстяная набивка какой-нибудь подкладки. Далее Шекспир усиливает это впечатление, употребляя слово stuff’d, то есть речь Отелло набита, нафарширована военными терминами – мавр пытается произвести впечатление на мирных венецианцев. Это как если бы синоптика спросили, будет ли завтра дождь, а он стал бы рассказывать об арктических потоках и циркуляционных ячейках Хедли. Яго раздражен высокомерием Отелло, его пустышечностью, снобизмом, и его ненависть к Отелло оправданна, а язык Яго при этом груб, смачен и точен, и когда он вслед за bombast употребляет stuff’d, то кажется, что он с трудом удерживается, чтобы не бросить в лицо Отелло stuffed shirt – ноль без палочки, чванливое ничтожество, прыщ на ровном месте… и не исключено, что в уме держит еще одно значение слова stuff – вставлять, совокупляться… а еще выражение stuff it – да насрать мне на это… то есть переводчик, думаю, не имеет права забывать об этом круге смыслов близких и отдаленных… и что же делает наш любимый Пастернак? Переводит вот так:
Но он ведь думает лишь о себе:
Они ему одно, он им другое.
Не выслушал, пустился поучать,
Наплел, наплел и отпустил с отказом!
Пастернак, который так часто злоупотреблял неуместными просторечиями в своих переводах, на этот раз не воспользовался редким случаем, когда грубое, но сочное и точное выражение вполне соответствует персонажу! Увы, поверхностность Пастернака особенно очевидна именно в его переводах, прежде всего в шекспировских. Разве у него Яго? Да Яго сказал бы…
– Что Отелло попросту ебет мужикам мозги… этим самым послам Венеции… так?
Конрад усмехнулся и чмокнул сигарой.
– Так-то оно, конечно, так, – но как сказать это на том русском языке, который мы признаём русским языком? – Помолчал. – Многие отмечают необычайную красоту языка этой пьесы, особенно языка главного героя. Но почему Шекспир вдруг заговорил таким языком? Очень трудно доказать, что имеешь дело не с красотой, а с намеренной красивостью, которая выявляет пустоту Отелло…
– Шекспир и красивость?
– Дух времени против личного опыта, мин херц. Отелло не надо вживаться в образ – он и есть таков, и Яго это чувствует лучше всех. Среди известных нам персонажей лучшим воплощением этого конфликта является Дидим. Он ведь действительно воплощает дух времени как никто. Но что это значит, мин херц? Сегодня это значит только одно – работать лучше, чтобы жить лучше под сенью никчемных идеалов. Думаю, в глубине души он это понимает, но смиряется с этим, иначе он не был бы органическим воплощением духа времени. Таким образом, он воплощает еще и lost a sense of innocence[32]32
Утрата чувства невинности. (англ.)
[Закрыть], что неизбежно в отсутствие настоящего идеала.
– Но он же вроде верующий человек…
– Скорее умный, чем верующий. Фрондер. Фронда в границах поздней советскости, когда религиозность вошла в моду. Это не андеграунд, а намек на него. Когда отца Меня убили, Дидим пожал плечами: «Алика жаль, но будет хуже, если мы не успеем сообщить об этом первыми». Шаша же переживала, кажется, по-настоящему…
– Знаешь, я, наверное, никогда не смирюсь с ее беспредельностью. Если человек не помнит о своих границах, он становится черт знает кем, причем чаще всего, конечно, не ангелом…
– Не спеши, мин херц, она-то как раз sense of innocence пока не утратила, что б ты там себе ни думал. И либо она это чувство переработает в бессмысленную труху, либо взбунтуется. Но труха удобнее – спокойно жить позволяет…
– А ты?
– Подумываю свалить из Дидимова ковчега. Брезжит идея книжного издательства. Прибыльного, разумеется. Нужны союзники, единомышленники, нужны люди, которые помогли бы наладить связи. Ты ведь овладел французским?
– Plus ou moins.[33]33
Более или менее. (фр.)
[Закрыть]
– В Париже есть такое издательство – «Sou de Cuivre»[34]34
«Медный грош». (фр.)
[Закрыть], лет сто назад выпускало книги для народа, брошюрки для фермеров и лавочников, постепенно вошло во вкус, стало издавать Пруста и Аполлинера, искать пионеров, форвардов, способных потрясти читателя новизной. Впрочем, в этом и кроется причина непрестанного цветения французской культуры на протяжении пятисот лет: она одержима новизной… ну и красотой, конечно… как ты… – Он улыбнулся с наигранным коварством. – Не желаешь ли смотаться в Париж, мин херц? Недельки на две-три, а то и больше? Нет-нет, не завтра, но скоро. А? Надо подумать?
– Надо договориться с фирмой, а так да, думать не надо, конечно.
– С Дейчем я поговорю, – сказал Конрад. – Он мой должник. Значит, ближе к делу обсудим детали? Я с этими французами хочу замутить общее дело. Ну и?
– Согласен.
Конрад пыхнул сигарой.
– Вдруг вспомнилась история равеннского варвара, – сказал он. – Это история о лангобарде, дикаре, пришедшем из страны мрачных чащоб, полусырого мяса и женщин без шеи – к стенам Равенны, которую осаждали его соплеменники. Он увидел эти башни, храмы, кипарисы, свет, синеву и золото, был потрясен, перешел на сторону врага – и погиб, защищая Равенну. Трогательная история о варваре, душа которого перевернулась, когда он увидел новый для него мир во всём его великолепии, и на несколько дней стал частью этого мира, и погиб за него…
– Ты про Шашу? – Я поднял стакан. – Тогда не чокаясь.
Николай Генрихович Экк, муж моей бабушки, никогда не рассказывал о своей работе – и был человеком такого типа, которого невозможно заподозрить в причастности к чему-то таинственному и опасному. Он называл себя бухгалтером, имея при этом степень доктора экономических наук. Именно он как-то объяснил мне, что «красное сторно» – это способ исправления ошибок в итоговых бухгалтерских документах, при котором ошибочная запись делается красными чернилами и не прибавляется к итоговой сумме, а вычитается из нее:
– В старости начинаешь понимать ошибочность многих своих слов и поступков – и как бы помечаешь их красными чернилами, чтобы на Страшном Суде стало понятно, что ты не упертый дурак, но готов раскаяться…
Весной девяносто второго его нашли убитым на даче, стоявшей на берегу Пахры.
Убийцы перевернули вверх дном дом и хозяйственные постройки; перед смертью Николая Генриховича страшно пытали, но, судя по итогу, ничего от него не добились.
– Бухгалтер-то им что сделал? – недоумевала бабушка. – Бедный Коленька…
– Анна Федоровна, – сказал следователь, когда остался с ней один на один, – ваш муж работал в финансовом управлении КГБ СССР, занимал там немаленькую должность, а такие люди знают о тайной жизни этого учреждения не меньше, чем председатель Конторы или генсек. Лакомая персона для иностранных разведок. Да и вообще для всех, кто ищет золото партии и золото КГБ.
Не успела бабушка испугаться, как ей позвонили из Федеральной службы контрразведки (через три года ее переименовали в ФСБ) и попросили не покидать место преступления.
А через день бабушка исчезла, и о ее новой квартире и новом имени я узнал только через месяц, когда в газетах появился маленький некролог, в котором группа коллег прощалась с незабвенной Анной Федоровной Шрамм, выдающимся ученым-клиницистом, замечательным товарищем и «просто хорошим человеком».
После похорон мужа бабушка сказала:
– Самое страшное – это не конец жизни, а начало новой жизни.
Через год она умерла и была похоронена в могиле, на которой давно стоял памятник с ее настоящим именем.
От Конрада я узнал, что смерть Николая Генриховича поначалу не взволновала руководство Федеральной службы контрразведки: Экк к тому времени вышел на пенсию, а его вдова их, похоже, вовсе не интересовала. Всё изменилось, когда в дело вмешался Папа Шкура. Он позвонил начальнику ФСК, с которым был на «ты», потом обзвонил старых приятелей – депутатов из комитетов обороны и безопасности, наконец, дошел до Ельцина – звонок устроили общие друзья. Уже на следующий день бабушку взяли под защиту, оформили новые документы и выдали ключи от новой квартиры.
– А ты никогда не думал, что и Папа Шкура, и Дидим как-то были связаны с КГБ? – спросил я.
– Не исключено, – сказал Конрад. – Но к началу восьмидесятых Папа Шкура достиг вершин в партийной иерархии, что сделало его неприкосновенным для гебистов. А Дидим мне сам рассказывал, что люди из КГБ его обхаживали, но вскоре отстали. Все-таки они оба не из тех, кто сдает своих. Не то мясо, поверь моему вкусу.
– А чужих?
– Даже если б они были когда-то стукачами – что это меняет сейчас? Знаю, что ты скажешь: единожды солгав и так далее. Но тебя он ведь не предавал, как бы ты ни относился к нему после смерти матери. Безусловно, он страдает нравственным косоглазием, но детей не убивал. Эгоист, но не предатель. – Конрад наклонился ко мне через стол. – Пока не предаст – не предатель.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































