Текст книги "Россия и современный мир №2 / 2018"
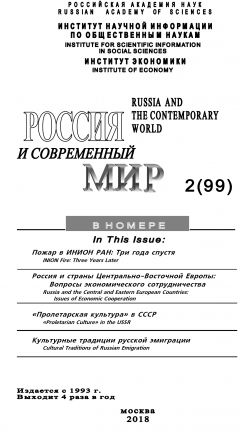
Автор книги: Юрий Игрицкий
Жанр: Журналы, Периодические издания
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Феноменология советского общества
Конкурирующие модели пролетарской культуры в СССР 1920-х годов
А.Л. Юрганов
Аннотация. В статье рассматриваются направления пролетарской культуры, существовавшие в СССР в середине 20-х годов XX в., которые при всей своей близости в оценке перспектив победы коммунизма во всем мире, значительно отличались друг от друга тактикой и средствами достижения искомой цели. Более того, разные направления пролетарской культуры превращались во враждебные лагеря, не желавшие компромисса, но мыслившие себя только победителями в идеологическом соперничестве.
Ключевые слова: Левый фронт, «Перевал», «На литературном посту», «Новый Леф», сталинизм, идеологическая кампания, история, советские писатели.
Юрганов Андрей Львович – доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ); профессор Школы-студии МХТ. E-mail: [email protected]
A.L. Iurganov. Competing Models of Proletarian Culture in the USSR in 1920s
Abstract. The article examines the various movements and currents of the proletarian culture that existed in the USSR in the mid-1920 s. The author argues that despite the fact that they were quite close to each other in assessing the prospects for the victory of communism throughout the world, they differed significantly in tactics and means of achieving the desired goal. Moreover, different currents of proletarian culture eventually turned into mutually hostile camps that positioned themselves to be the only winners in ideological rivalry.
Keywords: Soviet writers, «Pereval», «Na literaturnom postu», «New Lef», history, ideological campaign.
Iurganov Andrey L’vovich – Doctor of History, Professor of Russian State Humanitarian University (RGGU), Professor of the School-Studio of the Moscow art theatre. E-mail: [email protected]
1920-е – начало 1930-х годов – время, когда и советские литераторы, и партийные вожди, и большевистская партия в целом формулировали собственные взгляды на проблемы культуры в целом и литературы – в частности. Так, 6 июля 1922 г. Л.Д. Троцкий выступил на Политбюро с докладом «О молодых писателях и художниках», который был одобрительно принят. Речь в нем шла не только о материальной поддержке молодых поэтов и писателей, но и о том, чтобы всячески привлекать беспартийных авторов, «попутчиков». В условиях НЭПа требовалось расширение гражданских свобод и уменьшение цензурных запретов. Молодые авторы должны были учиться у известных мастеров прозы, у «старых» поэтов, чтобы усвоить культурные навыки, овладеть мастерством. Троцкий понимал, что без содействия творческой интеллигенции нельзя построить новую культуру. Так, 17 июля 1922 г. он предлагал заведующему Госиздата О.Ю. Шмидту переиздать массовым тиражом (10 тыс. экз.) сборник Федора Сологуба «Соборный благовест», а также опубликовать сборник «Блок и революция» [16 а, с. 112].
В статье «Пролетарская культура и пролетарское искусство» Троцкий утверждал: «В эпоху диктатуры о создании культуры, т.е. строительстве величайшего исторического масштаба, не приходится говорить, а то ни с чем не сравнимое культурное строительство, которое наступит, когда отпадет необходимость в железных тисках диктатуры, не будет уже иметь классового характера. Отсюда надлежит сделать тот общий вывод, что пролетарской культуры не только нет, но и не будет; и жалеть об этом поистине нет основания: пролетариат взял власть именно для того, чтобы навсегда покончить с классовой культурой и проложить путь для культуры [обще]человеческой» [32 а, с. 27].
Еще одним руководителем культурной политики в эти годы был Н.И. Бухарин. Будучи ответственным редактором газеты «Правда» и журнала «Большевик», членом ВЦИК, членом Политбюро, он развивал свои теоретические идеи в практике «художественной политики». Он исходил из того, что для победившего пролетариата необходимо социальное равновесие, гражданский мир, гармония в отношениях старых и новых элементов культуры. В мае 1924 г. Бухарин провел совещание «О политике РКП (б) в художественной литературе». Он не отрицал, что при необходимости партия может вмешиваться в дела литературы. Однако при этом выступил против диктатуры журнала «На посту», агрессивно ратовавшего за «пролетарскую литературу» и продвигавшего идеи борьбы с писателями-«попутчиками».
Он объяснил собравшимся партийцам, что советское общество имеет «две плоскости трений» – внешнюю и внутреннюю. С внешней стороны – буржуазный мир, и здесь «классовая борьба обостряется», но так ли с внутренней стороны, задавал он вопрос. «Тут есть непонимание того обстоятельства, что внутри страны наша политика вообще не идет по той линии, чтобы классовую борьбу разжигать, а наоборот, она с известного пункта идет на смягчение. Это есть основное» (цит. по: [16 а, с. 171]), – говорил Бухарин.
Предполагалось, что в мирном сосуществовании разных элементов культур произойдет «переработка» всякой буржуазности в пролетарское состояние – и без классовой борьбы: ведь это процесс контролируемый, и как многозначительно сказал Бухарин, – «Диктатура не исчезнет».
На этом совещании он признал, что никакой культурной гегемонии у пролетариата нет, потому что нет никакого запаса прочности, нет большой традиции. Следовательно, надо «своим собственным горбом заработать в области литературы и культуры и т.д. историческое право на общественное руководство». Бухарин отвергал прямое руководство литературным процессом. Нельзя давать журналу «На посту» власть над литературным процессом! Должно быть соревнование, но под общим контролем партии. «Я высказываюсь за общее руководство и за максимум соревнования», – сказал Бухарин (цит. по: [16 а, с. 172]).
Идеи Троцкого и Бухарина развивал лидер литературной группы «Перевал», старый большевик А.К. Воронский. Он был одним из тех, кто восстановил в стране институт цензуры (1922), но вместе с тем он рассматривал цензуру только в техническом плане, как способ контроля в области искусства и литературы. Цензура, по его мнению, не должна мешать развитию именно советской (=общечеловеческой) культуры.
Резолюция ЦК РКП (б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы» сыграла большую роль в деятельности конкурирующих направлений пролетарской культуры. Принятое решение произвело сильное впечатление на всех литераторов, напомнив им, что у них нет права руководить литературным процессом, не прислушиваясь к голосу партии. До 1925 г. в острой конкуренции находились журналы «Леф» – орган Левого фронта, объединявший футуристов и другие группировки революционного искусства, «На посту», в котором печатались пролеткультовские писатели и «Красная новь» под руководством А.К. Воронского, привлекавшего в журнал писателей-попутчиков. Каждый из этих журналов ставил перед собой цель – управлять всем литературно-художественным процессом, как будто партия коммунистов могла кому-то отдельно делегировать это право. После принятия резолюции «О политике партии в области художественной литературы» борющиеся направления вынуждены были умерить пыл и попытаться найти свое место в пространстве пролетарской культуры.
Урок был усвоен.
«Новый Леф»: Культ факта как эмпирической действительности
В январе 1927 г. вышел первый номер журнала под названием «Новый Леф». В нем уже не говорилось, что Левый фронт претендует на руководство всем литературным процессом. Речь шла о своем месте в ряду других направлений пролетарской культуры. «Новый Леф» позиционировал себя как документалистику советской стройки, документалистику борьбы против приспособленчества «к сквернейшим вкусам нэпа», своего рода художественный эмпиризм в культе действительности.
В центре внимания журнала – классовая борьба в искусстве, не знающая никаких компромиссов с «академиками», буржуазными эстетами. «Новый Леф» беспокоился о том, что словом «политика» стали пренебрегать в искусстве, нацеливаясь на изображение надклассовых явлений.
Но от прежних резких антиэстетических заявлений не осталось и следа. «“Новый Леф” теперь находился, – писал В.О. Перцов в статье “График современного Лефа”, – на границе между эстетическим воздействием и утилитарной жизненной практикой». Это пограничное состояние между «искусством» и «жизнью», по мнению автора, «предопределяет самую сущность движения». Леф – «это не течение в искусстве, не художественное направление». Леф «выскакивает за границу искусства в непосредственную жизненную деятельность», вторгаясь в «жизненное строительство» [26, с. 15].
Документализм во всех возможных аспектах культуры стал лефовским манифестом: «Леф не хочет быть гегемоном в искусстве, он хочет быть равноправным в армии строителей. Отсюда вытекает двустороннее строение работы Лефа. Кажущееся противоречие пересекается единой тенденцией движения. Леф противопоставляет художественной литературе реальную практическую культуру слова. Газетный работник, агитатор, составитель приказов, докладчик становятся в центре Лефовского внимания, это – центральные фигуры современности. Это – не люди “искусства”… Леф находится на высшем пределе кривой словесного искусства, там где она претерпевает разрыв непрерывности. Возобновляясь уже в новой точке практического пользования словом» [26, с. 16].
«Новый Леф» по-прежнему был в состоянии войны с эстетической традицией, но признавал эстетизм современного пролетарского искусства: «Леф сближает художественную и инженерную линии современной культуры» [26, с. 17].
Склонность к революционной злободневности не исключала критичности по отношению к шаблонам революционной идеологии: лефовцы были противниками окарикатуривания действительности в угоду трафаретам революции и гражданской войны.
О.М. Брик в статье «За политику!» весьма тонко очертил проблему псевдореволюционности. Документальная художественность должна быть соотносима с действительностью, а не напоминать злостную карикатуру. Он привел пример, когда на одной живописной картине пролетарского художника под названием «Смычка пионеров с деревней» изображался отряд пионеров, идущих с флагами и барабанами, а им навстречу – крестьяне с косами: «Отождествление редакторского интереса с интересом советской власти – есть огромное зло, которым страдает наша культурная жизнь» [9, с. 20].
Поднималась даже тема революционного «сервилизма»: «…мы будем доказывать, что всякая попытка говорить сегодня о революции словами 1917–1918 года есть вредная халтура» [9, с. 23]. Иными словами, агитация не современная, не укорененная в жизни людей, не имеет никакого смысла – она беспочвенна. Лефовцы понимали классовую борьбу в искусстве расширительно: они были не только против буржуазного самодовольства и нэпманского «болота», но и против искажения революционной действительности псевдоидеологией.
Для новых лефовцев культом была массовая газета – ее ежедневная включенность в действительность. Если бы воскрес Лев Толстой, рассуждал С.М. Третьяков, то он как личность огромного масштаба не нашел бы себе места в этой действительности, – сидел бы у себя в библиотеке или, в лучшем случае, его включили бы «в соответствующие комиссии при Наркомюсте, Наркомздраве, Наркомземе» [31, с. 36].
По-прежнему врагом лефовцев был академизм: «Каждому домогательству академиков» Леф «противопоставлял свое утилитарно обоснованное возражение» [30, с. 1]. Для них фундаментом теории была утилитарно-документальная связка: «материал – назначение – форма-вещь» [30, с. 4]. Они утверждали: «Материал в сырьевых формах – это форпост сегодняшнего искусства. Но сырьевая форма может обслуживать только информационное назначение» [там же].
В статье «Ближе к факту» О.М. Брик отмечал, что идеолог литературной группы «Перевал» А.К. Воронский и его сторонники неверно учат молодых писателей совмещать документальность с художественностью, писать «так, чтобы, с одной стороны, это была как бы жизнь, а с другой – как бы тенденция» [8, с. 32]. Нельзя соединять вымысел и документ, отдавая предпочтение вымыслу: «Надо любить факты, надо точно и резко разграничивать факт от вымысла: нельзя путать этих вещей» [8, с. 33].
Полемический пункт для лефовцев в споре с напостовцами и перевальцами – это соотношение «идеологии и техники в художественном произведении» [27, с. 19]. Лефовцы были противниками таких понятий, как «творческий акт», «интуиция», «вдохновение». Они мыслили в других категориях: «работа», «мастерство», «ремесло», «делание вещей». Один из руководителей «Перевала», А.З. Лежнев, критиковал идею лефовцев о том, что «техника не знает убеждений». Журнал отвечал, что «идеология выполняет функцию катализатора, т.е. своеобразного катализатора химического вещества, которое само не участвует в реакции, но при наличии которого реальные агенты реакции входят между собой в бурное и правильное соединение» [27, с. 22].
Таким образом, «идеология» для лефовцев – это не содержание, а фермент, не смысл, а путь к смыслу. Реальностью, и притом единственной, были «выразительные средства, чувственно постигаемые нами».
Мысль о первенстве документа над художественным вымыслом занимала умы новых лефовцев едва ли не больше всех прочих мыслей. В.О. Перцов в статье «Какая погода была в эпоху гражданской войны?» отмечал, что в романе «Чапаев» Д.А. Фурманов «не соблазнился возможностью сделать из фактов символы, а из действительно существовавших людей – “обобщения”, “типы”, или искомых ныне так называемых “живых людей”» [28, с. 38].
Новые лефовцы признавали свои футуристические ошибки, не отказываясь при этом от футуризма. О.М. Брик в статье «Мы – футуристы» утверждал, что «старина» сама по себе внушала футуристам уважение. Однако «старина» не могла быть современностью, – и в этом причина ее активного отвержения футуристами [10, с. 52]. Всякое обращение к образцам прошлого для изображения актуального настоящего авторы «Нового Лефа» рассматривали как вреднейший пассеизм [29, с. 7–20].
Новые лефовцы отделяли себя от жизнепознавателей типа Воронского – c его идеями о живом человеке. Они сближали себя с жизнестроителями. Н.Ф. Чужак писал: «Мы сделали революцию, мы провели гражданскую войну, мы восстанавливаем народное хозяйство, мы строим социализм. Это – мы. Строители. Нам некогда. А вы… Вы – наблюдатели, вы – познаватели. Писатели. Свидетели. Осознавайте вчерашний день! (Осознавать день сегодняшний не дано, так как это запрещает старая эстетика. – Событие должно отстояться, – и к тому же: осознание “сегодня” есть жизнестроение, а вы же познаватели, и потому…)» [33, с. 11].
Литературу жизнестроения Чужак рассматривал как «литературу факта»: «Факт есть первая материальная ячейка для построения здания, и – так понятно это обращение к живой материи в наши строительные дни!» К «литературе факта» он причислял «газету и фактомонтаж», фельетон, мемуары, «отчет о заседании суда», описание путешествий и исторические экскурсы, «запись собрания и митинга» и некоторые такого же рода жанры – «где бурно скрещиваются интересы социальных группировок, классов, лиц» [34, с. 15].
Левый фронт видел себя в гуще событий строительства новой жизни, и потому вопросы теории марксизма занимали их ум только как «катализатор» революционного действия в области художественной документалистики.
«На литературном посту»: Культ социологической действительности
С 1 апреля 1926 г. стал выходить новый журнал «На литературном посту». Само его название косвенно подтверждало, что прежний журнал «На посту» претендовал на бóльшее. Однако партийная резолюция заставила напостовцев пересмотреть свое участие в идеологическом процессе. Теперь они, как и лефовцы, работали строго под руководством ЦК партии, без претензий на самостоятельное руководство в области художественной литературы [2, с. 3].
Журнал превращался в коллективного марксистского критика. И как заметил Л.Л. Авербах в статье «Опять о Воронском», «сегодня на первом плане для марксистского критика стоит нахождение “социологического эквивалента” всех явлений литературного порядка» [5, с. 17]. Марксистский критик – не руководитель процесса, а контролер, дающий беспощадный «идеологический анализ» всякому творчеству в советских условиях. Культ идеологии выше советской литературы: «Нужна большевизация нашей литературной критики!» [33, с. 19].
Однако у классового анализа имеются враги – это прежде всего те, кто исповедует всечеловеческое в литературе, словом, Карфаген Воронского должен быть разрушен!
Между тем партийное совещание 1925 г., в котором подверглись критике именно напостовцы, сыграло свою роль, – в новом журнале, уподобляясь логике партийного строительства, стали говорить о «левых» напостовцах, которые извращали правильную позицию партии в отношении попутчиков, разжигали классовую ненависть в советской литературе, не прислушиваясь к партийным решениям.
В статье «Против “левого” ликвидаторства» Б.М. Волин писал, что «левое напостовство недоучитывало значение беспартийной массовой организации работников пролетарской литературы – Всесоюзной Ассоциации Пролетарских писателей (ВАПП) и стремилось превратить ее в узкую сектантскую группу, в некую эманацию литературной партии» [12, с. 2].
А.И. Зонин в статье «Путаница “слева”» писал: «Если Воронского и Троцкого мы критиковали за идеалистические уклоны и стенания, то также резко мы должны выразить протест против узко-цехово-синдикалистского толкования современной литературы “в духе классовой ненависти”, где ненависть есть метод, содержание и цель» [17, с. 10].
В статье И.С. Новича «Дерево современной литературы» показано было классовое родословие современных писателей: кто из них занимает левую, а кто правую сторону от ствола пролетарского дерева. Впрочем, были в этой «генеалогии» и «живые трупы»: это Анна Ахматова, Андрей Белый, Максимилиан Волошин [24, с. 24–25].
Напостовцы считали себя наследниками ленинских идей, сторонниками марксистской диалектики, лефовцев же причисляли к сторонникам эмпириокритика А.А. Богданова, утверждавшего, что нет никакой объективной истины, что истина – это только опытное знание [22, с. 6–7].
После принятия партийной резолюции произошел мощный сдвиг в идеологии напостовцев, отрекшихся от «леваков». Если в пролеткультовские времена они отвергали роль личности в художественной литературе, то теперь стали культивировать ее как «очередную задачу пролетарской литературы». Оправдываясь, Ю.Н. Либединский писал, что прошла «первоначальная стадия развития литературы всякого класса», когда требовалась схема без конкретики, некое общее ви́дение тематики революционных перемен, но не конкретная личность в этих переменах. Он предлагал брать за основу изображения в художественном произведении личность как тип – «ибо личности самой по себе, равной себе, цельной, не существует в природе!» [20, с. 27]. Во всяком человеке есть своя типология – она же связь с классом, определяющая «тип личности». В типе личности борются различные классовые тенденции и не факт, что побеждают те, которые признаются пролетарскими. Напостовская идеология, таким образом, не становилась ближе к модернизму, для которого не было ничего выше конкретной, себе равной, цельной личности, устремленной к метафизическим основаниям жизни.
Поворот к «личности» требовал ее рассмотрения через призму марксистской диалектики, единственного инструмента, с помощью которого можно обнаружить закономерные противоречия в личном плане выражения классовой позиции. Либединский выступал за «углубление типа, углубление личности, углубление классового показа ее» [20, с. 29]. Задача – «показать, что в каждом человеке черты индивидуальные переплетаются с классовыми, какие получаются коллизии, откуда они произошли и т.д.» [там же]. Чтобы судить о свойствах личности, сочетающей в себе индивидуальные и классовые черты, необходима шкала оценок – что хорошо, а что плохо. Поскольку нет и не может быть метафизики Добра, сверхчувственной морали, шкала эта должна основываться на диалектике, логике марксистской социологии.
М.В. Лузгин в статье «К вопросу о художественной платформе ВАПП» писал, что «действительное познание имеет место лишь тогда, когда явления познаются и в их единстве, и в их различии. И наука и искусство есть элементы объективного общественного процесса» [21, с. 4].
В центре его концепции – «теория отражения». Общественное сознание отражает объективный и обезличенный процесс движения материи. Из этого постулата рождался еще один постулат – о существовании «общественного человека», который, не будучи эмпирической личностью, как и всякий живой человек, «не только мыслит, но он также чувствует, страдает, наслаждается, желает, радуется, горюет, предается отчаянию». Искусство систематизирует чувства людей, наука систематизирует мысли людей. Однако такой инструментарий отвергал фотографирование – копирование действительности. Художник обобщает в зависимости от своего классового положения и от «положения своего класса» – в этом заключалась сущность оценки его таланта.
Л.Л. Авербах в статье «О современных писательских настроениях (статья первая)» утверждал, что диалектический материализм – единственный метод познания мира: «Вне марксизма нет исторической правды. Вне марксизма – мелкий субъективизм и гнилость отсутствия целей» [3, с. 18]. Диалектика – познание, но какое? Можно ли с помощью диалектики судить искусство и его создателей? Авербах писал: «Искусство является специфической формой познания жизни. Но это только одна стороны искусства. Искусство одновременно служит и перестройке жизни» [там же]. Художник, по его мнению, не сейсмограф, пассивно регистрирующий явления жизни. «Абсолютную объективность» Авербах противопоставлял «дальтонизму всякой индивидуальности», ошибочному, по его мнению, утверждению, что искусство выше общества. Речь в данном случае шла о М. Шагинян, не находящей себя в новой пролетарской культуре: «Старое умерло, но живо в Шагинян. Новое живо, но еще мертво для нее» [3, с. 20].
Проблема свободы для пролетарского художника – в самой необходимости служить своему классу. И вот тут проявляет себя критерий диалектический: «Я свободно выбираю мою партийную позицию. Я могу быть оппозиционером, или оставаться сторонником большевистского руководства нашей партии. Субъективно – это проявление величайшей свободы. Но объективно выбор обусловлен моим прошлым, степенью моей партийной закалки, моим каждодневным новым опытом, моим пониманием ленинизма, моей связью с классом. С этой точки зрения обусловлено и творчество художника» [4, с. 10].
Замкнутая на необходимости свобода обретала хорошо знакомые со времен первых эмпириокритиков утилитарные свойства, и это нисколько не смущало Авербаха: «Сознание социальной утилитарности своего творчества есть одновременно сознание служения своему классу» [там же].
Как же сочеталась у напостовцев вражда к психологизму с признанием «живой личности»? Психологизм ведь по-прежнему – «очаг пассивности и созерцательности»… Так во всяком случае писал один из главных теоретиков журнала «На литературном посту» И.С. Гроссман-Рощин в статье «Куда наш путь лежит?». Всякую «слякоть мещанского психологизма» надо отбросить и разоблачить до конца, полагал автор. Но из этого не следует, что марксизм отрицает реальность «психического факта». Нет, уверял Гроссман-Рощин, не отрицает, но «вводит его в цепь социальной закономерности: «Мы, конечно, не будем заниматься психологией изолированной личности (курсив мой. – А. Ю.). Мы дадим человека – сына класса, но обязательно будем подчеркивать индивидуальные вариации» [15, с. 16].
На пути к «живой личности», классово определенной, журнал «На литературном посту» во многом следовал «Перевалу», но, в отличие от него, не растворял в культе действительности классовые характеристики. Зонин в статье «Новое выступление капитулянтов» отмечал, что перевальцам не удается совместить социальный заказ с революционной совестью художника: они отдают предпочтение художественной литературе надклассовой, общечеловеческой – «стоят на идеалистической, мелкобуржуазной, псевдореволюционной позиции» [17, с. 18].
Глубокую и точную характеристику различий модернистской и пролетарской концепций творчества дал Авербах в статье «Творческие пути пролетарской литературы». Он писал: «Материализм прежде всего определяется признанием реальности существующего мира. Материализм, рассматривающий весь мир как единый поток движущейся материи, составной частью которой являются природа и человек, для которого бытие определяет сознание, – всегда противостоит идеализму. Идеалисту вообще не доказано существование внешнего мира. Он считает, что “существую Я”, а все то, что существует вне меня, еще неизвестно – реально ли существует, не есть ли оно создание моей фантазии (курсив мой. – А. Ю.). Идеализм разрывает человека и мир. И наконец, у идеалиста сознание определяет бытие. Эти самые общие, если так выразиться, “вступительные” замечания, помогут нам при противопоставлении идеалистического и материалистического художественных методов» [6, с. 10].
Авербах не придумывал грехи модернистов. Он точно определял, что расхождение заключается в отношении к Я. Личность – или что-то маленькое, ничтожное, отраженное, потому что существуют надличная объективная реальность (=действительность), или – это метафизическое явление, и нет ничего выше такого Я, конституирующего мир и реальность…
Авербах осознавал опасность возрастания интереса к личности, но считал, что «рост индивидуальности» должен происходить «в рамках коллектива»: «Этому и должен служить психологизм пролетарской литературы» [1, с. 15].
«Перевал»: Культ психологической действительности
В апреле 1929 г. Сталин произнес речь на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) «О правом уклоне», в ней он поднял вопрос об «обострении классовой борьбы» и новом периоде реконструкции всего народного хозяйства на «базе социализма». Поскольку речь шла о шахтинском деле (1928), о «вредительстве» инженеров, интеллигенции, то это был по существу знак начинать кампании по разоблачению и в области искусства, литературы. Главными «разоблачаемыми» в литературе оказались участники литературной группы «Перевал».
«Перевал» был создан в 1924 г. Эта группа объединяла как коммунистов, так и попутчиков. С 1924 по 1932 г. было выпущено восемь сборников. Отделения «Перевала» были в Одессе, Киеве, Ленинграде, Минске, Баку и других городах. Численность литературной группы достигала в 1926–1928 гг. тысячи человек. Судьба «Перевала» оказалась тесно связанной с трагической судьбой ее основателя – А.К. Воронского [16, с. 269–292].
Партийная и литературная карьера Воронского была далеко не идеальной. В хранящимся в РГВСПИ его партийном деле отложились документы, свидетельствующие о борьбе с его влиянием на литературный процесс. Так, следуя выпискам из протоколов заседаний Оргбюро ЦК, вопрос о «Красной нови» обсуждался 29 августа 1924 г. и было вынесено постановление о расширении редакционной коллегии. Вхождение в редколлегию Ф.Ф. Раскольникова, сочувствовавшего напостовцам, и В.Г. Сорина, заместителя заведующего отделом печати ЦК РКП (б), лишало Воронского всякой свободы действий.
Борьба Воронского за журнал, шедшая с переменным успехом, завершилась поражением Троцкого, а следовательно и его самого. 18 апреля 1927 г. партийные власти – на этот раз отдел печати ЦК ВКП (б) вновь обсуждали вопрос о журнале «Красная новь». В отделе ЦК не понравилось, как прошел юбилейный вечер, посвященный пятилетию журнала. В числе приглашенных для обсуждения литераторов были, в основном, напостовцы [16, с. 273]. В итоге Воронский отошел от руководства «Красной новью» и вскоре был исключен из партии.
13 сентября 1927 г. члены «Перевала» в своем письме, направленном в Отдел печати ЦК ВКП (б) сообщали, что они отказываются сотрудничать с журналом «Красная новь» после ухода из него Воронского. Причина была понятна – приход напостовцев к руководству журнала [7, с. 327].
В первый раз Воронского арестовали в январе 1929 г.1818
24 января 1929 г. в газетах «Правда» и «Известия» было опубликовано сообщение ТАСС об аресте 150 человек, входивших в «нелегальную троцкистскую организацию». Среди них был и Воронский.
[Закрыть] и вменили в вину сотрудничество с «левой оппозицией».
Сразу после ареста он отправил наркому РКИ и председателю ЦКК Г.К. Орджоникидзе заявление, в котором сообщал, что в активной оппозиционной деятельности (подразумевалась нелегальная работа) участия не принимал. Но он не отрицал свое вхождение в круг оппозиции: «Я разделяю взгляды оппозиции, я встречался с оппозиционерами, я помогал ссыльным, посылал деньги, книги, беседовал, высказывал взгляды и т.д. Но ни в одном ни руководящем, ни периферийном органе, даю слово, не участвовал. Я помогал оппозиции, как помогает человек, стоящий в стороне от чистой политики. Вышло как-то так, что за последние годы я ушел в литературную жизнь, в искусство» [16, с. 279].
В итоге Воронский был сослан в Липецк, а через год, прощенный, вернулся в Москву и был в партии восстановлен.
Однако это возвращение не спасло «Перевал» от жестких нападок.
12 марта 1930 г. Воронский обратился в ЦК ВКП (б) с заявлением в ответ на публикацию в газете «Комсомольская правда» статьи М. Гребенникова под названием «Непогребенные мертвецы», посвященной «Перевалу» и перевальцам. На эту публикацию перевальцы отреагировали двумя статьями, опубликованными в «Литературной газете» (10 и 17 марта). Вторая статья называлась «И др., и пр., и т.д.» и содержала подробный перечень всех передернутых цитат из перевальских сочинений [7, с. 340]. Но в том же номере была опубликована статья М. Бочачера «Гальванизированная воронщина (о “Ровесниках”)». В статье критиковался сборник «Ровесники», издававшийся перевальцами.
14 и 21 апреля 1930 г. в «Литературной газете» увидела свет декларация перевальцев, принятая на общем собрании. 21 апреля в том же номере «Литературной газеты» публиковалась статья с названием «Конец “Перевала”» [16, с. 347]. 30 апреля 1930 г. о «Перевале» прошла дискуссия в стенах Коммунистической академии.
Суть претензий, которые критики предъявляли «Перевалу» и его лидеру, сводилась к тому, что члены группы пытались описывать «живого человека», не занимаясь при этом строительством пролетарской литературы. Обвинения часто носили характер политического доноса: Воронскому ставили в вину троцкизм, следование идее Троцкого о невозможности построить такую литературу. Любое объяснение, что это не так, рассматривалось как оправдание оппозиционной деятельности.
Между тем в сборнике «Ровесники» за 1930 г. был опубликован своеобразный манифест «Перевала», автором которого стал критик А. Лежнев. Несмотря на огромное давление со стороны напостовцев, «Перевал» стремился выстоять и даже сформулировать свое кредо. Лежнев прямо указывал, что «Перевал» остался тем же – «сохранил свою первоначальную литературно-общественную установку» [19, с. 5]. Более того, Лежнев напомнил критикам, что то, о чем писали перевальцы, стало признаваться в советской литературе как явление совсем не чуждое пролетарской культуре. Например, необходимость психологизма, «живого человека», преодоления бытовизма и схематизма.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































