Текст книги "Россия и современный мир №2 / 2018"
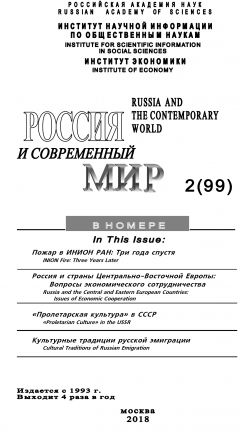
Автор книги: Юрий Игрицкий
Жанр: Журналы, Периодические издания
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Не могу не заметить, что все, сказанное Достоевским о неискренности и непоследовательности Герцена в оценке буржуазной цивилизации, относится и к Бердяеву. Переехал в 1924 г. в буржуазный Кламар под Парижем, потом стал хозяином уютного дома со всеми преимуществами устроенной бюргерской жизни, но одновременно призывал своих соотечественников, русский народ спокойно воспринимать тяготы и голод бараков ГУЛАГа во имя особой русской миссии.
Но самое важное, даже Достоевский, порвав уже к началу 1860-х, ко времени написания своих «Заметок», со всеми своими социалистическими иллюзиями молодости, поняв, что трудное, постепенное совершенствование той жизни, которая есть, обладает несомненными моральными преимуществами перед революционными рывками в счастливое будущее, все же не в состоянии преодолеть эту труднообъяснимую антибуржуазность русского интеллигентского сознания. Он, Достоевский, русский интеллигент, погруженный с головой в буржуазный быт Санкт-Петербурга, вынужден, как самый последний лавочник, торговаться с издателями по поводу оплаты, за каждый печатный лист своих произведений, он, человек, любящий блага буржуазного мещанства с его посиделками в ресторанах с богатой кухней, в то же время как самый законченный социалист, разоблачает «духовное уродство Запада», критикует культ потребления, накопительства, собирательства, культ денег.
Но эта устроенность человеческой жизни на Западе, т.е. характерное для западной буржуазной цивилизации желание сохранить «существующее положение», сохранить блага устроенного дома и достатка отталкивают русскую душу Достоевского. Ибо, как он считает, западный человек в жертву всем этим благам приносит право человека на мечту, на мечту жить в другом, подлинно счастливом будущем. Достоевский в конце концов проклинает это счастье бюргера, ибо он, западный человек, «вырывает с мясом из себя все желания и надежды… свое будущее». Для него как типично русского интеллигента, конечно на словах, сама возможность нести в себе мечту, идеал другого, более совершенного будущего куда более ценна, чем сама жизнь, чем жизнь благоустроенной буржуазной Европы. А потому, как я уже сказал, современный буржуазный Запад со своей благоустроенной жизнью для Достоевского в моральном отношении куда менее ценен, чем наша жестокая по отношению к человеку Россия.
И здесь же, в своих «Зимних заметках», в противовес ценностям буржуазного бюргерства, в противовес индивидуализму буржуа Достоевский формулирует кредо того, что Бердяев позже назовет «православным социализмом». Бунт Достоевского, как и позже Бердяева, против торгашества, корысти и мании приобретательства буржуазного Запада проистекал у Достоевского из веры, что можно так организовать общественную жизнь, чтобы человеком двигала только забота о дальних, а не о себе, чтобы им двигало только чувство человеческого братства. С одной стороны, в идеале надо, рассуждал он, чтобы все стали «самоправными и счастливыми личностями», надо, чтобы каждый «я жертвовал себя для всех; …жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде…». Но, с другой стороны, чтобы все стали «самоправными и счастливыми личностями», необходимо, чтобы в свою очередь это братство, сообщество людей заботилось о судьбе и благосостоянии каждой отдельной личности. На слова отдельной личности, настаивающей на том, что «мы крепки только все вместе, возьмите же меня всего, если вам во мне необходимость… Это высшее счастье мое – вам всем пожертвовать и чтоб вам за это не было никакого ущерба…». Братство, – настаивает Достоевский, – должно сказать: «Ты слишком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом твое счастье; но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце за твое счастье. Возьми же все и от нас. Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни преграды теперь не бойся. Мы все за тебя…» [15, с. 108]. И после этого заявления общины о тех гарантиях, которые, с его точки зрения, она обязана даровать коллективистской личности, Достоевский добавляет: «После этого, разумеется, уж нечего делиться, тут уж само собою разделится. Любите друг друга (выделено мной. – А. Ц.), и все сие вам приложится» [10, с. 108].
И приведенные мной выше размышления Достоевского о подлинной коллективности, социалистичности как подлинной духовности, дают, на мой взгляд, ключ к объяснению срыва гуманиста и христианина Бердяева в пропасть марксистского революционизма. Достоевский связывает воплощение в жизнь своего идеала антибуржуазности, идеала подлинного коллективизма прежде всего с работой души человека, с его моральным перерождением, с победой христианской любви к ближнему. Религиозное чувство, вера в Бога как раз и были каменной стеной, которая отделяла его, Достоевского, антибуржуазность от революционности, от жажды разрушения мира сего до основания. Одно дело – просто желать перемен к лучшему в жизни, обличать пороки мира сего, а другое дело – «желать перемен и переворотов насильственно, возбуждая желчь и ненависть», объяснял Достоевский своим следователям по время дела петрашевцев [15, с. 227]. Эти же соображения приводил Герцен, объясняя «Молодой России» свое разочарование якобинством. В молодости он действительно поклонялся революционной решимости вождя Революционного трибунала Робеспьера, говорил, что он смелым шагом «ступал в кровь, и кровь его не марала». Но тот же Герцен в конце жизни все же видит в революционном терроре угрозу основам человечности, фундаментальным основам человеческого бытия. В отличие от Бердяева, который шел от осуждения революции и революционного террора к его оправданию в старости, Герцен в конце жизни расстается с романтикой французской революции. Террор, говорил он в конце жизни, «дает волю страстям», «легко увлекается кровью». «Какая бы кровь ни текла, где-нибудь текут слезы» [7, с. 545–546].
О различии между христианской любовью к человеку и садизмом аскетического православия
И существует довольно простое объяснение, почему традиционный российский протест против буржуазного мещанства с его приземленностью страстей лавочника в одном случае, как у Бердяева, вел к оправданию революционного насилия, а в другом случае, как у Достоевского, – к протесту против шигалевщины. И это объяснение дает нам Леонтьев в своей критике религиозности Достоевского. С точки зрения Леонтьева, характерная для Достоевского проповедь любви к человеку, который есть, несовместима с подлинной религиозностью. Я имею в виду все, что говорит об авторе «Бесов» Леонтьев в своей статье «О всемирной любви (речь Ф.М. Достоевского на пушкинском празднике)». Беда Достоевского, считал его идейный противник Леонтьев, состоит в том, что на самом деле для него «идея любви привлекательнее» идеи Бога, что он связывает «спасение души» прежде всего с «деятельной любовью». Для самого Леонтьева подобное соединение идеи Бога с идеей деятельной любви, т.е. с работой души живущего на этой земле человека, вредно, ибо, как он считает, это соединение стирает различия между элементарной «гуманностью» и подлинной религиозностью. Все дело в том что, с точки зрения Леонтьева, «долгое благоденствие и покой души», рожденные «деятельной любовью», вредны. Вредны, ибо это противоречит сути христианства. Как настаивает Леонтьев, «…христианство, с одной стороны, не верит в прочность и постоянство добродетелей наших, а с другой стороны – долгое благоденствие и покой души считает вредным. Оскорбленному внушает: эта обида тебе полезна, рукой неправедного человека наказал тебя Бог: прости человека и кайся перед Богом. Горе, страдание, разорение, обиду христианство зовет даже иногда посещением Божиим. А гуманность простая хочет стереть с лица земли эти полезные нам обиды, разорения и горести…» [12, с. 150].
Достоевский при всем своем духовном отторжении от буржуазного индивидуализма и мелких страстей западного европейского «лавочника», при всей своей мечте об общественной гармонии, когда каждый работает не на себя, не на ближних, а на дальних, на благо общества, все же остается врагом революционности. Ибо для Достоевского религия как любовь к человеку, который есть, и революционность, шиголевщина несовместимы. И Константин Леонтьев прав: Достоевский был прежде всего гуманистом, в основе его религиозности лежала любовь к человеку, который есть. Он, Достоевский, был ненавистником шигалевщины, всех «безбрежных мечтателей», которые на крови, на человеческих страданиях хотели построить общество абсолютного равенства. А потому у Достоевского традиционное русское интеллигентское духовное отторжение от буржуазной цивилизации не ведет, как у Бердяева, к революционности, к оправданию «палачества большевиков», к оправданию революционного насилия. Внутренний строй души Достоевского, его религиозное чувство, как мы видим, качественно отличалось от того, что Бердяев называл своей особой религиозностью.
На самом деле нетрудно доказать, что уже в своей «Философии неравенства», где Бердяев начинает видеть мир глазами Леонтьева, начинает видеть благо в «обидах, разорениях и горестях», он уходит от религии любви к ближнему Достоевского к аскетическому садистскому православию Леонтьева. Такой скачок Бердяева трудно объясним с точки зрения здравого смысла. Но то, что несовместимо с точки зрения элементарной логики, объясняется особенностями нашей загадочной русской души. Стремление совместить крайности, найти нечто серединное между противостоящими друг другу истинами, наверное, нам не дано.
О русских скачках от одной крайности к другой
Молодой, начинающий философ Бердяев, желающий доказать прежде всего себе возможность соединения религиозности и любви к тому человеку, который есть, разоблачает садизм Леонтьева. Он посвящает одну из первых своих статей критике того, что он называет «философией реакционной романтики». Статья так и называется – «К. Леонтьев – философ реакционной романтики». И тогда (это было в 1904 г.) Бердяев видит реакционность и садизм Леонтьева в том, что его «извращенная природа вела к тому, что в религии и политике он сделался настоящим садистом, исповедовал культ сладострастия, мучительства и истязаний». Тогда для молодого Бердяева смысл религиозного отношения к человеку состоял в том, что его, человека, нельзя ни в коем случае превращать в средство. Тогда для Бердяева «несомненная истина религиозного откровения», истина Христа состояла в проповеди «безмерной ценности человеческого лица», в том, что живущего, реального человека нельзя превращать в средство [2, с. 261–262]. Но уже в «Философии неравенства», которую Бердяев издал в Берлине в 1923 г., он оправдывает то, что он называл «реакционной романтикой Константина Леонтьева», т.е. отношение к человеку как к жертве на пути к божественному. Здесь уже сам Бердяев настаивает на том, что без страданий и жертв невозможно нечто великое, что превращение благ жизни человека в самоценность есть уступка «духу буржуазности». «Божественное, – говорит он, – требует жертв и страданий. Воля к божественному в человеке не дает ему успокоения, она делает невозможным никакое благополучие на земле, она влечет его в таинственную даль, к великому. Точка зрения личного блага каждого и всех направлена к низвержению божественного, она по существу антирелигиозна» [4, с. 65]. Так что на самом деле уже в «Философии неравенства» сформулировано мировоззрение, которое позже, в 1937 г., в работе Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» проявилось как откровенная апологетика революционного насилия. И здесь для меня важно подчеркнуть: на самом деле от аскетического православия, связывающего религиозность и духовность обязательно с «обидами, разорениями и горестями» на этой земле, не составляет труда перейти к ленинскому «нравственно все, что служит победе коммунизма». А все размышления Бердяева о различии между подлинным и реальным коммунизмом в СССР уже не меняют существа дела. Главное состоит в том, что христианство, религиозность Бердяева не мешают ему видеть «величие» большевистской революции.
И чего здесь, в этом традиционном российском поиске Христа, в зверстве «русского бунта, бессмысленного и беспощадного» больше? Неиссякаемой русской жажды возвышенного, трансцендентного, жажды прорыва души за горизонты обыденности или просто слабости, недоразвитости души, неспособной отринуть от себя уродство сидящего в ней зверя. Согласитесь, есть что-то садистское в нашей русской привычке видеть в муках людей знаки мистического и божественного.
Даже герои пьесы Сергея Булгакова «На пиру богов» уже в 1918 г. не принимают оправдание этого русского зверства, которое обычно приводил Достоевский. Только «славянофил» в пьесе С. Булгакова настаивает на том что «после всего, пережитого за революцию» он может клятвенно подтвердить слова Достоевского: «Пусть в нашем народе зверство и грех, но в своем целом он никогда не принимает и не захочет принять своего греха за правду», ибо «идеал народа Христос» [6, с. 319]. Но если основатели русской религиозной философии, тот же С. Булгаков, автор пьесы «На пиру богов», и Семен Франк, после революции потеряли на самом деле веру в то, что русские не захотят принять «своего греха за правду», что для них идеалом всегда был и будет Христос, то Бердяев по мере приближения к концу своей жизни все больше и больше верил в то, что русская душа отторгнет от себя «зверства и грех времен революции, назовет зло злом, покается и принесет человечеству свет с Востока, который должен просветить буржуазную тьму Запада» [3, с. 243].
И поразительно, – это к вопросу о логике нашей русской веры в невозможное, – что сам Бердяев видит, что никаких оснований для оптимизма нет, он в своих «добавлениях» к «Русской идее», написанных уже в 1947 г., за несколько недель до смерти, пишет, что вместо ожидаемой им свободы в СССР все больше и больше «возрастает централизованный тоталитарный этатизм». В «официальной церковности, как он пишет, все больше и больше «преобладает консервативное направление», «желание вернуться к XVI и XVII векам» [3, с. 600]. Но все равно, несмотря ни на что, Бердяев говорит, что при всей своей «непримиримой вражде к советской власти» с ее «идеологической диктатурой» он все же «признает положительный смысл революции и социальные результаты революции». И более того, он верит, что будущее человечества за коммунизмом и марксизмом, что «капиталистический строй осужден и рушится», что за марксистами «чувствуется сила и организованный волевой напор», что по сравнению с марксизмом «христианство не имеет витальной силы, которая у него была в прошлом» [3, с. 603].
Что стоит за этой неиссякаемой верой в возможность прорыва человечества в «подлинный коммунизм», верой в то, что именно советская Россия, Россия Сталина принесет умирающему Западу свет с Востока? Ведь сам Бердяев видит и пишет, что ничего, кроме усиления деспотизма и тоталитаризма, в советской России за последние 30 лет не наблюдается!
Ведь все же существует разница между религиозным чувством, импульсом души, сопереживанием в своей душе идеи Бога как того, чего нет перед твоими глазами, и сопереживанием того, что рядом с тобой сейчас, сопереживанием земного мира сего. Ведь даже если это земное отделено от тебя во времени, будет в будущем, оно не может не быть не связанным с этим миром, который ты наблюдаешь и в котором живешь. Ведь это будущее на земле может появиться только от того, что есть сейчас. Ты веришь, что русскому человеку свойственна «жалость к падшим, униженным» [3, с. 247]. Но тогда почему тебе, тоже русскому человеку, не жалко своих соотечественников, которые мучились, погибали во время революции, во время большевистского террора? Почему ты настаиваешь на том, что муки русского человека должны продолжаться, как ты говоришь, «до дна»? А как можно определить, муки русские дошли до дна или нет?
Поэтому я и настаиваю на том, что когда мы имеем дело, и это видно на примере Бердяева, с русской верой в невозможное, то мы имеем дело с какой-то особой человеческой душой и каким-то особым человеческим умом.
Повторяю. Лично я склонен верить тем авторам сборников «Вехи» и «Из глубины», которые настаивали на том, что на самом деле за нашей русской революционностью, нашей русской готовностью если не с оружием в руках, то хотя бы умом и сердцем поддерживать революционные преобразования мира, стоит все-таки, по словам С.А. Аскольдова (статья «Религиозный смысл революции»), наша русская недооценка «человека как такового». Беда наша в том, писал он в этой статье, что нет у русских той культуры, того уровня цивилизованности, который дает возможность осознать самоценность «человека и человеческой жизни». Не было у нас, говорит Аскольдов, у русских, в том числе у русской интеллигенции, той культуры, которая дает возможность пустить в свою душу гуманизм как подлинное сопереживание своей душой мук и страданий своих соотечественников. «Святость» как индивидуальный подвиг, возможно, и была. Но человечности, морали как массового явления не было. «И это не потому, – пишет Аскольдов, – что мы запоздали в культуре и что тип гуманиста – а в нем-то и выражено начало человечности по преимуществу, – есть уже тип культурного человека. Нет, мы скажем обратное: не гуманизм у нас запоздал от запоздания культуры, а культуры у нас не было и нет от слабости гуманистического начала» [6, с. 226].
Аскольдов прав в том, что если «этический уровень русской души невысок», то и созданная этим русским человеком революция не имеет на самом деле никакого «этического пафоса». Кстати, само появление в России философии Леонтьева, философии оправдания мук человеческих, подтверждает предположение Аскольдова, что с гуманизмом и с человечностью в нашем национальном сознании что-то не так.
Религиозность и революционность несовместимы
Надо сказать, что Маркс в этом смысле был куда более честным и последовательным мыслителем. Он еще в своих ранних произведениях, к примеру в статье «К еврейскому вопросу», написанной в 1843 г., настаивал на том, что не может быть ничего общего между его учением об исторической миссии пролетариата с христианским гуманизмом. Маркс со свойственной ему последовательностью прямо заявлял, что ему как революционеру и атеисту чужда христианская идея «суверенитета человека» и выросшая на ее основе «политическая демократия». Маркс прямо писал, что все идеи, лежащие в основе европейского гуманизма, чужды ему, ибо они имеют религиозное христианское происхождение. «…В них человек, – не какой-либо отдельный человек, а всякий человек имеет значение как суверенное, как высшее существо». Но все дело в том, разъяснял свою позицию Маркс, что мы имеем дело в действительности с «человеком в его некультивированном, несоциальном виде, человеком в его случайном существовании, человеком, каков он есть, человеком, испорченным всей организацией нашего общества, потерявшим самого себя, ставшим чуждым себе, отданным во власть бесчеловечных отношений и стихий, одним словом, человеком, который еще не есть действительное родовое существо» [13, с. 397]. Этот процитированный выше отрывок из названной статьи Маркса подтверждает исходную идею «Бесов» Достоевского, что безбрежная социальная мечтательность, вера в возможность совсем иного мира, где «сознательное» окончательно вытеснит «стихийное», где индивидуальные материальные интересы будут вытеснены из отношений между людьми, неизбежно ведет к отрицанию христианства, к отрицанию ценностей «всякого человека», ценностей жизни каждого отдельного человека. Декларируя свое родство с марксизмом, Бердяев не учитывал, что на место христианской идеи равноценности каждого отдельного человека Маркс ставил свою веру в то, что только пролетариат представляет собой «социальный разум и социальное сердце истории» [13, с. 425].
Названная статья Аскольдова ценна еще тем, что ее автор напомнил о том, что было очевидно самому Марксу: революционность, ставящая во главу угла насилие как способ преобразования мира, изначально несовместима с христианством. Правда, нельзя забывать, что когда Маркс писал о христианстве, породившем европейский гуманизм с его идеей суверенности каждого отдельного человека, он, конечно, имел в виду католицизм и в особенности протестантизм, а не то садистское, аскетическое православие, которое исповедовал и проповедовал Леонтьев. Важно учитывать, что и Аскольдов в названной статье говорит о христианстве, породившем европейский гуманизм, а потому изначально несовместимом с революционным насилием. Кардинальная разница между идеей революции и христианством, писал Аскольдов, состоит в том, что оно, христианство, проповедует «эволюционное развитие». С этой точки зрения невозможно то, что было свойственно Бердяеву, т.е. декларировать веру в Христа и веру в истинность учения Маркса.
И действительно, французы не поставили Иисуса Христа в своей поэзии впереди комиссаров робеспьеровского Конвента, идущих сжигать восставшие против них деревни, а Блок в своей поэме «Двенадцать» увидел в вандализме, грабежах, насилии, злобе, агрессии восставшей голытьбы особый религиозный смысл.
Неважно, что голытьба озверела, потеряла человеческий облик, что «все двенадцать ко всему готовы, ничего не жаль», что им «позабавиться не грех», что «нынче будут грабежи! Отмыкайте погреба, гуляет нынче голытьба!» [5, с. 166]. Для Блока тогда, в первые дни января 1918 г., важно другое, что судьба наказала сытую Россию, что «стоит буржуй как пес голодный», что «больше нет городового», что «умер старый мир как пес безродный» [5, с. 162–163].
Ничего, кроме смерти, разрушения, надругательства над человеком, восстание обозленной «голытьбы» не несло в себе. Так видели происходящее Иван Бунин, Максим Горький, Владимир Короленко, Зинаида Гиппиус, Константин Коровин и др. Но правда состоит в том, что было среди российской интеллигенции и много тех, кто, как Бердяев и Блок (в первые дни после Октября), видели в этой смерти России и русской души Божий промысел. Почему? Как устроены душа и мозги тех, кто в смерти видит нечто возвышенное, лучи солнца?!!
Почему Блок тех дней, а Бердяев уже до конца жизни находили в этом безумии озверевшей голытьбы нечто возвышенное, надчеловеческое? Почему в их сердце не было никакого сострадания к мукам своего сословия, к мукам не только «сытой», но и образованной России, к мукам русской элиты, ставшей жертвой этой голытьбы. Что это за патриотизм, когда нет понимания самоценности национальной элиты, жизни тех, кто своим умом и душой создает национальные ценности?
Почему тот же Бердяев не только видел в этой расправе голытьбы над теми, кто «чисто одет», в этой жестокости утративших человечность людей, в этом «бесчестье как исконном русском свойстве» нечто апокалипсическое, божественное, но и считал, что этот бесчестный человек ближе к Богу, чем ведущий благопристойную жизнь человек Запада. Уже в конце жизни в своей «Русской идее» Бердяев говорит, что «у русских моральное сознание очень отличается от морального сознания западных людей, это сознание более христианское» [3, с. 247].
Правда состоит в том, что за этим специфическим бердяевским ви́дением «русского бесчестья» стоит какое-то особое восприятие мира, самой природы добра и зла. Наверное, ни у одного народа мира не стирается так легко, как у нас, различие между добром и злом, божественным и преступным. Когда я писал последнюю фразу, я вспомнил нынешних русских старух, у которых в горнице на стене образ Божьей матери соседствует с портретом Сталина.
Наверное, наша традиционная сакрализация мечты прыжка в неизведанное, прорыва за пределы видимого, существующего как раз и связана с нашим неумением остановиться посередине, остановиться, чтобы не потерять связь с тем, что есть в жизни, что есть на самом деле, чтобы создать программу возможного обновления жизни. Все говорит о том, что Гоголь был прав, мы упорно, как он говорил, «пялим глаза в будущее» не потому, что мы какие-то особые, возвышенные, а потому, что не любим видеть, что «у нас под ногами» [9, с. 31].
И главное, о чем говорил мудрый Гоголь. Страх перед настоящим рожден страхом перед «трудной работой», необходимой для устранения из нашей жизни «горестного и грустного». От себя добавлю. Свойственный нам, русским, дефицит чувства реальности, вытеснение рационального иррациональным как раз и рождает страх перед правдой о том, что мы на самом деле можем. Если свести все реальные показатели нашего реального развития, начиная от нашей производительности труда и нашей конкурентоспособности, от денег, которые мы тратим на НИОКР, от наукоемкости нашего экспорта и т.д., то тогда волосы должны встать дыбом. Весь наш романтизм, вся эта наша безграничная вера в идеалы – уловка, бегство от правды о самих себе.
Чем больше в реальной жизни того, что противоречит нашей мечте, тем для нас ценнее и важнее мечта о будущем и тем меньше цена жизни того человека, который живет в этом «горестном» мире. Казалось бы, все наоборот. Чем беднее в человеческом смысле наш быт, наша повседневная жизнь, тем сильнее должна была бы быть в нашей душе жажда, потребность очеловечивания нашей жизни, ее благоустройства. Но это если бы мы были на самом деле христианами, жили бы деятельной любовью к ближнему. А у нас, напротив, чем горестнее и печальнее наша жизнь, тем больше нам наплевать на боли и страдания своих ближних. И тут, в этом равнодушном отношении к жизни и человеку, который живет в настоящем, многое зависит уже от физиологии мечтателя, от того, насколько его природе комфортен этот бренный мир. И совсем не случайно для того же Бердяева его физиология была такой же мукой, как и для Ницше.
Анализ философии Бердяева, его интеллектуальной биографии, все эти истории с резкой сменой оценки одних и тех же лиц, событий (примером тому и его отношение к славянофильству, к Леонтьеву) подводит нас к выводу, что чаще всего за восстанием мыслителя к миру сему, к той жизни, которая есть сегодня, стоят все особенности строения его души и даже его физиологические особенности как индивида. Прочтите внимательно признание Фридриха Ницше в никогда не покидающего его души отторжения от «повседневной действительности», от всего реального, материального, что окружало его в жизни. С каждым годом он, по его собственному признанию, все больше и больше мучился от «усиливавшейся бессонницы» и «ужасом перед повседневной действительностью», ибо она казалась ему «уже не действительной, а призрачной» (см. об этом: [16, с. 9]). И это признание в «отвращении» от «обычного мира», от «скупой на стимулы пустыни будней» пронизывают все творчество Фридриха Ницше. Ничто, ни любовь, ни привязанность к чему-то материальному, ни даже семья не привязывали Фридриха Ницше к этому миру. Для него этот мир не несет ничего достойного. «Мы живем в период атомов, атомистического хаоса». Недовольство миром вообще переносится у Ницше на недовольство, как он считал, примитивизмом и скукой буржуазной обыденности. И потому погружение в загадки своего «я» становится целью его жизни. А соблазн сказать миру то, о чем до него никто не решался сказать, что на самом деле весь этот мир и эта жизнь не имеют смысла, как раз и был главным стимулом его жизни и творчества. А потому «сверхчеловеком» становится тот, кто восстал против всего этого мира и даже морали.
Есть все основания утверждать, что особенность мировоззрения Бердяева, все то, что принято называть его «непоследовательностью», шатанием из одной крайности в другую, тоже идет, на что он сам обращает внимание в своей исповеди «Самопознание», от его природного, трудно преодолимого отвращения к тому миру, который есть, к тому, что он называет телесностью. «Иногда, – признается он, – я с горечью говорю себе, что у меня есть брезгливость вообще и к жизни и к миру… Я часто закрываю глаза, уши, нос… Я так страстно люблю дух, потому что он не вызывает брезгливости» [3, с. 582]. И в этом болезненном, брезгливом отношении к миру, который есть, он как раз и близок (о чем он сам заявляет неоднократно) к Ницше. А в духовном, нетелесном, как он считает, лично для него важнее всего ощущение мистики истории, мистики вечности. «Настоящее, временное» для него второстепенно. Он заявляет об этом все чаще и чаще по мере приближения к концу своей исповеди «Самопознание». Как известно, он, как и Ницше, не испытал в своей жизни много радостей от данной ему Богом телесности. Даже к своей собственной жене любовь у Бердяева носила в основном духовный, платонический характер. Если Василий Розанов находил божественное, вообще Бога в тайне семьи, рождении детей, то Бердяев впадал в другую крайность, искал Бога в метафизическом, в способности человека через познание преодолеть телесное, выйти из-под его власти. Его идеализм и его инстинктивное отторжение от природного были тесно связаны. «Я не верю в твердость и прочность так называемого “объективного мира”, мира природы и истории», – заявляет в «Самопознании» Бердяев.
И из этой изначальной отчужденности от реального мира, от реального человека идет то, что Бердяев называет своей «революционно-анархической настроенностью», которая «хотела бы совершенно опрокинуть этот мир» [6, с. 584]. Маркс потому и остается, по его признанию, до конца дней его учителем, что им, Марксом, двигало то же страстное желание не просто найти «разгадки» этого мира, а изменить его. И действительно, в основе учения Маркса о коммунизме как конечном результате человеческой истории, как переходе от «предыстории» к «подлинной» истории лежит идеализм, гегелевское учение о смысле истории, не сводимом к чему-то временному, эмпирически наблюдаемому. В чем сущность марксистской философии? Она является прежде всего программой изменения мира. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [13, с. 4]. Так говорил Маркс в своем знаменитом 11-м тезисе о Фейербахе. Что было самым существенным в творчестве Бердяева для него самого? «Меня называли модернистом, и это верно, ибо я верил и верю в возможность новой эпохи в христианстве – эпохи Духа, которая и будет творческой эпохой» [3, с. 237]. В конце жизни в своей исповеди «Самопознание» Бердяев прямо говорит, что «по основным своим эмоциям и оценкам я скорее “левый”, революционный человек, хотя и в особом духовном смысле» [3, с. 506]. На самом деле Бердяев больше революционер, чем Маркс, ибо он, Бердяев, пытается создать новое учение о Боге, о спасении человека. Маркс мечтал о «прыжке» человека из рабства экономики в свободу творчества, а Бердяев мечтает освободить человека от рабства страха перед адом и вечными муками.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































