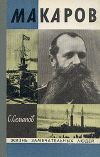Автор книги: Юрий Макаров
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
В 1905 году вышла в свет повесть Куприна «Поединок». В ней описывается в самых мрачных красках служба, а главное – жизнь офицеров армейского пехотного полка со стоянкою в глухом местечке в Польше, где единственным развлечением офицеров было ходить на станцию железной дороги, встречать и провожать пассажирские поезда. Описывается офицерское нищенское существование, связи с полковыми дамами, зеленая скука и безобразные, дикие попойки в офицерском собрании, где вдребезги пьяные офицеры выплескивали друг другу в лицо стаканы с пивом, срывали друг у друга погоны и, сцепившись в драке, валились на грязный, усыпанный окурками, заплеванный пол.
Повесть эта, пожалуй, самая талантливая вещь из всего, что Куприн написал, в офицерской среде в свое время наделала большого шума. У нас ее все читали и комментировали. Одни говорили, что это ложь и злостная клевета на русское офицерство. Другие – что похоже на правду, но сильно сгущены краски. Наконец, третьи утверждали, что все так оно и было и что голая действительность еще много гаже.
Сравнивать жизнь купринских офицеров и наших, конечно, трудно. Мы были «баловни судьбы». Но тем, что в нашей жизни не бывало не только «поединков», но даже простых ссор, этим мы обязаны исключительно самим себе. Этим мы обязаны «внеслужебной дисциплине», которая ни в каком уставе предписана не была, но которая насквозь пропитывала всю нашу жизнь и которая делала купринские сцены, или даже легкое подобие их, практически невозможными. Не говоря уже о службе, но и вне службы, и даже в частном доме, среди нас всегда были «старшие» и «младшие», причем старший, хотя бы только на один чин, и хотя бы даже по списку в том же выпуске, имел право приказать младшему, и младший обязан был это приказание выслушать и исполнить. Ссор не было не потому, что все так уже нежно любили друг друга, а потому, что их нельзя было допускать, и тот старший, который в своем присутствии допустил бы такую ссору, был бы сам призван за это к ответу.
По этому поводу вспоминается один характерный случай. Дело было в самом конце лагерей. Было воскресенье, и почти все офицеры разъехались. В довершение неприятности «шел дождь, и перестал, и вновь пошел». Была типичная красносельская погода первых дней августа. В лагере, кроме дежурного и помощника, остались по наряду по два офицера на батальон, все подпоручики, и старший из них Сергей Романовский. После обеда, накрытого на конце стола, все мы, человек шесть, перешли наверх, в комнату, где стоял рояль, и потребовали себе кофе и коньяку. Сначала все шло тихо и мирно, но потом один из компании, Алексей Репинский, любивший и умевший дразнить, стал вышучивать другого офицера Фогта, который в обыкновенном состоянии был добродушен и незлобив, но, если его раздразнить, мог быть опасен. Фогт сначала отшучивался, но потом замолчал и стал хмуриться. Начинало становиться неприятно, и в воздухе запахло ссорой.
Романовский, который несколько раз пытался переменить разговор и унять задиру, увидел наконец, что пришло время действовать серьезно.
– Репинский, я тебя прошу это прекратить, и я не шучу.
– Что за вздор, что же я такое особенное сказал… Я сказал только, что Фогт…
Но докончить он так и не успел. Романовский поднялся, застегнул китель и ледяным голосом сказал:
– Подпоручик Репинский, я как старший из присутствующих офицеров приказываю вам уйти.
Репинский побледнел, пожал плечами, но должен был встать и уйти.
Романовский и Репинский были одного корпуса и одного года производства, но по полковому списку Романовский был на три человека старше.
Внеслужебная дисциплина поддерживалась у нас всеми возможными способами. Когда в комнату входил командир полка, все вставали и становились смирно. Если в комнате находились одни обер-офицеры, то есть капитаны и ниже, и входил полковник – все вставали. Если ты сидел, а стоявший старший, хотя бы на один чин, обращался к тебе с вопросом, ты должен был встать. Каждый офицер, пришедший в собрание, должен был ко всем подойти и со всеми поздороваться, причем, здороваясь со старшими, нужно было остановиться, поклониться и ждать, чтобы старший протянул тебе руку. Если ты приводил в столовую гостя, то должен был сначала подвести его к старшему и представить, а потом познакомить его со всеми остальными. В столовой начать курить можно было, только спросив предварительного разрешения у старшего. И старшего не только по чину, а по полковому списку. Если ты уже сидел в столовой и курил и входил старший, то, чтобы продолжать курить, следовало спросить у него разрешения. Никакого «амикошонства» с дружескими подзатыльниками и с обращением друг к другу как к «Петьке», «Ваське», «Кольке» и т. п. не допускалось. Почти все офицеры были между собой на «ты», но это «ты» было отнюдь не фамильярное. Всех старше тебя, хотя бы на один чин, полагалось называть по имени и отчеству: «Ты, Николай Николаевич» или «Ты, Александр Сергеевич».
Уже на второй год службы я был на «ты» со всеми капитанами, но позволить себе к ним самомалейшую вольность мне бы и в голову никогда не пришло бы. Все эти на поверхностный взгляд незначащие мелочи сразу же после того, как молодой человек надевал полковую форму, затягивали его, так сказать, в «моральный корсет», к которому он быстро привыкал и который очень скоро переставал чувствовать. И это было то, что называлось «внеслужебная дисциплина».
Не считая гвардейских кавалерийских полков, где, как, например, в лейб-гусарах или в Конной гвардии, могли служить только состоятельные люди, из гвардейских пехотных полков наш был, увы, самый дорогой. У преображенцев, которые и принимали, и тратили на представительство если не больше, то, во всяком случае, не меньше нашего, жизнь облегчалась тем, что все общие расходы относились на полковые средства. У них был так называемый «священный капитал», который пополнялся из доходов с земли и недвижимости, которыми, как юридическое лицо, владело «общество офицеров». Доходы эти были настолько крупные, что позволяли оказывать ежемесячную помощь некоторым из наиболее нуждавшихся офицеров. На эти деньги, и кажется не без помощи бывшего однополчанина императора Николая II, преображенцы выстроили себе и содержали великолепное, отделанное мрамором собрание на Кирочной. На те же деньги содержалось их второе маленькое собрание 1-го батальона на Миллионной.
Никаких таких средств у нас не было, и все расходы по содержанию нашего собрания и по приемам гостей нам приходилось нести самим. Существовало два капитала, один «полковой заемный», а другой «заемный графа Клейнмихеля», пожертвованный бывшим командиром. Но из этих капиталов можно было брать ссуды, 300 рублей из обоих, которые нужно было погашать, и с процентами, что вопроса никоим образом не решало. При таких порядках, не считая личных расходов по собранию, завтраки и обеды, которые у скромного человека достигали обыкновенно 70–80 рублей в месяц, общих обязательных месячных вычетов было 40–50 рублей. Таким образом, при 86 рублях жалованья на одно собрание у молодого офицера выходило в месяц 130 рублей.
А квартира, а одежда, а удовольствия? Даже так называемая «светская жизнь», то есть посещение семейных домов, которые принимали у себя офицерскую молодежь, стоило денег. Время от времени нужно было приносить цветы и конфеты, или брать ложи в театр.
Между прочим, с театром дело обстояло так. Перед началом зимнего сезона собрание брало абонемент в Мариинский театр на балет. Ложа в бенуаре была из года в год одна и та же. Те четверо, которые в это воскресенье желали ею воспользоваться, должны были записаться на неделю раньше. Сговорившись заранее, можно было получить ее и одному и позвать знакомых. В том же абонементе были ложи у преображенцев и у измайловцев. Сидеть в театре дальше 5-го ряда считалось «неприлично». Но императорские театры делали офицерам льготу. В Мариинский, вне абонемента, в Александрийский и в Михайловский (французский) можно было приезжать за десять минут до поднятия занавеса и садиться на «свободные места». Такое свободное место в первых двух рядах продавалось офицерам за два рубля.
В «дореформенное время», в смысле офицерской задолженности в собрании, порядки были следующие. Офицер завтракал и обедал, приглашал гостей, требовал вина, широкой рукой подписывал записки на бутылки шампанского, а счет его все рос и рос и вырастал иногда до 2–3 тысяч рублей, и это при том условии, что все его жалованье целиком шло в ту же бездонную бочку – офицерское собрание. И наконец наступало 1 мая, официальный день выступления в лагеря и грозный день в офицерской жизни. К этому дню все счета по собранию должны были быть ликвидированы. Давались отсрочки, но не больше трех-четырех месяцев, после чего, если долг был не погашен, происходила экзекуция. Офицер снимал форму, долг его раскладывался на всех, а имя его попадало в «черную книгу».
Попасть в «черную книгу» можно было, впрочем, и не только за долги, а за все «неприличные гвардии офицеру поступки». Исчезал из обращения не только сам попавший в «черную книгу», но бесследно пропадало его имя, которое стиралось с полкового серебра и вычеркивалось отовсюду, где оно могло фигурировать. Для полка человек умирал, и о нем больше не вспоминали. И это случалось обыкновенно с мальчиками 20–23 лет от роду, вся вина которых была в том, что в Петербурге было много соблазнов, что они были молоды, неопытны, слабы характером и тянулись за людьми, которые были богаче их.
Кажется, в 1908 году, когда таких скоропостижно ушедших оказалось четыре человека, то есть больше половины всего выпуска, распорядительный комитет провел умную реформу. Было решено, что счет за еду закрывать в собрании офицеру нельзя, но на вино можно и должно. Постановили, что каждый может пользоваться кредитом всего до 200 рублей. Если офицерский счет перевалил за 200, то такому офицеру закрывается кредит на вино. Вино он мог требовать, но расплачиваться за него должен был уже не клочками бумаги с подписью, а наличными деньгами. А так как наличных денег обычно не имелось, то молодому человеку вместо шампанского приходилось пить пиво или ключевую воду. Разумность этой меры сказалась уже на следующий год. Долги на 1 мая стали выражаться уже не в тысячах, а в небольших сотнях и число ушедших уменьшилось наполовину.
Распорядительный комитет, состоящий из пяти человек, обыкновенно выбирался на год и подчинялся общему собранию. Если «старший полковник» был власть воспитательная, то распорядительный комитет был орган исключительно хозяйственный и ведал всеми делами собрания. Между собой комитет выбирал председателя, причем, как всюду и всегда, если удавалось выбрать подходящего человека, который для блага общественного был согласен безвозмездно давать свой труд и время, все шло отлично, и все были довольны. Все офицеры могли непосредственно обращаться в распорядительный комитет, но исключительно письменно, путем «Книги заявлений».
Книга эта всегда лежала на виду, в собрании, но своим видом и содержанием отнюдь не походила на знаменитую чеховскую «Жалобную книгу». Содержалась она в чистоте и в порядке и разграфлялась вдоль на две неравные части. Левая, широкая сторона, служила для заявлений, правая узкая, для ответов. Само собой разумеется, что все заявления и пожелания должны были быть составлены в сугубо корректной форме и начинаться или кончаться одной фразой: «Не найдет ли распорядительный комитет возможным» и т. д. По первому году службы выступать в книге заявлений не рекомендовалось, но начиная со второго, подобрав компанию сочувствующих, чином постарше, делать это было уже можно. Попробую по памяти восстановить страничку «Книги заявлений».
Время – лагеря 1906 года.
«10 мая 1906 года. Сегодня в седьмом часу утра я пришел в собрание, чтобы выпить кофею. По крайней мере, 10 минут не мог никого дозвониться. Наконец, вылез собранский вестовой, немытый и небритый. Кофей был наполовину холодный, и подавший его вестовой был в грязных перчатках. Казалось бы, к семи часам утра собранские вестовые должны уже быть на ногах и в приличном виде. Не найдет ли распорядительный комитет возможным обратить внимание на это безобразие. Капитан Назимов первый».
Через два дня на правой стороне книги появляется ответ: «Собранским вестовым чистые нитяные перчатки выдаются два раза в неделю. Буфетчику и старшему вестовому сделано замечание. Пред. распорядительного комитета капитан Лялин».
«23 мая 1906 года. Не найдет ли возможным распорядительный комитет привести в порядок теннисную площадку? Вся она покрыта ямами, вследствие чего мячи отскакивают не по физическому закону падения и отражения, а в произвольном направлении, что делает правильную игру невозможной».
За сим следуют подписи пяти офицеров.
Наконец, на правой стороне появляется: «Два года тому назад теннисная площадка была в полном порядке и, несмотря на это, почти всегда стояла пустая. Присутствие на ней ям объясняется тем, что господа офицеры не дают себе труда надевать перед игрой теннисные туфли, а бегают по площадке в сапогах с каблуками. Ввиду того что играющих в теннис офицеров имеется в полку всего 5–6 человек, и того, что, по наведенным справкам, капитальный ремонт площадки стоил бы больше ста рублей, распорядительный комитет не считает возможным произвести этот расход».
Подпись председателя.
«26 мая 1906 года. Не найдет ли распорядительный комитет возможным завести в саду, в офицерском гимнастическом городке, наклонную лестницу для лазанья и параллельные брусья?»
Следуют подписи 15 человек, и из них одного полковника (Левстрема) и двух капитанов (Лоде и Сиверса).
Это заявление уже серьезное и заслуживает внимания. И действительно, на следующий день на правой стороне появляется: «Наклонная лестница и параллельные брусья будут заведены».
И, как всегда это случалось, первые недели после того, как они появились, около них по вечерам всегда толпился народ. Потом это надоело, и к ним уже никто не подходил. Взрослые люди, а впрочем, и не взрослые могут правильно и регулярно заниматься гимнастикой только по принуждению. Одно время зимой мы организовали гимнастическую группу и пригласили инструктора. Собралось около 15 офицеров. Три раза в неделю, к пяти часам, в коридоре одной из рот, к великому удовольствию наблюдавших чинов, мы переодевались в спортивное платье и, под командой чеха Вихры, начинали бегать, прыгать и кувыркаться. И тут, как и всегда в такого рода благих начинаниях, увлечение оказалось кратковременным. Наша группа просуществовала всего одну зиму. Почему-то считалось, что заставлять взрослых людей, господ офицеров, заниматься спортом, в частности гимнастикой, неудобно и неприлично. В этом смысле единственное исключение делалось для стрельбы в пехоте и для верховой езды в коннице. Надо надеяться, что в нашей новой современной армии этот вопрос поставлен иначе.
Теперь скажу несколько слов о том, что было «принято» и что «не принято».
В старое время в России на железных дорогах существовало 3 класса, первые два мягких, а третий жесткий. Все офицеры, платя за билет 3-го класса, могли ездить во 2-м. Офицерам 1-й Гвардейской дивизии рекомендовалось ездить в 1-м классе, особливо на малые расстояния. Из Красного Села в Петербург, при стоимости билета в 36 копеек, все ездили в 1-м.
Когда я вышел в полк, по столичному городу Санкт-Петербургу еще ползала конка, влекомая парой кляч. В ней ездить гвардейским офицерам было неудобно. Вскоре по главным улицам забегал электрический трамвай. Поначалу вагоны были чистенькие и новенькие, и в трамвае стали ездить все, даже генералы. Когда в субботу после обеда офицеры уезжали из Красносельского лагеря, то, выходя с Балтийского вокзала, в трамваях рассаживались кавалергарды, конногвардейцы, лейб-гусары, преображенцы, наши, и все прекрасно себя в них чувствовали. С течением времени трамваи потеряли свой блеск и новизну и подверглись демократизации. Скоро в них разрешено было ездить солдатам, а офицеры, те, кто не держал своих лошадей, постепенно перешли на прежний, довольно дорогой и довольно медленный способ передвижения – извозчиков. Нужно заметить, что первые таксомоторы появились в Петербурге за год до войны. Извозчичья такса существовала только в теории, а на практике нужно было «рядиться». Садиться «без торгу», особенно на хорошего извозчика, было небезопасно. При расчете, несмотря на твое офицерское звание, он мог тебя обругать, что было уже нежелательно. А потому, выходя из подъезда, обыкновенно говорилось: «Извозчик, на Кирочную, 40 копеек». На это почти всегда следовало: «Пажалте, васясо!» Отстегивалась полость, и твои ноги погружались в сырое сено. Вследствие климатических условий тротуары бывали часто достаточно грязны, и для поездки в тонких лакированных ботинках на бал или на обед извозчик был единственное возможное средство передвижения.
Вообще извозчики были довольно крупной статьей расхода. У ведущего «светскую жизнь» офицера на них выходило до 30–40 рублей в месяц. На углу Невского и Владимирской, около ресторана Палкина, находилась биржа «лихачей», у которых лошади были разбитые на ноги рысаки и особенно щегольские санки или пролетки на надувных шинах. Драли они сумасшедшие деньги. На них ездили обыкновенно юнкера кавалерийского училища, студенты-белоподкладочники и девицы легкого поведения. Гвардейским офицерам ездить на лихачах считалось неприличным.
Было принято, и нашими «роялистами» всячески поощрялось посещение офицерами больших ресторанов. Считалось, что это хорошо для полкового «престижа». Ездить в рестораны можно было только в первоклассные. Таковыми считались: «Кюба» на Морской, «Эрнест» на Каменноостровском, «Медведь» на Конюшенной, два «Донона», один на Мойке, а другой у Николаевского моста, и «Контан» на Мойке. Позволялось заходить во «Французскую» гостиницу, к Пивато на Морской и в «Вену» на улице Гоголя, но уже только для еды, а не для престижа. В первых шести ресторанах все было действительно первоклассное. И цены были первоклассные. Пообедать там вдвоем, с обыкновенным вином, меньше чем за 10–15 рублей было невозможно. Тем, кто приезжал вечером, после обеденных часов, полагалось пить шампанское. Одно время наша веселящаяся молодежь облюбовала помещавшийся поблизости «Контан» и довольно часто туда ездила, являясь обыкновенно попозднее, когда обед был уже закончен.
«Контан» был небольшой, но очень уютный ресторан, куда входить нужно было по длинному коридору, по коврам, в которых тонула нога и где преобладающие цвета были темно-красный с золотом. Окна выходили в сад. При нашем входе знаменитый тогда дирижер, румын Жан Гулеско, останавливал музыку и оркестр начинал играть Семеновский марш. За это ему на тарелочке посылался бокал шампанского и золотой пятирублевик. Во всех первоклассных ресторанах бутылка шампанского стоила 10 рублей. Компания человек в пять могла свободно обойтись двумя бутылками, и, таким образом, удовольствие людей посмотреть и себя показать стоило не так уж дорого.
Когда наша публика отправлялась в большие рестораны, то все обыкновенно заранее справлялись, сколько у кого имеется денег, и давали друг другу торжественное обещание веселиться на «скромных началах». Это не всегда удавалось. Помню, раз была зима и воскресенье, для одиноких и ни к кому не привязанных молодых людей – грустный день, особенно вечер. Синематографов, где человек за гроши может приятно провести время и переменить настроение, тогда еще не существовало. А бывали настроения, особенно у молодежи, которые властно требовали перемены. В один из таких несчастных вечеров прихожу в собрание и грустно сажусь обедать. Кроме дежурного, в собрании ни души. Кончаю обед и думаю: «Еще только семь часов, впереди целый вечер, что же я буду с собой делать?» Читать не хочется, а обстоятельства временно сложились так, что пойти некуда. Вдруг совершенно неожиданно, он почти никогда не обедал в собрании, в столовую входит Алексей Рагозин, и тоже в мрачном настроении. Мы друг другу обрадовались и сразу же стали думать, что бы нам такого предпринять. Первым делом установили размеры свободной наличности. У меня в кармане оказалось 4 рубля, а у него 7. Решили провести вечер скромно и культурно: поехать в театр. Приезжаем в Александринку. Билетов нет. Едем во французский Михайловский театр. Приезжаем – билетов нет. Стоим на подъезде и вспоминаем, что рядом на Конюшенной имеется ресторан «Медведь», где только что открылся бар, первый в Петербурге. В баре можно посидеть перед прилавком на высоком стуле и выпить коктейль, развлечение совершенно по нашим средствам. Пришли к «Медведю», взобрались на стулья, получили по высокому стакану со льдом и с очень вкусным и пьяным снадобьем, выпили и повторили. На душе стало легче. Перед тем чтобы уходить, решили заглянуть в общий зал, где на убранной цветами эстраде очень увлекательно играют румыны. Не входить, а только заглянуть.
В зале, где публики было не очень много, посередине стол, а за ним кончают обедать пять офицеров, два артиллериста, два стрелка и один конногвардеец, все приятели Алексея по Пажескому корпусу. Самое умное было бы скрыться, но пропустили момент. Нас заметили и тут же отрядили двоих нас ловить. Взяли нас под руки и усадили за стол. Эти молодые люди, которые что-то праздновали и были уже в сильно приподнятом настроении, вскоре решили, что так скучно кончать вечер нельзя и что нужно ехать в «Аквариум». «Аквариум» был загородный очень дорогой кабак, где в зале ели и пили, а на эстраде давали «программу»: пение, танцы и прочие развлечения.
Мы с Алексеем переглянулись и честно и открыто заявили, что ехать мы никуда не можем по той простой причине, что у обоих у нас в кармане 4 рубля 50 копеек. На это было сказано, что это совершенно не важно, так как у кого-то из пяти деньги есть. А важно другое. Важно то, чтобы семеновские офицеры не отстали от дружной компании и тем не уронили бы себя навек в глазах их товарищей. При такой постановке вопроса, когда затрагивалась честь мундира, пришлось ехать в «Аквариум», где было накурено, шумно и пьяно. После «Аквариума» уже, неясно помню как, очутились у цыган, в Новой Деревне. Там был уже сплошной туман. В 6 часов утра на тройках вернулись домой, отвезя стрелков, которые поспели-таки на первый поезд в Царское Село и на занятия не опоздали.
Мы с Алексеем в эту ночь, конечно, тоже не ложились. Через два дня мы получили записки, что за приятно проведенное время с нас по раскладке причиталось получить по 80 рублей с носа. Мы покряхтели и заплатили. Так кончались иногда увеселения на скромных началах.
Отношений между полками гвардии, в сущности, не было никаких. Каждый полк жил своей замкнутой жизнью. На полковые праздники все полки посылали друг другу поздравительные телеграммы, а в своей дивизии посылались депутации, командир и адъютант. Такие же депутации, опять-таки в своей дивизии, посылались, если случались похороны офицера, конечно, только в мирное время. Иногда, в редких случаях, в лагерях один полк угощал другой обедом, и после этого снимались группой. В нашем музее имелись две такие карточки группы. На одной наши офицеры сняты с лейб-гусарами, а на другой с преображенцами.
Считалось, что все гвардейские офицеры Петербургского гарнизона должны быть между собою знакомы. При встрече в публичных местах все они были обязаны подходить друг к другу, младшие к старшим, и здороваться за руку. В своей дивизии все младшие более или менее знали старших и могли сказать, что это полковник такой-то, а это капитан такой-то. Также знали в лицо и при случае здоровались с артиллеристами своей бригады, с гвардейскими саперами и с офицерами гвардейской кавалерии полков, стоящих в Петербурге, Кавалергардского и Конной гвардии. Но дальше отношения были уже исключительно личные. Случалось, что два брата служили в разных полках. Через этих братьев чужие офицеры бывали в чужих собраниях и завязывали более близкие знакомства.
Когда в обыкновенный день чужой офицер приходил в собрание, особенного внимания на него не обращали. Все с ним любезно здоровались, но занимался им тот, кто его позвал. Если же он приглашался на большой обед, за которым председательствовал командир полка, как бывало на «четверговых обедах» у нас и в Конной гвардии, то гостю оказывалось специальное гостеприимство, вынести которое было нелегко. Чтобы не осрамиться, иначе говоря, не напиться вдребезги и не провалиться на испытании, необходимо было соблюдать сугубую осторожность. У закусочного стола больше двух-трех рюмок не пить, и все промежуточное, красное и белое, оставлять в стаканах, твердо памятуя, что главное впереди. Когда наступало это главное, вставал командир полка и предлагал тост «За славу такого-то полка, представителя которого мы имеем удовольствие видеть сегодня среди нас». Затем трубачи играли марш гостя, и ему подносился сосуд, обыкновенно вместимостью около полубутылки. И этот сосуд нужно было выпить одним духом до дна и над головой перевернуть, в доказательство того, что в нем не осталось ни капли. Затем по ритуалу, через несколько минут, должен был встать гость и от имени своего полка выпить, и тоже до дна, «за славу и процветание доблестного полка» хозяев. После чего трубили хозяйский марш. Официальная часть была окончена, но испытание далеко нет. Гость садился, и к нему начинали подходить «собранские» вестовые с серебряным блюдом и на нем бокал шампанского. Поднося блюдо гостю, вестовой говорил: «От ротмистра такого-то» или «От поручика такого-то». Гость должен был встать, повернуться лицом к пославшему, который тоже вставал, поклониться и выпить, по возможности до дна.
И таких приветственных бокалов посылалось несчастному гостю двадцать пять, тридцать, то есть почти от всех офицеров, сидевших за столом. Таким «представителем» своего полка мне довелось побывать у измайловцев, у конногренадер в Петергофе и у кирасир («желтых») в Царском Селе.
У кирасир нас было двое, и в предвидении жестокой выпивки мы приняли предварительные меры предосторожности.
Отправляясь на вокзал, мы купили полфунта сливочного масла и съели его без хлеба, пополам. Было довольно противно, но это нас спасло. Поздно ночью из кирасирского собрания мы вышли если не совсем как стеклышко, то, во всяком случае, соображая, где мы и что мы.
Среди гвардии у каждого полка была своя репутация. Одни были более популярны, другие менее. Но публично выражать о чужих полках свое мнение, особенно не очень лестное, было строжайше запрещено. Бывали случаи, правда, много раньше моего времени, когда за недостаточно почтительные отзывы о чужих полках неосторожных офицеров вызывали на дуэль, что иногда кончалось увечьями и смертью. Официально считалось, что все полки российской армии, в частности гвардии, одинаково хороши, но что есть между ними один полк, который лучше их всех. И это, конечно, свой собственный. Тому же учили и солдат.
Были полки, между которыми наблюдалось соперничество и даже некоторая натянутость отношений. Так, не очень жаловали друг друга кавалергарды и конногвардейцы, уланы и конногренадеры, преображенцы и мы. Между нами и преображенцами отношения были подчеркнуто корректные, но близости никакой. И это притом, что зачастую нами командовали бывшие преображенцы, а преображенцами наши. Нужно сказать, что, когда оба полка выступили в поход, все разногласия исчезли бесследно и сами собою. На войне «чада Петровы» дрались бок о бок и чувствовали себя братьями, какими они и должны были быть.
У многих полков были прозвища, которые держались главным образом в солдатской среде. Измайловцев, за их белые околыши, называли «хлебопеками». Нас, семеновцев, почему-то «кузнецами», а преображенцев – «захарами». Кличке этой имеется псевдоисторическое объяснение. Существовало шуточное предание, что будто бы императрица Елизавета Петровна, которую гренадерская рота преображенцев возвела на престол, получив за это название «лейб-компании», приехала раз в казармы поздравить своих лейб-компанцев с праздником. Случилось это 5 сентября, в день Захария и Елизаветы, в именины самой царицы. Получив от солдат поздравление, она поинтересовалась, нет ли между ними Захаров, дабы поздравить их в свою очередь. Как только она это сказала, вся рота, как один человек, выступила вперед. Захарами оказались все. «Захары», и солдаты, и офицеры, принимали свою кличку добродушно и нисколько на нее не обижались.
Почти все, что я здесь описываю, прошло и быльем поросло и, разумеется, никогда не возвратится. Возвратиться этому так же невозможно, как невозможно, чтобы нынешние современные молодые люди оделись бы вдруг в чулки и пудреные парики, а женщины в высокие корсеты и кринолины. Жизнь идет вперед. Написанное здесь есть маленькая страничка из быта дворянской России, с которой быт прежних гвардейских офицеров был органически и неразрывно связан. Быт есть тот фон, на котором пишется история, а потому и заслуживает быть правдиво и беспристрастно описанным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.