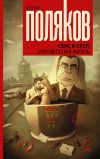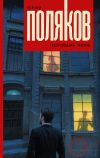Текст книги "Собрание сочинений. Том 4. 1999-2000"
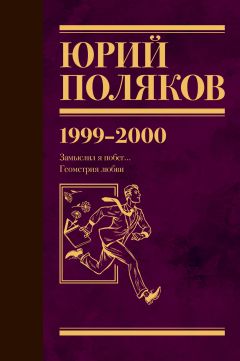
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
– Что берем?
– Что-то я не припомню такой спецгруппы – «Айсберг».
– Секретная группа… Под грифом: «Супер-дупер»!
– И грифа такого не помню.
– Склероз у вас, папаша! Что интересует?
Борис Исаакович кивнул на генеральский мундир и был потрясен, узнав цену – она равнялась его годовой пенсии. Парень прилавочным чутьем угадал: старичок с потертым портфелем спрашивает не случайно. Он стал объяснять, что с удовольствием купит мундиры, шинели, медали, ордена, фуражки, причем заплатит долларами. Настоящие боевые ордена и медали были разложены тут же, на прилавке.
– А у вас, папаша, случайно орден Славы первой степени не наблюдается? Второй и третьей есть. Комплект нужен. Очень нужен!
– Не стыдно славой чужой торговать? – тихо спросил генерал.
– А почему мне должно быть стыдно? Я у вас ордена не ворую – сами несете! Я вот тут стою и думаю иногда. Это же как интересно устроено! В двадцать лет, когда вся жизнь впереди и хрен в подбородок упирается, человек за орден или медаль под пули лезет и не боится. А когда жить-то осталось, уж извини, отец, совсем ничего и от хрена одна шкурка, несет мне свои цацки. А то, понимаешь, валидол купить не на что… Бережет сердчишко-то… А может, и правильно делает? Ты, отец, подумай. Может, у тебя китель какой зря гардероб занимает. Моль-то – она не разбирается, где пиджак, а где мундир… Прайс-листик-то возьми!
И парень протянул ему бумажку, где подробно указывались цены на все – от Звезды Героя до медали в честь 40-летия Победы.
По пути домой Борис Исаакович кипел и возмущался, что боевые награды, которые давали за геройство и пролитую кровь, стали теперь предметом омерзительной купли-продажи. Но при этом в каком-то подсознательном вычислительном закутке одновременно шел подсчет стоимости хранившихся в специальном замшевом мешочке двух орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1-й степени, ордена Александра Невского, польского Белого орла, многочисленных медалей, боевых и накопившихся за послепобедные юбилеи. Полученная в результате сумма как-то сама собой выскакивала из умственного закутка и вторгалась в возмущенное сознание генерала.
Открывая дверь квартиры, Борис Исаакович почти убедил себя в том, что парадный мундир ему, собственно, не нужен. Да и моль, в самом деле, не дремлет – на рукаве недавно появились две маленькие пока еще проплешинки. А похоронят уж как-нибудь в обычном мундире. Более того, с некоторыми, особенно юбилейными, наградами тоже можно расстаться. Ничего страшного. Даже есть какая-то диалектическая логика в том, что на эти деньги он сможет закончить исследование о командарме Павлове.
Перед тем как отнести мундир на Арбат, генерал напоследок решил еще раз его надеть и сразу заметил, что тот стал ему великоват: за последнее время от плохого питания и от переживаний Борис Исаакович сильно похудел. И вот когда он стоял перед зеркалом, разглядывая себя, ему вдруг стало душно, словно из комнаты, как из лейденской банки, откачали воздух… До телефона удалось добраться с трудом. Потом по стеночке дошел в прихожую, отпер и приоткрыл входную дверь… Приехавшая бригада нашла его лежащим на диване в расстегнутом генеральском мундире с мокрым полотенцем на груди.
– Никогда не думал, что до такого доживу! – шептал и плакал Борис Исаакович.
– Не волнуйтесь, скоро все это кончится, – успокаивал Джедай. – Наши уже близко.
Они просидели с Борисом Исааковичем до самой ночи, а когда за полчаса до закрытия метро Башмаков засобирался домой, Джедай сказал, что ему торопиться некуда, никто его не ждет и он, пожалуй, переночует у Бориса Исааковича. Через несколько дней Олег Трудович с сумкой продуктов, собранных старательной Катей, приехал на улицу Горького и застал там Каракозина в халате, кашеварящего на кухне. Сам генерал полулежал на диване. К дивану был придвинут ломберный столик, накрытый, точно скатертью, большой картой, испещренной черными и красными изогнутыми стрелками.
– Вы представляете, Олег, они не дают мне прочитать предсмертное письмо Павлова к Сталину!
– Кто?
– КГБ… Или как они там теперь называются?
– Это, наверное, из-за Борьки. Родственники за границей и все такое…
– Хрен тебе с помидорами, – выходя из кухни с кастрюлькой дымящейся каши, сообщил Рыцарь Джедай. – Просто теперь пользование архивом КГБ платное. Пятьсот долларов – и обчитайся… Тысяча – копию снимут.
– Я скоро тебе отдам. Я сейчас на стоянку устроился… – уловив в словах Каракозина упрек, забормотал Олег. – Я вот, наверное, в Таиланд скоро поеду за ангоровыми шапочками…
– Да сиди ты уж лучше дома, Олег Таиландович! Целей будешь.
Вскоре Каракозин сдал свою квартиру за триста долларов в месяц и переехал к Борису Исааковичу. На эти деньги они и жили. Башмаков иногда захаживал к ним в гости. Чаще всего Борис Исаакович сидел в кабинете, изредка выходя в просторную гостиную и благосклонно взирая на то, что в ней происходит. А происходили в ней вещи пречудесные. Гостиная была оборудована под штаб партии Революционной Справедливости. В комнате крепко пахло теплой марганцовкой – это Джедай размножал на ксероксе листовки к очередному митингу. Ксерокс купили, продав орден Белого орла. Как раз в ту пору появилось много публикаций о польских офицерах, расстрелянных в Катыни. Борис Исаакович был абсолютно уверен в том, что расстреляли их немцы, а не наши, и очень негодовал по поводу публикаций польских историков:
– Они бы лучше вспомнили, сколько Пилсудский красноармейцев в лагерях сгноил!
Квартира генерала стала центром бурной политической жизни. Время от времени раздавался звонок – и в гостиной появлялся очередной народный мститель. Войдя в уставленную книгами и антиквариатом гостиную, он, конечно, робел, а обнаружив под ногами наборный паркет, бросался в прихожую снимать ботинки. Но как справедливо заметил кто-то из мудрых, снятие одной проблемы лишь открывает взору проблему новую. Пришедший начинал мучиться несвежестью или даже дырявостью своих носков. Торопливо схватив пачку листовок и получив информацию о предстоящем митинге, он убегал в массы.
Борис Исаакович и Каракозин не пропускали ни одного стоящего митинга или какого-нибудь народного вече. Генерал уже вполне окреп и появлялся в рядах протестующих в зависимости от сезона или в шинели с золотыми веточками в петлицах, или в том самом кителе, из-за которого пережил сердечный приступ. Джедай завел специальный флаг с серпом и молотом на свинчивающемся металлическом древке, а также складной картонный плакат со стихами собственного сочинения:
Напрасно радуешься, сэр, – Мы восстановим СССР!
Стихи сопровождались рисунком, тоже выполненным Каракозиным: зубасто, совершенно по-крокодильски, улыбающийся американец в полосатых штанах и цилиндре кроит ножницами карту Советского Союза.
У Бориса же Исааковича для демонстраций имелся небольшой портрет Сталина. Генерал и Джедай, как говорится, нашли друг друга, но иногда спорили о методах борьбы. Каракозин был за немедленное вооруженное восстание против антинародного режима, а Борис Исаакович – за шествия, гражданское неповиновение, забастовки и как результат – передачу власти до выборов нового президента Верховному Совету…
Как-то раз они потащили с собой Башмакова на народное вече, бушевавшее на Манежной площади, еще не застроенной, не утыканной бронзовым церетелиевским зверьем. Олег Трудович сдуру нацепил нежно-палевую замшевую куртку, недавно купленную Катей, и ловил на себе косые взгляды плохо одетых и злых людей. Трибуна, украшенная кумачом, еще пустовала. Большие алюминиевые репродукторы, установленные на автобусе, оглушительно бубнили «Марш энтузиастов».
Борис Исаакович был в генеральской шинели, а Каракозин – в своем вечном джинсовом костюме. Вступив на тропу политической борьбы, он отпустил бородку, отрастил длинные волосы, схваченные особой узорчатой повязкой. Узор назывался посолонью. Джедай вообще в это время увлекся славянским язычеством и постоянно вступал в споры с монархистами, стыдившими его за красный флаг. В ответ он доказывал, что русские всегда уважали красный цвет и громили ворогов под червонными стягами. Свидетелем одного такого спора и стал Башмаков. Каракозин сцепился с казаком, одетым в мундир явно домашнего производства.
– Значит, говоришь, Митрий Донской под красным флагом, как Чапаев, воевал? Допустим… – поигрывая самодельной нагайкой, строго молвил казак.
– Ты извини, служивый, я в погонах ваших не очень разбираюсь. Ты кто по званию? – уточнил Джедай.
– Разрешите представиться: есаул Гречко, заместитель краснопролетарского районного атамана по связям с общественностью. А ты кто таков?
– Член политсовета партии Революционной Справедливости.
– Любо. Добрая партия. А серп с молотом тебе на что?
– А чем тебе, служивый, серп и молот не нравятся?
– А вот и не нравятся. Зачем тебе, русскому, как я наблюдаю, человеку, – говоря это, казак покосился на Бориса Исааковича, – значки масонские?!
– Дурак ты, ваше благородие! Золотой молот с серпом славянскому вождю Таргитаю с неба упали.
– С неба? Ну-ну… – Есаул Гречко снова внимательно посмотрел на Бориса Исааковича, усмехнулся и затерялся в толпе.
Музыка исчезла в площадном гуле. На трибуне, устроенной из грузовика с высокими бортами, начали появляться люди. Башмаков узнал лысого Зюганова, шевелюристого Бабурина, вечно хмурого Илью Константинова… Зюганов подошел к микрофону и заговорил, но ничего не было слышно. Толпа взволновалась.
– Провокация! – побежало по рядам. – Сволочи, ельциноиды трепаные, специально отключили микрофоны…
На ступеньках гостиницы «Москва» началось какое-то угрожающее движение, демонстранты, крича «Долой!», накатились на цепь омоновцев.
– Пропустите! Да пропустите же! – Мимо Башмакова проталкивался толстый подполковник с шипящей рацией в руке.
Олег Трудович узнал в нем того майора, что пробегал мимо во время разгона демократического митинга здесь же на Манежной, когда Башмаков в последний раз объяснялся с Ниной Андреевной. При воспоминании о Чернецкой он ощутил в сердце остаточный трепет.
– Андрей, – вдруг сказал Борис Исаакович, – вы не совсем точно ответили этому… ну, допустим, есаулу… Таргитаю упали с неба молот, плуг и еще жернова. Из чистого золота, это верно. Но не серп!
– Повезло! – заметил Башмаков.
– Борис Исаакович, иногда в споре можно поступиться мелкой деталью ради большой исторической правды!
– Не думаю. Большая историческая правда держится исключительно на мелких деталях. Но вы не так уж далеко отошли от истины. В первые годы советской власти на гербе действительно были плуг и молот, а позже плуг поменяли на серп. Я думаю, из-за того, что серп выглядит погеральдичнее…
– Ну вот видите!
– Да. А вашу повязку с посолонью я вам, Андрей Федорович, давно уже рекомендую снять. Очень уж на свастику смахивает!
– Это, Борис Исаакович, древний арийский знак!
– Я-то знаю. Но ведь вы это каждому не объясните! – возразил генерал.
Башмаков вдруг уловил некоторую преднамеренность в их словах и понял, что свой привычный спор они повторяют специально для него, оттачивая аргументы и проверяя реакцию нового человека.
– Но ведь вы же сами ходите со Сталиным!
– Я ценю в нем великого полководца!
– А ГУЛАГ?
– ГУЛАГ он искупил победой над Гитлером. И кто вам сказал, что если бы Ленин прожил лет на двадцать дольше, ГУЛАГа не было бы! Соловки ведь еще при нем появились.
– Но ведь вы это, Борис Исаакович, каждому не объясните!
– Видите ли, Андрей Федорович…
В это время над площадью разнесся громовой треск включенного микрофона. Зюганов поднял над головой руку и зарокотал:
– Товарищи! Преступный режим Ельцина…
До позднего вечера они слушали ораторов и скандировали что-то упоительно антиправительственное. Митинг закончился принятием резолюции о немедленной отставке Ельцина. После этого люди успокоились и пошли по домам. Площадь начала пустеть. Оставались лишь группки тех, кто не успел доспорить:
– …Руцкой? Да что же вы такое говорите! Руцкой такой же мерзавец… Это он расколол коммунистов! А Хасбулатов – вообще чечен… Они его специально в оппозицию внедрили. Он провокатор.
– Это ты – провокатор!
Самая большая кучка собралась вокруг Каракозина. Джедай пел, наяривая на гитаре:
И чтоб увидеть свет зари
Измене вопреки – Предателей – на фонари
Вдоль всей Москвы-реки!
Народ подхватывал:
Вдоль всей Москвы-реки
И Волги, и Оки…
Когда песня закончилась, знакомый уже есаул Гречко обнял Каракозина и достал бутылку водки:
– Сам сочинил?
– Сам.
Потом, когда выпили, казак обнял уже и Бориса Исааковича, бормоча, что ничего против отдельно и конкретно взятых евреев он, конечно, не имеет, но всем им в совокупности не может простить расказачивания.
– Что они на Дону-то творили, нехристи в кожанках! Что творили!
Борис Исаакович согласился: да, расказачивание было трагедией русского народа.
– Казацкого народа, – поправил есаул.
– Допустим. Но евреи как нация к ней отношения не имеют. Хотя, конечно, среди большевиков было немало евреев…
– И к лютому убийству государя-императора с чадами и домочадцами тоже не имеют отношения? Опять большевички виноваты?
– Да, большевики.
– А надпись еврейская на стеночке расстрельной?
– Надпись была на немецком.
– Врешь!
– Есаул, как вы с генерал-майором разговариваете! – прикрикнул Джедай.
– Виноват… Правда на немецком?
– На немецком, – подтвердил Каракозин и повернулся к Башмакову.
– На немецком! – кивнул тот, хотя понятия не имел, о чем идет речь.
– Ну, тогда все правильно, – заулыбался есаул, – революцию-то на немецкие денежки делали. Ленина с Троцким в вагоне из Германии привезли. И надпись на немецком – все сходится… Выпьем, Исакыч!
Когда они уже возвращались домой, Каракозин ядовито спросил:
– Борис Исаакович, значит, нельзя поступаться мелким фактом ради большой исторической правды?
– Нельзя.
– А строчечки-то на стене из Гейне были… «И только лишь взошла заря, рабы зарезали царя…»
– Говорите прямо. Гейне был евреем, так? Вы это, Андрей Федорович, имеете в виду?
– В общем, да.
– А если бы это были строчки из Пушкина или Рылеева? Это меняло бы дело? «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу!»
– Но ведь строчки тем не менее из Гейне. И Юровский был евреем, и Голощекин…
– Ах, Андрей, на все процессы надо смотреть исторически. Не забывайте, у евреев были очень сложные отношения с Империей…
– А у вас? – неожиданно для себя спросил Башмаков.
– У меня? А я ведь, Олег Трудович, не еврей. Я – советский человек. И всю жизнь считал, что это очень хорошо.
– А теперь?
– А теперь не знаю… Я всегда считал главным историческую правду. И кажется, ошибался. Главное – миф, который создает себе каждый народ. Русские, например, считают себя освободителями. Евреи – мстителями. Неважно, насколько это соответствует действительности. Так они себя ощущают. Таковы их главные мифы. Русские при каждом удобном случае будут всех освобождать, проливая кровь и не спрашивая, хотят этого другие народы или не хотят. А евреи будут мстить. Если есть реальный повод для мщения – хорошо, если нет, его придумают. А революция – самое лучшее для мщения время. Вот почему так много евреев в любой революции. Вот почему Россия, когда ощущала себя освободительницей, стремительно росла. Вот почему Германия всегда проигрывала. Нельзя победить, сознаваясь себе в том, что ты захватчик. Но сейчас все меняется… Сейчас у России вообще нет мифа. И это катастрофа…
– Значит, все дело только в мифе?! – Каракозин в волнении закинул гитару на спину.
– Да, в мифе, – кивнул генерал.
– Выходит, у какого народа воображение сильнее, тот и прав перед Историей и Богом?!
– Перед Историей – да. Перед Богом – нет…
19
Эскейпер вдруг почувствовал жажду, отправился на кухню и напился из трехлитровой банки с уксусным грибом, похожим на серую неопрятную медузу. Бабушка Дуня называла его «грип». У Башмакова мелькнула даже мысль прихватить с собой на развод отпочковавшуюся маленькую медузку. И будет у него там, на Кипре, к изумлению слуг, трехлитровая банка с обвязанным серой марлей горлышком, а внутри…
Олег Трудович вздрогнул, почувствовав на своем плече чью-то руку. У него потемнело в глазах, и по телу пробежала знобящая слабость. Только не Катя! Она не должна… У нее же уроки! А с урока уйти она не может ни при каких обстоятельствах. Даже когда Катя была беременна тем, так и не родившимся ребенком, когда чуть сознание не теряла от токсикоза, все равно с урока не уходила… Башмаков иной раз представлял себе Катю в виде юной комсомолки-партизанки, попавшей в плен к гестаповцам. Они осыпают ее киношными пощечинами, скалят зубы, повторяя: «Пароль! Говори пароль, сволочь!» А она только молчит в ответ и сверкает ненавидящими глазами. Башмаков внутренне сознавал, что, окажись он сам в этом воображаемом фашистском застенке, выдал бы пароль при первом же грубом окрике. Явки, может быть, и не сдал, а пароль точно выдал бы… Олег Трудович медленно обернулся. Перед ним стоял улыбающийся Анатолич:
– Испугался?
– Н-немного…
– Ну извини! У тебя «накидушка» тринадцатая есть?
– Была.
– Представляешь, я вчера этому, из третьего подъезда, ну, у которого еще пудель ненормальный, дал на час. Вторые сутки пошли. Точно говорят: какая собака – такой и хозяин!
Башмаков, еще ощущая в ногах игольчатую слабость, взял кухонный табурет, отправился в коридор, достал с антресолей ящик с инструментами и нашел, погремев железяками, «накидушку», сохранившуюся с тех времен, когда он калымил на автостоянке.
– Спасибо! – сказал Анатолич. – Через полчаса отдам.
– Через полчаса не надо, – насторожился Башмаков. – Я скоро уеду. Завтра отдашь…
– Завтра так завтра. Спасибо!
– Назад опять через балкон полезешь или тебе дверь открыть?
– Давай через дверь. Я веревки для гороха натянул – неудобно перелезать. Чуть не свалился. А здорово я тебя напугал?
– Здорово…
Башмаков проводил соседа и закрыл дверь. Потом пощупал пульс.
«Напугал, полканавт хренов!»
Было время, они с Анатоличем частенько лазали друг к другу через балкон. Кстати, свой второй, неудавшийся побег Башмаков совершил именно через балкон – вышмыгнул, незамеченный, через квартиру Анатолича. И, уезжая в такси, злорадно воображал, как жена начнет искать его по квартире, пугаясь и недоумевая, куда же мог подеваться муж, вроде бы не отлучавшийся из дому.
Анатолич, тогда еще майор, и жена его Калерия, или просто Каля, появились в доме лет четырнадцать назад. До них в двухкомнатной квартире проживала изможденная женщина с сыном-алкоголиком Герой. Гера запивал раз в полтора месяца, тогда соседка звонила Башмаковым в дверь и строго предупреждала:
– Герка будет деньги занимать – не давайте!
Но он у них ни разу не занимал. Дважды среди ночи плачущая соседка вызывала Башмакова вязать забуянившего Геру полотенцами. Третий раз Олега Трудовича в качестве понятого вызвал милиционер. Скрюченный Гера неподвижно лежал на залоснившейся тахте, и лицо его напоминало зачерствевший плавленый сырок. Над покойником склонился врач. На столе стоял граненый стакан, покрытый изнутри коричневым налетом, как от крепкого чая, а рядом валялся шприц с иглой, затертой до желтизны. Размеченный рисками стеклянный цилиндрик и поршень были тоже грязно-коричневого цвета.
– Передозировка, – констатировал врач, распрямляясь.
– Подпишите! – приказал милиционер Башмакову и ткнул пальцем в протокол.
Было лето, и вскоре Башмаковы уехали в Крым по путевкам, которые, как всегда за полцены, достал Петр Никифорович. А когда вернулись, заметили: дверь соседской квартиры обита красивым темно-вишневым дерматином, перетянутым золотыми шнурочками. Башмаков разбирал чемоданы, ругая Дашку за то, что она забыла в пансионате свои новые пляжные тапочки, как вдруг Катя поманила мужа пальцем и выпроводила на балкон:
– Посмотри, Тунеядыч, тебе полезно!
– Ну повешу я тебе новые веревки. Повешу! – огрызнулся Олег Трудович.
– Нет, ты посмотри, что они сделали!
Собственно говоря, балкон у них с соседями был общий, разделенный посередине упиравшейся в потолок гипсолитовой перегородкой. Башмаков перегнулся через железные перила и заглянул к соседям. Прежде там ничего интересного не наблюдалось: все пространство было тесно заставлено импортными бутылками, которые в пункте не принимались, и только очень редко, раз в год, во двор приезжали на грузовой машине особые стеклотарщики и брали «импорт» по две копейки за штуку. Этого счастливого момента и дожидалась, пылясь, нестандартная посуда на Герином балконе.
И вот теперь вместо толпы пыльных емкостей, сбившихся, словно на какой-то свой бутылочный митинг, потрясенный Башмаков обнаружил совершенно иную картину. Он увидел новенький навесной шкафчик с зеркалом, небольшой столик, прикрепленный к стене, примерно как в купе поезда, а к перилам с внешней стороны были прихвачены специальными скобами длинные ящики, из которых торчали юные перышки лука. Но больше всего Олега Трудовича поразил установленный у противоположной панели верстачок с тисочками и точильным колесиком. Из специальных ячеек торчали инструменты – отвертки, плоскогубцы, сверла, напильники… Чтобы рассмотреть все эти чудеса получше, Башмаков основательно перегнулся через перила. Как раз в этот момент на балконе появился, насвистывая, коренастый белобрысый мужичок в синей майке и черных сатиновых трусах.
– Здравия желаю, – сказал он, заметив башмаковскую голову в своих владениях.
– Здравствуйте, – отозвался Олег Трудович, понимая, что вот так сразу исчезнуть неприлично. – С новосельем!
– Спасибо.
– Красиво у вас тут теперь стало…
– Теперь – да. Столько грязи пришлось перетаскать. Вас как зовут?
– Олег, – ответил Башмаков и смутился.
Ситуация и в самом деле комическая, ведь обыкновенно имя относится ко всему человеку в целокупности, а не к одинокой голове, торчащей из-за перегородки.
– А меня Николай Анатолич. Предлагаю по чутьчуть за знакомство! – Новый сосед открыл дверцу под верстаком, вынул оттуда початую бутылку «Старки», две рюмочки и тарелочку с солеными домашними сухариками из бородинского хлеба.
Башмаков простер на дружественную территорию руку, с благодарностью принимая рюмочку, они чокнулись и выпили.
– Видел? – с радостным укором спросила Катя, когда он вернулся.
– Да! – откликнулся Башмаков, стараясь не дышать в ее сторону.
На следующий день утром он столкнулся с Анатоличем у лифта – тот был одет по форме, с майорскими погонами и артиллерийскими крестиками в черных бархатных петлицах. Башмаков (он тогда работал в «Альдебаране») был в сером финском костюме с металлическим отливом, рубашке, галстуке и с портфелем. Анатолич уважительно покосился на портфель и спросил:
– А по отчеству как будете?
– Трудович… Странное отчество, правда?
– Нормальное отчество. У нас в дивизии зампотылу был армянин, Петросян… Так его вообще Гамлетом Дездемоновичем звали. И ничего… В воскресенье приглашаем вас на новоселье!
Узнав о приглашении, Катя разволновалась, затеяла пирог с яблоками, и хотя несколько раз звонила матери, консультируясь, пирог не задался, расползся по противню и не пропекся. В последний момент Башмаков был откомандирован в магазин за тортом, и ему повезло: только что привезли страшный дефицит – «Птичье молоко». Потерпев неудачу с выпечкой, Катя отыгралась на Дашке, надела на нее новенькое китайское платье, все в кружавчиках, и увенчала дочь таким огромным бантом, что при резком порыве ветра ребенка вполне могло унести, как на парусе. Потом жена долго не могла выбрать наряд для себя, советовалась с Башмаковым и дочерью. Олег Трудович порекомендовал золотистое платье, привезенное несколько лет назад Гошей из Стокгольма. Но оно было отвергнуто как слишком шикарное и нескромное для визита к соседям по лестничной площадке. Дашка настаивала на курортном сарафане с глубокой выемкой на спине и получила по попе за дурацкие советы. В результате был надет югославский брючный костюм.
Костюм этот добыла одна из родительниц на праздничной распродаже в своем учреждении и предложила его Кате, так как в нервной суматохе схватила не тот размер. Катя долго колебалась: сын обладательницы костюма был жутким лоботрясом, в полугодии у него вырисовывалась твердая «двойка» по русскому языку. Понятно, что, взяв обновку без переплаты, пришлось бы натягивать ему тройку. В конце концов Катя не устояла.
Потом они, как и положено семье, идущей в гости, оснастились коробкой с тортом, слюдяным кульком с тремя гвоздичками и бутылкой шампанского, в последний раз глянули на себя в зеркало (Катя, вздохнув, поправила Дашке бант, мужу галстук), пересекли лестничную площадку и нажали кнопку звонка рядом со свежеобитой дверью.
Открыла полногрудая, голубоглазая блондинка в облегающем вишневом платье с несоветским глубоким вырезом:
– Входите, пожалуйста!
Женщины мелькнули друг по другу взглядами, словно поединщики, мгновенно, по одним лишь им ведомым приметам оценивающие шансы противника. Кажется, обе молчаливо сошлись на том, что шансы примерно равны.
– Калерия, – сказала хозяйка, протягивая руку. – Можно просто Каля…
– Очень приятно… Катя.
– Ой, какая девочка! – Каля присела перед Дашкой. – Тебя как зовут?
– Дарья Олеговна, – заявила дочь, в ту пору именовавшая себя почему-то исключительно по имени-отчеству.
– А у нас для тебя дружок имеется. Костя, иди сюда! К нам тут такая хорошенькая девочка в гости пришла!
Никто не отозвался. Зато с кухни появился Анатолич в цветастом переднике:
– Стесняется. Потом придет. Катя, как вы относитесь к «Молоку любимой женщины»?
– Н-не пробовала… А что вы имеете в виду?
– Это вино такое – мы из Германии привезли.
Стол был отменный: несколько затейливых салатов, домашние соленья, заливная рыба, украшенная морковными звездочками, оранжево светившими из мутно-янтарной глубины подрагивавшего желе. Посредине раскинулся большой румяный пирог с белыми грибами. Башмаков не упустил возможность и глянул на жену с привычным упреком: вот ведь какие хозяйки бывают! Катя в отместку показала глазами на балкон – мол, чья бы мычала…
Расселись. Тут из комнаты появился щуплый мальчик в коротких штанишках. Он был острижен наголо – оставался только большой смешной чуб, почти закрывавший глаза. Мальчик тихо сказал «здрасте», перехватил высокомерный взгляд Дашки, покраснел и сел, уставившись в тарелку.
– Ничего. Он еще не освоился. Только вчера приехал, – сообщила Каля и погладила ребенка по голове.
– Сколько ему? – спросила Катя.
– Во второй класс ходим. Только вот что-то растем плохо… Ну ничего…
Анатолич принес из холодильника «Посольскую» водку, разлил по рюмкам. На заиндевевшей бутылке, поставленной в центр стола, остались круглые проталины от пальцев. Дамы предпочли «Молоко любимой женщины». Выпили. Закусили. Из разговоров выяснилось, что Костя – сын товарища по артиллерийскому училищу. Койки рядом стояли. Теперь товарищ служит в Мурманске, а до этого сидел в Средней Азии на «точке», там была очень плохая вода, и он испортил себе желудок. Поэтому каждый отпуск ездит в Ессентуки, но в санаторий с женой еще можно, а детей ни за что не принимают. Вот они, проезжая через Москву, и оставили Костю у друзей.
– Как сын нам… – вздохнула Каля.
И в словосочетании «как сын», и в этом вздохе, и в том, как Анатолич виновато взглянул на жену, обозначилась на миг печальная тайна их бездетности.
– Давайте за родителей! – предложила тактичная Катя.
Между разговорами Башмаков оглядел квартиру: мебель обычная, но поражало обилие ковров, ажурных покрывал, леопардовых пледов, в серванте была развернута в полную мощь «Мадонна» – сервиз, без которого из Германии не возвращался ни один офицер. На тарелках, чашках, чайниках, соусницах уныло повторялись одни и те же пасторальные сцены, и почему эта посуда получила название «Мадонна», Башмаков так никогда и не узнал.
– Под Западным Берлином стояли, – доложил Анатолич, перехватив взгляд гостя, – на расстоянии гаубичного выстрела. Полк был рассчитан на пять минут боя с бригадой НАТО…
– Неужели всего на пять минут? – удивилась Катя.
– Но за эти пять минут можно сде-елать о-очень много! – пропела Каля, улыбаясь.
– А я тоже в артиллерии служил! – гордо сообщил Башмаков.
Дашка быстро наелась одними закусками, тяжко вздохнула, снисходительно посмотрела на Костю, так ни разу и не поднявшего глаз от тарелки, и смилостивилась:
– Ладно, пошли гулять!
Мальчик, просветлев, выскочил из-за стола. После горячего – нашпигованного мяса под брусничным соусом (каждое блюдо Каля сопровождала подробными кулинарными комментариями) – Анатолич вдруг спросил:
– А хотите, я покажу, где родился? Пошли! – Все отправились следом за ним на балкон. – Во-он, видите, аптека – там был наш дом. Корову держали, поросят, кур…
– А вон там, где автобусный круг, мой дом был, – сообщила Каля.
– Так вы из одной деревни?
– Ага. Только с разных концов. Деревня Завьялово называлась. И фамилия у нас тоже – Завьяловы. Знаете, Анатолич ко мне на свиданки вон тем оврагом добирался, через капусту. Даже из школы нельзя было вместе возвращаться… Мы тайком, на кладбище встречались! Или в Москву на автобусе ехали – там можно, там все чужие…
– Почему? – спросила Катя.
– Ну как же, он был с другого конца деревни. Лет восемьдесят назад его дед пырнул ножом моего деда… В общем, кровная месть, как у Монтекки и Капулетти.
– Он пырнул, не он пырнул, это не доказано, – уточнил Анатолич, – а вот то, что дедушка Калерии Васильевны, когда бились стенка на стенку, в рукавицу свинчатку засунул, это все знают!
– Вот только не надо искажать исторические факты! – возмутилась Каля. – Свинчатку мой дедушка положил в рукавицу, когда узнал, что твой дедушка своих дружков подговорил…
– Понятно, – кивнул Башмаков, – истоки конфликта теряются в глубинах истории.
– Да… В глубинах, – вздохнула Каля, – а потом приехали бульдозеры и все сломали, все глубины… И нет Завьялова. Одни Завьяловы остались…
Из дальнейших рассказов вырисовывалась типичная история подмосковной деревни, сожранной разбухающим городом. Дома снесли, а людей расселили по всей Москве, но, несмотря на это, Коля и Каля не потерялись, а поженились сразу после школы, даже разрешение в райисполкоме пришлось получать. Потом юный муж уехал поступать в училище. Из всех курсантов он был единственным женатиком. Ко всем в училище родители ездили, а к нему супруга. Кстати, чтобы не издевались, он долгое время всем объяснял, что Каля – его сестра. И только когда на третьем курсе женился еще один курсант, он признался.
После окончания училища Анатолича отправили сначала под Смоленск, потом еще куда-то, а затем уже в Германию. Повезло. Из ГДР в Подмосковье. Снова повезло. Хотя, возможно, это везение было связано с тем, что Каля всегда умела подружиться с женами начальников. На скопленное они купили однокомнатную кооперативную квартиру в Печатниках и сразу же стали искать варианты обмена с доплатой, чтобы вернуться в родные места. Тут-то по объявлению и позвонила башмаковская соседка, решившая после смерти Геры переехать в однокомнатную квартиру и подальше от страшного места.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.