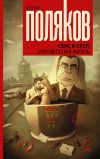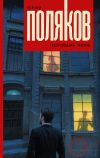Текст книги "Собрание сочинений. Том 4. 1999-2000"
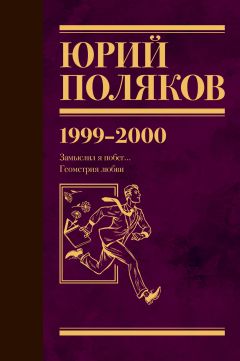
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
22
Эскейпер взял с дивана гитару, пристроил на коленях и попытался сообразить простенький аккорд – но ничего, кроме какого-то проволочного дребезжания, у него не вышло. А на подушечках пальцев, прижимавших струны к грифу, образовались синеватые промятинки с крохотными рубчиками. У Каракозина, он помнил, эти самые подушечки от частой и буйной игры на гитаре затвердели, почти ороговели, и когда Джедай в раздражении барабанил по столу пальцами, звук был такой, словно стучат камнем по дереву. Зато как он играл, какие нежные чудеса выщипывал из своей гитары!
«А странно получается, – неожиданно подумал Башмаков, – чем нежнее пальцы, тем грубее звук, и наоборот, чем грубее пальцы, тем звук нежнее… А что? Глубоко… Может, на Кипре книжки попробовать писать? Нельзя же, в самом деле, всю оставшуюся жизнь обслуживать пробудившиеся Ветины недра! “Закогти меня, закогти меня!” Что я, филин, что ли»
Эскейпер встал и, раздраженно пощипывая струны, подошел к окну. На свету сквозь большое черное пятно, расплывшееся на тыльной стороне гитары, угадывались кусок слова «счастье» и замысловатая, даже канцелярская роспись барда Окоемова. Такие автографы характерны не для творческих людей, а для чиновников, визирующих финансовые документы, или для учителей, опасающихся, что школьники подделают их росписи в дневниках. Вот у Кати, например, роспись на первый взгляд несложная, но с такой хитрой загогулинкой, что фиг подделаешь. Умела это делать только одна Дашка, и к ней вся школа бегала за помощью… Боже, что было, когда все это открылось! Взбешенная Катя, ворвавшись в квартиру, стала выдергивать ремень прямо из брюк обомлевшего Башмакова. Дашка поначалу решила, что это возмездие за разбитую чешскую салатницу, и даже начала плакать от вопиющего несоответствия преступления наказанию: ее никогда не пороли. Но тут у Кати вырвалось:
– Ах ты, мерзавка, подпись мою научилась подделывать!
И удивительное дело: слезы на Дашкиных щеках мгновенно высохли, и еще несколько ременных вытяжек (Катя быстро выдохлась) она приняла без звука и почти как должное. А через полчаса подбрела к надутой Кате и пропищала:
– Прости, мамочка!
Обычно из нее это «мамочка» было клещами не вытащить. Настырная девочка. А теперь вот скоро родит…
Эскейпер посмотрел из окна вниз: капот «Форда» был закрыт, зато ноги Анатолича торчали прямо из-под кузова. Сверху казалось, будто машина придавила его всей своей тяжестью – насмерть.
«А вот интересно, – подумал Башмаков, – человек перед смертью действительно вспоминает всю свою жизнь? Допустим, вспоминает. А если смерть мгновенная? Если, например, прыгнуть отсюда, с одиннадцатого этажа, – много ли успеешь вспомнить, пока долетишь? Ни хрена не успеешь! Да это и не нужно. Там, наверху, из тебя всю твою память вынут, как кассету из сломавшегося видака, просмотрят и вынесут приговор. А с другой стороны, человек состоит ведь не только из своей памяти, но еще из того, каким он засел в памяти других людей. Это тоже там должны учитывать! Значит, обязаны дождаться, пока умрут все, кто знал усопшего, чтобы их “кассеты” тоже просмотреть. Э-э, нет! Зачем ждать? Информацию можно считать и на расстоянии, в “Альдебаране” этим целая лаборатория занималась… И что же получается? А получается, что я сегодня почему-то целое утро вспоминают Джедая. Может быть, там, наверху, пришло время решать судьбу Каракозина? Может быть, все, кто знал Рыцаря, сегодня его вспоминают? И Катя тоже. Надо спросить…»
– Дурак ты, а не эскейпер! – громко объявил он сам себе, стукнулся в доказательство три раза лбом об оконный переплет и добавил уже тише: – Бедный Джедай!
Каракозин объявился через четыре месяца после своего исчезновения. Был конец сентября. Погода стояла солнечная и златолиственная. До исторического расстрела Белого дома оставалось еще порядочно. Честно говоря, Башмаков особенно не вникал в суть конфликта между Ельциным и Верховным Советом. На политику он обиделся, даже газеты почти перестал читать. Как только в телевизоре возникал комментатор и, мигая честными глазенками рыночного кидалы, начинал витиевато разъяснять текущий момент, Олег Трудович сразу переключал программу. И в самом деле, что ему до этой драной политики, до этой визгливой кукольной борьбы, если его собственная жизнь закатилась аж на стоянку к чуркистанцу Шедеману Хосруевичу!
Катя аполитичность мужа одобряла и возмущенно рассказывала, что Вожжа собрала педсовет и приказала разъяснить ученикам, будто Верховный Совет хочет устроить из страны один большой ГУЛАГ и закрыть их замечательный лицей, а президент, наоборот, за то, чтобы Россия вошла полноправным членом в мировое содружество и лицей процветал. Впрочем, ученики и сами хорошо ориентировались в происходящем, а один старшеклассник даже сказал, что его папа уже купил билеты на самолет и им общесемейно наплевать, если в этой стране вообще все друг друга передавят, потому что у них есть квартира в Париже и дом в Ниме. На него, конечно, тут же набросились одноклассники, бранясь в том смысле, что у них тоже имеется за рубежами семейная собственность, но это совсем не повод для такого наплевательского отношения к судьбе демократии в России…
Башмаков долго потом ворочался в постели, соображая: откуда взялись люди с квартирами в Париже? Вот ведь он сам – с высшим образованием, кандидат наук, возглавлял отдел, а поди ж ты! Какая там собственность за границей – теще до сих пор долг вернуть не может! Или взять Анатолича. Полковник, без пяти минут генерал. А что в итоге? «Мадам, ваш железный конь готов и бьет резиновым копытом! Чувствительно вам благодарен, мадам!»
Анатолич, метавшийся все эти дни между долгом перед поруганным Отечеством и любовью к жене, наконец решил записаться в народный истребительный батальон, чтобы защищать Верховный Совет. Он дождался, пока Каля уснет (ложилась она рано, потому что работала теперь на почте), сложил вещевой мешок, надел заранее вынутую из гардероба якобы для проветривания полевую форму и потихоньку перелез на соседскую половину балкона, чтобы выйти через башмаковскую квартиру. Над своей дверью он сдуру прикрепил хрустальные колокольчики – поэтому покинуть дом незаметно было практически невозможно. Предварительно Анатолич позвонил по телефону Олегу и выяснил, что Катя с Дашкой у тещи на даче и скорее всего там заночуют.
Понятное дело, решили выпить на посошок. Анатолич попросил, если что с ним случится, не оставить Калю. Башмаков успокоил как мог. Потом последовала стременная рюмка. Анатолич попросил позаботиться и о его рыбках. Олег Трудович заверил, что будет относиться к ним как к родным. Далее шла забугорная…
– А почему забугорная? – удивился Башмаков.
– Это старый казачий обычай. Стременную кто казаку подает?
– Кто?
– Жена. А забугорную кто?
– Не жена…
– Молодец! Забугорную ему, когда станица уже скроется за бугром, подает зазноба! Понял? На прощанье…
– Ну и кто же вас ждет за бугром? – ехидно спросила Катя, неожиданно возникая на пороге кухни.
– Тише, – попросил Башмаков, почему-то совсем не удивившись внезапному появлению супруги. – Человека, можно сказать, на войну провожаем!
– На какую еще войну? Вы что, молодые люди, совсем сдурели? На какую войну?
Катя сняла трубку. Через две минуты неприбранная Калерия в длинной ночной рубашке и наброшенном на плечи халате уже всхлипывала, глядя на Анатолича:
– Ты же обещал… Ты же мне обещал!
Полковник встал, скрежетнул зубами и успел, уводимый женой, бросить:
– Вот так и гибнут империи! В бабьих слезах захлебываются!
Катя, помолчав, спросила:
– Ты, Тунеядыч, тоже на баррикады собрался?
– Почему бы нет? Страна-то гибнет…
– Не волнуйся. Страна уже тысячу лет гибнет…
– Это тебе Вадим Семенович сказал?
– Напрасно ты так… Я тоже кое-что знаю.
– Например?
– Например, как обустроить Россию.
– Ну и как?
– Для начала, Тунеядыч, нужно сделать ремонт в квартире. Ты когда в последний раз обои клеил? Потом надо поймать ту сволочь, которая почтовые ящики ломает. А дальше само пойдет…
– Ты думаешь?
– Уверена.
– А почему ты вернулась с дачи?
– Не знаю. Решила провести эту ночь с тобой. Ты готов?
На следующее утро – было как раз последнее воскресенье сентября – Башмаков лежал в постели, еще наполненной теплой истомой ночного супружества. С кухни доносились радостные ароматы – Катя пекла блины. Олег Трудович лежал и как-то совершенно спокойно, даже чисто математически соображал, что изменилось в Катиной женственности после Вадима Семеновича. Он чувствовал – изменилось, но конкретно что именно изменилось, ухватить никак не мог. И тут раздался звонок телефона.
– Алло!
– Здравствуйте, Олег Терпеливыч! Как поживаете?
– Джедай!!
– Узнал?
– Конечно, узнал! Ты где?
– В Москве.
– Приезжай!
– Не могу. У меня к тебе просьба. Ты можешь приехать к Белому дому?
– Могу. Когда?
– Вечером, попозже. Иди через Дружинниковскую – там можно пройти. Если наши спросят, скажешь – к Джедаю. Они знают.
– А если не наши?
– Отвирайся. Скажи – собака у тебя убежала.
– Тебе чего-нибудь захватить?
– Если пожрать и выпить принесешь – не обижусь.
Катя, узнав, что объявился Каракозин, нажарила котлет, нарезала бутербродов и сама сбегала в магазин за выпивкой. Провожая Башмакова, она взяла с него слово, что сам он там, у Белого дома, не останется.
– Ни-ни! – пообещал Олег Трудович.
На «Баррикадной» стояли наряды милиции и ОМОНа. Парни в пятнистой форме внимательно разглядывали всех, кто выходил из метро. Башмаков с авоськой не вызвал у них никаких подозрений. Он прошел мимо зоопарка. Пересек Краснопресненскую улицу. Миновал Киноцентр. Там было множество иномарок. Доносилась музыка. Вспыхивала и гасла огромная надпись «Казино “Арлекино”». Оставалось свернуть с улицы Заморенова на Дружинниковскую. И вот когда Олег Трудович, мужественно презирая невольную торопливость сердца, крался вдоль ограды стадиона, из-за деревьев появился здоровяк в пятнистой форме:
– Куда?
– Я к Джедаю.
– К какому еще Джедаю?
– К Каракозину… к Андрею… Он на гитаре играет.
– А-а, к Андрюхе? В сумке-то что?
– Еда…
Здоровяк пнул набитую авоську коленом, и послышался лязг бутылочных боков.
– Еда, говоришь? Ну тогда пошли!
Вокруг Белого дома все было почти так же, как и два года назад: провисшие палатки, чахлые баррикады, сыплющие искрами костры. Под ногами шуршали сухие осенние листья и брошенные газеты. Когда они поравнялись со знаменитым козырьком-балконом, к ним подскочила странная старуха. Она была одета в застиранную гимнастерку времен войны и звенела медалями, как монистом. Из-под белесой пилотки выбивались седые космы.
– Поймали! – закричала она. – Идите, люди, сюда! Судить будем…
– Никого не поймали, – буркнул здоровяк. – Это наш. Наш парень… Иди, мать, с Богом! А то сейчас всех взгоношишь!
– Наш! Это наш! Это к нам! Сынок…
Странная старуха обрушила на грудь струхнувшему Башмакову всю свою медальную тяжесть и расцеловала его, обдав затхлым старческим дыханием.
– Кто это? – спросил Олег Трудович, когда они отошли от старухи несколько метров.
– Бабушка Аня, мать солдатская… Тут всякие есть. Один паренек с космосом разговаривает. В него вроде как маршал Жуков переселился.
– Инкарнация?
– Точно, инкарнация… Говорит, победим!
Каракозин, тоже одетый в пятнистый комбинезон, сидел возле костра и вместе с длинноволосым монахом ел консервы прямо из банки. Они то и дело вскидывали головы и прислушивались к невнятным голосам, доносившимся из репродуктора. Увидев Башмакова, Джедай поднялся:
– Молодец, что пришел!
Друзья обнялись. Поцеловались. От Джедая вкусно пахло тушенкой и водочкой. В темноте Башмаков не мог подробно рассмотреть его, но все-таки заметил, что Рыцарь сильно изменился – поседел и высох до болезненной жилистости. На скуле виднелся белый выпуклый шрам с лапками – казалось, сидит многоножка-альбинос. Оружия, кроме штык-ножа на поясе, у Каракозина не было.
– Вот, пополнение тебе привели! – доложил башмаковский конвоир. – Принимай!
– Спасибо. Друг детства. Проведать пришел…
Они отошли в сторону от костра.
– А Катя тебя по телевизору видела! – сообщил Башмаков, чувствуя неловкость из-за того, что Джедай назвал его «другом детства». – Ты ведь был в Абхазии?
– И в Абхазии тоже…
– Как там Гречко? Он теперь, наверное, уже атаман?
– Погиб Гречко. На мине подорвался.
– Извини… Ты насовсем? В том смысле – тебе можно теперь в Москве?
Каракозин глянул исподлобья, игранул желваками, и сороконожка на скуле будто шевельнула лапками.
– Можно. Если одолеем, тогда все будет можно. Потому что тогда не они меня, а я их искать буду! «Предателей на фонари…»
– «…вдоль всей Москвы-реки!» – подхватил Олег Трудович.
– Помнишь еще? Молодец! Как Катя?
– Нормально.
– Дашка?
– Растет.
– Ну-ка, погоди! – Джедай, нахмурившись, прислушался к бубниловке громкоговорителя. – Молодец Бабурин! Так и надо. Только так и надо!
– А что это?
– Это Верховный Совет заседает, а нам транслируют, чтобы не скучали…
– А что, скучно?
– Нет, не скучно, а скоро вообще будет весело! Значит, лимузины стережешь? Не горюй, Олег Термидорыч, если победим, восстановим «Альдебаран» и поработаем. Чертовски хочется поработать!
– А победим? – осторожно спросил Башмаков.
– Вряд ли. Плохо все это кончится. Очень плохо! Знаешь, чем они сейчас занимаются? – Джедай показал на репродуктор.
– Чем?
– Выясняют, кто главней… Довыясняются!
– Народ надо поднимать! – посоветовал Башмаков.
– Чего ж ты не поднимаешься?
– Я? Если народ поднимется, и я поднимусь…
– С дивана? Тебя, Тунеядыч, будут через двадцать лет в школе изучать!
– В каком смысле?
– Как типичного представителя… Но ты не виноват! Со всеми нами что-то случилось. Знаешь, есть такие насекомые твари – они что-то червячку впрыскивают – и червячок как бы замирает. Живые консервы. Тварь потом червячка жрет целый год. Он живехонький, свеженький, вкусненький – а пошевелиться не может. Может только думать с грустью: «Вот от меня уже и четвертинку откушали, вот уже и половинку отожрали…» Нам всем что-то впрыснули. И мне тоже… Просто я очнулся раньше. Так вышло. Передай это Принцессе!
Джедай вынул из нагрудного кармана конверт. Судя по залохматившимся краям, письмо было приготовлено давно.
– Ты понимаешь, я даже не знаю, где она теперь, – осторожно предупредил Башмаков.
– Найди! Это не ей. Это Андрону… когда вырастет.
От костра донесся шум и хохот. Из выкриков можно было понять, что там издевательски решается судьба Ельцина после победы. Смех вызвало предложение выдавить из гаранта весь накопившийся в организме алкоголь…
– Так он же с дерьмом вперемешку будет! – заметил кто-то басом.
– Вот и хорошо! Напоить этим Шумейку с Гайдаром!
– Бедные идиоты, – усмехнулся Джедай.
– Если что, – предложил Башмаков, – давай к нам! Мы спрячем! Хочешь, на даче. Там, кроме тещи, никого нет.
– Стоит домик-то у соседей?
– Стоит.
– Вот видишь, дом я выстроил! Не себе… Сына родил! Не себе… Осталось дерево посадить. Для других. Ну прощай, Олег Трудович! Иди! И никому не говори, что меня видел… Хотя подожди!
Джедай направился к палатке, из которой торчали ноги, обутые в десантные ботинки. Нагнулся, пошерудил внутри и вынул гитару.
– Эй, ребята, – крикнули у костра, – Андрей петь будет!
– Отпелся, – отрезал Каракозин.
Воротившись, он протянул гитару Башмакову:
– Это тебе! На память обо мне.
– Подожди, но ведь Руцкой говорит, что армия…
– Руцкой? Профессия у них такая – говорить…
Башмаков взял гитару и заметил большое черное пятно на том месте, где была витиеватая подпись барда Окоемова.
– Тоже сволочь, – объяснил Джедай. – Сказал по телевизору, что всех нас надо давить, как клопов. Слышал?
– Слышал.
Окоемов действительно выступал по телевизору и жаловался, как в 76-м году его не пустили на гастроли во Францию, а потом еще вдобавок отменили концерт в Доме культуры детей железнодорожников и, наконец, к пятидесятилетию вместо ордена Дружбы народов дали унизительный «Знак Почета». Из этого следовал довольно странный вывод – неуступчивый парламент нужно разгромить, а красно-коричневую заразу выжечь каленым железом. Раз и навсегда. В заключение ведущий попросил Окоемова что-нибудь спеть, и тот задребезжал своим знаменитым тенорком:
Апельсиновый лес весь в вечерней росе,
И седой мотылек в твоей черной косе…
– Нет, не возьму. – Башмаков вернул гитару Джедаю. – Даже не думай об этом! Придешь к нам в гости. Споем…
– Хорошо. Сформулируем по-другому: отдаю тебе гитару на ответственное хранение. Когда все кончится – заберу. Договорились?
– Договорились.
– Прощай!
– Прощай.
Они обнялись. От Джедая пахнуло стойбищным мужеством. И, только звякнув о костистую каракозинскую спину бутылками, Башмаков сообразил, что чуть не забыл вручить другу старательно собранную Катей посылку.
– Тебе!
– Спасибо! – Каракозин взял авоську и принюхался. – Котлетками пахнет!
Это были последние слова Джедая.
На «Баррикадной» Олега Трудовича все-таки остановил патруль – трое здоровенных парней в камуфляже. У каждого на плече висел укороченный десантный автомат, а у пояса торчал штык-нож. Омоновцы, явно переброшенные в забузившую столицу издалека, говорили с немосковской напевностью.
– Документы! Приезжий?
– Я москвич, – возразил Башмаков, протягивая предусмотрительно взятый с собой паспорт.
– Откуда идешь, москвич? – неприязненно спросил омоновец, видимо, старший по званию, листая документ и сверяя испуганное лицо задержанного с паспортной фотографией.
– С дня рожденья, – струхнул Олег Трудович. – Видите, я с гитарой…
– Точно с дня рожденья? – Старший посмотрел на него стальными глазами и поморщился, как от неприятного запаха.
– Точно.
– Дай гитару!
Старший на всякий случай встряхнул инструмент. Другой обхлопал Башмакова от плеч до щиколоток, как это всегда делал дотошный немецкий патруль в советских фильмах про партизан и подпольщиков. Третий при этом остался чуть в стороне. Он стоял, широко расставив ноги и следя за каждым движением Башмакова чутким автоматным стволом.
– Ладно, пусть идет, – громко сказал старший, – этот не оттуда. Сразу видно…
Башмакову вернули паспорт, гитару и обидно подтолкнули в спину. Из-за презрительного толчка и унизительных слов «этот не оттуда» Олег Трудович страшно осерчал и всю обратную дорогу воображал, как возвратится туда, к Белому дому, найдет Джедая и объявит:
– Я с тобой!
– Ну, – скажет Каракозин, – если уж ты, Олег Тихосапович, решился, значит, утром весь народ поднимется! Ты в армии-то у нас кем был?
– Вычислителем.
– Из автомата стрелял?
– Четыре раза.
– Отлично!
Джедай обнимет Башмакова, пойдет к палатке, пороется внутри и вернется с новеньким, пахнущим смазкой «акаэмом». Потом кто-то из соратников приведет пойманного старшего омоновца, оплеванного и истерзанного бабушкой Аней, матерью солдатской. И Башмаков, подталкивая обидчика стволом в спину, погонит к стенке. Нет, не расстреливать, а просто попугать, чтобы знал свое место…
– Ты что такой возбужденный? – спросила Катя.
– Нет, ничего. – Башмаков быстро прошел и заперся в туалете.
Ему нужно было побыть в одиночестве и закончить обличительный монолог, обращенный к пойманному брезгливому омоновцу:
– … За порушенный великий Советский Союз, за ограбленных стариков, за наших детей, лишенных обычного пионерского лета, за разгромленную великую советскую космическую науку, за Петра Никифоровича и Анатолича! За меня лично…
Башмаков мстительно нажал на никелированный рычаг – и унитаз победно заклокотал.
В ближайший выходной Башмаков снова хотел проведать Джедая, но Белый дом к тому времени окружили бронетехникой и обвили американской колючей проволокой – не прошмыгнуть. Кроме того, по слухам, все подступы к мятежному парламенту простреливались засевшими на крышах снайперами.
А 4 октября 93-го Верховный Совет раскурочили из танковых пушек. Народ собрался как на салют и орал «ура», когда снаряд цокал о стену и звенели разлетающиеся осколки. Анатолич затащил Башмакова под пандус, ведший к площадке перед СЭВом. Под пандусом какой-то иностранный журналист, захлебываясь, наговаривал в диктофон радостный комментарий, а когда раздавался очередной залп, выставлял диктофон наружу, чтобы отчетливее записать грохот и крики. Потом появились мальчишки и стали шумно делить стреляные гильзы.
Белый дом дымился подобно вулкану. Верхние этажи закоптились. И где-то там, в жерле вулкана, остался Джедай. Сколько человек погибло, никто не знал. Анатолич потом говорил, мол, трупы тайком ночью сплавляли на баржах по Москве-реке и жгли в крематориях. Но Башмаков не верил в смерть Джедая, он даже на всякий случай предупредил тещу, что на даче у них некоторое время поживет один знакомый. Катя тоже не верила:
– Ничего с ним не случилось. Вон ведь ни одного депутата не застрелили. Только избили.
Неделю они ждали звонка. Но Каракозин не объявился.
Письмо Башмаков сумел передать Принцессе только через полгода. Он сделал бы это раньше, но не знал, где ее искать. Помог случай. Катя и Дашка отправились на Тверскую по магазинам. Тогда вдруг стала очень популярной песенка:
Ксюша, Ксюша, Ксюша,
Юбочка из плюша…
И девчонки как с ума посходили. Дашка тоже потребовала себе к лету плюшевую юбку, причем фирменную, чуть ли не из бутика. Катя как раз получила деньги. Она в ту пору готовила к выпускным экзаменам одного оболтуса. Отец оболтуса был прежде каким-то экспертиком в Комитете сейсмического контроля. Так, мелочь с тринадцатой зарплатой и единственным выходным костюмом. Но когда после 91-го началось коммерческое строительство, он сделался большим человеком – ведь для того, чтобы поставить даже собачью будку, не говоря уже о чем-то основательном, необходима его подпись на проекте. И «зелень» ему потащили буквально чемоданами. Сын его, прогульщик и кошкодав, приезжал теперь в лицей на ярко-красном «Феррари», а поскольку водительских прав у него по малолетству не было, он предъявлял гаишникам пятидесятидолларовые купюры.
Итак, Катя и Дашка ходили по Тверской, приглядываясь и поражаясь ценам: юбочка здесь стоила столько, что за такие деньги, например, в Лужниках можно купить пальто. Вдруг они увидели Принцессу. Она покидала магазин в сопровождении двух охранников, увешанных сумками и свертками, точно экспедиционные кони. Катя сначала заробела, но потом, помня о письме Джедая, все-таки окликнула. Принцесса сразу ее узнала, была чрезвычайно приветлива и даже подарила Дашке миленькие часики (за ними, пока они разговаривали, мухой слетал охранник). Узнав, что у Башмакова к ней важное дело, Принцесса не стала выяснять подробности, а просто дала визитную карточку, переливавшуюся золотом и благоухавшую французским ароматом новорусской жизни.
Олег Трудович позвонил буквально в тот же день.
– Письмо? – после довольно долгой паузы переспросила она. – Хорошо. Приезжай!
– Куда?
– Ты на машине?
– Нет.
– Тогда не доберешься. Я пришлю за тобой водителя. Завтра.
На следующий день присланная БМВ мчала Башмакова по Минскому шоссе. Сразу за Переделкином они свернули на боковое шоссе, затем на вымощенную фигурной плиткой лесную дорогу и вскоре оказались возле огромного кирпичного замка, окруженного высокой бетонной стеной – по верху стены шла спиралью колючая проволока. На заборе, словно сторожевые птицы, сидели телекамеры.
Железные клепаные ворота автоматически открылись. Внутри, во дворике их встречали одетые в черную форму охранники с помповыми ружьями.
– Вы Башмаков? – спросил один из них.
– Да.
– Простите, ваше имя-отчество?
– Олег Трудович.
– Олег Трудович, пойдемте, я вас провожу!
Они поднялись по каменным ступенькам. В просторном вестибюле высились на постаментах скульптурные загогулины, а в центре бил фонтан. Охранник провел Башмакова через зимний сад. В огромных майоликовых горшках стояли неведомые деревья, цветшие большими душными цветами. В бассейне, выложенном естественными камнями, плавали золотые вуалехвосты величиной с хороших лещей. Внимание Башмакова привлекла одна рыбка-львиноголовка с черными плавниками и совершенно бульдожьей мордой. Он невольно замедлил шаг. Таких удивительных тварей ему даже на Птичьем рынке видеть не приходилось.
– Вас ждут! – вежливо поторопил охранник.
Они вошли в зал с мраморным камином. Потолок был высокий, в два света, но окна второго ряда представляли собой витражи, поэтому в зале царил шевелящийся цветной полумрак. Тишина нарушалась только потрескиванием горящих поленьев. По стенам висели рыцарские щиты и мечи с затейливо украшенными рукоятками. Башмаков видел такие в универмаге в отделе подарков и сувениров. На каменном полу распластались медвежьи шкуры – белые и бурые.
Принцесса, одетая в обтягивающие синие джинсы и блекло-розовую, будто бы застиранную майку, сидела в глубоком кожаном кресле возле камина. Пятнистый долговязый дог, лежавший у ее ног, встрепенулся, вскочил и посмотрел на Башмакова красными, словно заплаканными глазами, потом повернулся к хозяйке и, не получив никаких инструкций, снова грустно положил морду на лапы.
Принцесса кивнула – и охранник исчез.
– Рада тебя видеть! – сказала она, встала и протянула Башмакову руку. – Хорошо выглядишь. И галстук у тебя красивый.
– От Диора. Жена подарила… – Олег Трудович растерялся, соображая, не поцеловать ли протянутую руку.
– И дочь у тебя очаровательная! – Принцесса, не дав Башмакову сообразить, отняла руку.
– Здорово ты устроилась! – комплиментом на комплимент ответил он. – Прямо замок какой-то!
– Да, муж занимается нефтью. И дела идут неплохо… Он погиб?
– Скорее всего. Он был в Белом доме…
– Я знаю. Мне очень жаль… Очень! – В ее глазах показались слезы. – Он был хорошим человеком…
– Это для Андрона, – разъяснил Олег Трудович, протягивая письмо.
– Знаю. – Она взяла конверт, подошла к камину и бросила, не распечатывая, в огонь.
Красное пламя вспыхнуло химической синевой.
– Андрону лучше ничего этого не знать. Он его почти забыл. Он только-только начал звать мужа папой. И вспоминать не стоит… – тихо проговорила Принцесса.
– Он, наверное, тоже сгорел, – глядя на свертывающийся в обугленную трубку конверт, вымолвил Башмаков.
– Зачем ты мне это говоришь? Ты тоже считаешь, что я виновата в его смерти?
– А кто еще так считает?
– Твоя жена.
– Она тебе об этом сказала?
– Зачем говорить? Достаточно взгляда…
– Извини… Можно я спрошу?
– Можешь не спрашивать. Нет. Я его не любила. По крайней мере так, как он меня любил. Ты же помнишь, как он меня добивался! Добился… Я надеялась, он справится с собой. Да, наверное, я виновата… Но почему я должна жить всю жизнь с человеком, который мне… который мне не подходит?
– А нынешний муж тебе подходит?
– Да, подходит. Я его люблю. А почему ты, интересно, не веришь в то, что я могу кого-нибудь любить? Я его люблю!
– Я верю.
В зал вошла девушка, одетая именно так, как в фильмах про богатых одеваются горничные. Даже кружевная наколка в волосах имелась.
– Да, я сейчас… – Принцесса кивнула горничной и снова повернулась к Башмакову: – Извини, мне пора кормить ребенка.
– А сколько ему?
– Ей. Семь месяцев.
– Поздравляю! Но по тебе не догадаешься. Прекрасно выглядишь!
– А-а, ты про это. – Она улыбнулась и опустила глаза на свою грудь, по-девичьи приподнимавшую майку. – Я взяла кормилицу. Но врач советует обязательно присутствовать при кормлении, чтобы у ребенка не терялся контакт с матерью…
– Это мудро. А отец, наверное, присутствует при «пи-пи» и «ка-ка» – для контакта…
– Он бы тоже так пошутил. Ты этому у него выучился. Никогда нельзя было разобрать, когда он шутит, а когда говорит всерьез. Он, наверное, и перед смертью шутил… Он никогда не говорил серьезно.
– Говорил. Про тебя он говорил серьезно.
– Возможно… Олег, я тебя хочу попросить. У меня есть планы. Так вот, Андрон не должен знать, как погиб его отец. И лучше, чтобы этого не знал никто…
Принцесса взяла с инкрустированного столика конверт, довольно тугой, и протянула Башмакову:
– Возьми! Для меня это немного, а тебе, наверное, нужны деньги…
– Деньги всегда нужны. Но я был должен Джедаю. За приборы ночного видения…
– За что? Какие еще приборы ночного видения?
– А что, разве твой муж добывает нефть? Бурит скважины?
– Нет, он ее продает. Он выиграл тендер.
– А мы тоже выиграли тендер и продавали приборы ночного видения. Может быть, не так удачно, как твой муж – нефть… Но все-таки. У меня осталась его доля.
– И какая же это доля?
– Примерно такая же. – Башмаков кивнул на конверт. – Будем считать, он уже заплатил мне…
– Я думала, ты добрее… – В ее голосе послышалась обида. – До свидания, Олег Тендерович! Надеюсь, когда-нибудь ты меня поймешь.
Дог предусмотрительно встрепенулся. За спиной Башмакова вырос непонятно откуда взявшийся охранник.
– Пройдемте! – сказал он голосом участкового милиционера.
Катя, дожидаясь его возвращения, извелась от любопытства.
– Отдал? – спросила она.
– Угу.
– Мужа ее видел?
– Нет.
– А дом у них какой?
– Фанерно-щитовая хибара на шести сотках, – ответил Башмаков.
Когда Олег Трудович засыпал, ему вдруг стало безумно жаль, что он не взял у Принцессы денег. В конверте было ведь тысяч десять, не меньше! На все хватило бы.
Башмаков растолкал заснувшую Катю.
– Да ну тебя, Тунеядыч! Не буди! Завтра. Сегодня я как собака…
– Кать, а ведь она мне деньги предлагала!
– За что?
– Чтобы я про Джедая никому не рассказывал.
– И ты взял? – Катя аж подскочила, совершенно проснувшись.
– За кого ты меня принимаешь?!
– Молодец, Тапочкин!
Вскоре Принцесса сделалась любимицей журналистов. Она открыла благотворительный фонд «Милость» для помощи детям, страдающим церебральным параличом. Фонд организовывал благотворительные концерты и научные конференции, заканчивавшиеся грандиозными фуршетами. Она постоянно мелькала на телевидении, и когда покойная ныне принцесса Диана была в России, то, разумеется, посетила фонд «Милость». Все журналы мира обошла трогательная фотография: две молодые красивые женщины нянчатся с изломанным церебральным ребеночком. Подписи были однотипные и пошлые, потому что журналисты давно уже пропили свои мозги на всех этих дармовых фуршетах: «Две милости», «Две доброты», «Два сострадания». И только один Башмаков знал, как надо было подписать фотографию: «Две принцессы».
Примерно в то же время по ящику прошла какая-то подленькая передачка к годовщине расстрела Белого дома, и Башмаков увидел, что на Дружинниковской вдоль ограды стадиона теперь стоят кресты и щиты с фотографиями погибших. Он полистал альбом с наклейкой «Свадьбы» и нашел отличный снимок: Джедай держит в одной руке бокал, а другой крепко прижимает к себе ненаглядную невесту, несколько минут назад ставшую его женой. Принцесса в фате с охапкой белых роз. Молодые глядят друг на друга глазами, полными счастья…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.