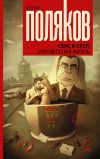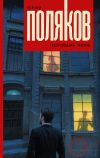Текст книги "Собрание сочинений. Том 4. 1999-2000"
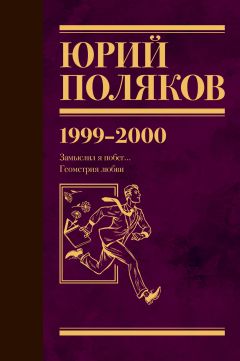
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
– Заседание завтра в десять часов, – торжественно объявил Гена и посмотрел на Вету: – А что твой папа по этому поводу думает?
– Не знаю. Мы на эту тему не разговариваем.
– Том, а что Иван Павлович говорит? – не утихал Игнашечкин.
– Не знаю. Мы на эту тему не разговариваем…
– Да ладно уж, секретницы!
Когда возвращались из столовой, Вета и Башмаков немного отстали. Некоторое время они шли молча.
– Когда? – наконец спросил Башмаков.
– Завтра. Я целый день буду дома. Я целый день буду ждать.
– Я тоже буду ждать… – Он незаметно пожал ей руку.
Пальцы у девушки были ледяные.
Следующим утром, собираясь на работу, Олег Трудович надел новые трусы и майку – индийские, темно-вишневого цвета, купленные недавно Катей. Брился он тщательнее, чем обычно, даже ножничками отрезал высовывавшиеся из ноздрей волоски. Постриг заодно и ногти на ногах. Выбирая галстук, Башмаков улыбнулся и снял с планочки тот, изменный, от Диора. Приложил к груди, но повязывать не стал.
По пути он купил пачку мятной жевательной резинки. До обеда Башмаков еле сумел занять себя, сделав внеплановую профилактику двух счетных машинок. Потом примчался возбужденный Гена и стал рассказывать про заседание правления, про то, как Малевич отбивался и даже поначалу перешел в контрнаступление, но потом выступил Корсаков, привел цифры… И понеслось! Но до самого конца было все-таки не ясно, чем все закончится. Ведь никто не знал, что скажет Аварцев.
– И что сказал Аварцев?
– Ничего. Просто показал большим пальцем вниз, как гладиатору… И все! И нету больше Малевича! Нету. Надо выпить!
– У меня сегодня английский, – покачал головой Башмаков.
– Ладно, спикай! Найдутся настоящие друзья – чокнутся со мной в честь такого дня. Малевича сожрали! Какой-то ты сегодня, Трудыч, странный!
– В каком смысле?
– Не знаю. Помнишь, как Штирлиц шел по коридору к Мюллеру?
– Помню.
– Вот ты сегодня как тот коридорный Штирлиц…
Потом Башмаков соврал, будто бы от Дашки прибыли знакомые и надо с ними встретиться, передать кое-что для дочери. Он ехал на Плющиху со странным знобящим чувством, словно хирург – на ответственную операцию к знатной пациентке. В тот день в Москве был страшный ветер: летели газеты, размахивая испещренными петитом крыльями, катились, стуча по грязной ледяной коросте, жестянки, полосатые палатки уличных торговцев надувались, как паруса. Казалось, люди идут не сами по себе, а их, упирающихся, тащит вперед облепившая тело одежда.
На Смоленской в магазинчике Башмаков купил цветы – пять белых голландских роз на длинных, в палец толщиной стеблях, покрытых шипами, похожими на акульи плавники. Он выбирал розы придирчиво, как Катя, чтобы ни подвялинки, чтобы чашелистики не отставали от лепестков, а сами лепестки были скручены в тугие рулончики. Потом Олег Трудович нес эти розы стеблями вверх, заслоняя от ветра полой новой длинной дубленки, и почему-то думал о том, что если сейчас, хотя это и невозможно, он столкнется с женой – то объяснить данный конкретный букет будет совершенно невозможно.
– Это – я! – сказал он в домофон.
Около лифта Башмаков задержался и пощупал пальцами листья плюща. Так и есть – пластмасса, но очень качественная – все прожилки видны. Он вынул изо рта жевательную резинку, скатал липкого червячка и, веселея от своего озорства, посадил искусственное насекомое на синтетический лист.
«Плодитесь и размножайтесь!»
Когда Олег Трудович поднялся от лифта по лестнице, Вета уже стояла у открытой двери. На ней был длинный шелковый бордовый халат с золотым плетеным пояском. Черные волосы распущены по плечам. В глазах – испуг.
– Я ждала! Я очень ждала!
– Я тоже, – сознался Башмаков, понимая, что как раз этого говорить и не стоит.
Вета взяла у него букет, отрезала кончики стеблей и поставила цветы в вазу:
– Белые, как невесте…
– А как же, – промямлил Башмаков, совершенно не соображая, как вести себя дальше.
– Хотите выпить?
– Хочу.
– Вина, виски?
– Виски.
Вета достала из бара бутылку и широкие граненые стаканы. Принесла из холодильника лед. Некоторое время сидели молча, и было слышно, как потрескивают брошенные в виски кубики льда.
– Малевича выгнали… – вымолвил Башмаков.
– Я знаю.
– Корсаков выступал на правлении…
– Я знаю.
– Сегодня такой ветер…
– Я знаю. По телевизору сказали, что в Царицыне сломался старинный дуб…
– Вета, давайте в другой раз! – взмолился Башмаков.
– Почему? Я вам совсем не нравлюсь?
– Нет, нравитесь…
– Тогда вам лучше пойти в ванную, – подсказала она.
Раздевшись и приняв душ, Башмаков протер запотевшее зеркало и вгляделся в свое отражение. Седой! Ну, не совсем, а с проседью. И волосы на груди тоже с проседью. И не на груди – тоже с сединой.
Олег Трудович обернулся большим махровым полотенцем. Вот сейчас он войдет в комнату и лишит невинности ровесницу своей дочери! Мерзавец. Он кулаком слегка ткнул себя в челюсть. Потом втянул живот до позвоночника, проверил мускулистость, глубоко вздохнул и улыбчиво спросил у отражения:
– Дефлоратора вызывали?
Вета лежала в постели, подтянув одеяло к подбородку и зажмурившись. Волосы покрывали подушку черным веером. Ее лицо казалось спящим, и только губы чуть подрагивали. Он подошел, роняя с бедер полотенце, присел на краешек кровати, наклонился и поцеловал ее замершие губы. Потом Башмаков осторожно сдвинул одеяло и коснулся губами коричневых, похожих на изюмины, сосков. Сначала одного, потом другого. Вета прерывисто вздохнула и дрогнула всем телом. Тело у нее было смуглое, без следов от купальника. Наверное, загорала в солярии в теннисном клубе. Дашка тоже иногда туда ходила. Олег Трудович множественно поцеловал упругий, бархатистый живот, проверив языком глубину пупочной впадинки. Девушка тихо застонала и погладила его по голове, как маленького. Башмаков окончательно откинул одеяло: Ветины ноги были скрещены и напряжены. Он прижался щекой к курчавым чернильно-черным волосам, похожим на бородку ближневосточного террориста, – и ноги распались. Тогда он осторожно лег рядом, взял влажную, беспомощную девичью ладонь и провел ею по своему телу – по лицу, по груди, по животу… Вета содрогнулась, распахнула испуганные глаза и схватила Башмакова как-то по-спортивному, будто теннисную ракетку.
– Ой, подожди, в первый раз нужно обязательно с презервативом! – прошептала она.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю. Я приготовила. В тумбочке…
– Какая ты предусмотрительная девочка!
Он не заметил, как они перешли на «ты».
– Конечно, предусмотрительная! Невинность теряют только один раз в жизни… Все должно быть правильно. Можно это сделаю я?
– Конечно.
– Ты, наверно, ничего не почувствуешь в этом? – неумело стараясь, спросила она.
– Чувствуют вот этим, – Башмаков показал на сердце, – а этим ощущают.
– А что ты сейчас ощущаешь?
– Я? Пока ничего, а вот тебе сейчас, наверное, будет больно…
– Если будет много крови, я приготовила салфетки.
– Просто молодец! Подожди-ка… Ляг вот так…
– Нет, в первый раз лучше на животе…
– Почему?
Методическая осведомленность девственницы начала немного раздражать первопроходца.
– Понимаешь, – разъяснила Вета, – в такой позе безболезненнее разрыв девственной плевы…
Башмаков ни с того ни с сего представил себе памятник героям Плевны, черную часовню на бульваре возле Маросейки. Бабушка Елизавета Павловна водила его туда гулять, и маленький Олег Трудович всегда норовил заглянуть в замочную скважину большой железной двери. Мальчишки уверяли, будто там навалены кости гренадеров. Но никаких костей он, естественно, не увидел…
– Ты о чем задумался?
– Я? О том, откуда ты все знаешь.
– Так написано.
– Ладно. Будем по написанному… Тебе удобно?
– Удобно.
– Больно?
– Пока нет.
– А так?
– Немного.
– А вот та-ак?!
– Больно! И хорошо…
Потом они лежали рядом. Вета курила. Башмаков тоже. Два раза затянулся: он чувствовал себя хирургом, успешно закончившим непростую операцию.
– А крови совсем немного, – с чуть уловимой досадой заметил он.
– Да, совсем мало… Я-то думала, кровь будет густая, как после убийства.
– Почему после убийства? – вздрогнул Башмаков.
– Не знаю. А кровь получилась какая-то розовая, словно арбузным соком накапали…
– Наверное, я плохой сокрушитель девственности?
– Ты замечательный сокрушитель! Я тебя люблю. – Она поцеловала его в щеку.
– Раньше ты мне этого не говорила.
– Что ж я – дурочка, что ли! Если бы я сказала, ты бы никогда этого не сделал. Никогда. Точно?
– Точно.
– А хочешь узнать, когда я в тебя влюбилась?
– Хочу.
– На одну треть я в тебя влюбилась…
– Погоди, а разве влюбляются по частям?
– Конечно! Ты не знал? Боже мой, седенький, – она погладила его по волосам, – а не знает таких простых вещей! На одну треть я влюбилась в тебя, когда ты вошел тогда, в первый раз…
– На одну?
– На одну. На вторую треть я влюбилась в тебя, когда твоя Дашка выскочила замуж.
– При чем тут Дашка?
– Понятия не имею. Но как только Тамара сказала, что твоя дочь выходит за какого-то офицера, я сразу почувствовала – еще на одну треть. Получилось две трети.
– А третья треть?
– Это когда ты нашел «банк Росси». Я подумала: а он у меня еще и талантливый!
– У тебя?
– У меня. Третья треть сразу и заполнилась.
– И ты решила, что именно я стану твоим первым мужчиной?
– Да. И я буду выполнять все твои желания. А ты – мои.
– А если первый мужчина хочет еще раз выполнить твои желания?
– Нет, что ты! – испугалась Вета. – В первый раз второй раз исключается. Все должно зажить – через три-пять дней, в зависимости от восстановительных способностей организма.
– Это ты тоже прочитала? И где же?
– Есть такая книжка – «Молодоженам под подушку».
– Ну как же!
– Ты знаешь?
– Конечно, у нас, сокрушителей девственности, это настольная книга. Но там в главе «Дефлорация» про три-пять дней ничего не написано. Зато там есть про «радостно-благодарное чувство отдачи любимому человеку». Ты чувствуешь радость отдачи?
– Конечно. – Она поцеловала его руку. – Но про три-пять дней написано в главе «Первая брачная ночь». Ты просто до нее не дошел.
– А в этой главе, случайно, не написано, что мужчина после первой брачной ночи, даже если это происходит днем, обычно очень хочет есть?
– Написано. Но только в главе «Секс и питание». У меня в печке пицца с креветками!
– Отлично. Встаем?
– Нет, погоди… Закогти меня!
– Что-о?
– Обними меня крепко-крепко, так, чтобы косточки хрустнули!
Сидя в метро, Башмаков приставлял к лицу пальцы и вдыхал Ветин женский, еще пока полузнакомый запах. От произошедшего у него осталось очень странное послечувствие. Словно бы он с помощью дурацкой инструкции, наподобие тех, что прилагаются к кухонным агрегатам («…поверните винт 12–6 до отказа, а потом вращайте его по часовой стрелке, пока не достигнете предусмотренного пунктом 8-г результата…»), так вот – словно бы он с помощью такой дурацкой инструкции пытался проникнуть и даже, кажется, немножко проник в самую жгучую и знобкую тайну жизни…
Когда он вошел в квартиру, с кухни донесся строгий Катин голос:
– Не раздевайся!
Башмаков вспотел раньше, чем успел подумать:
«Че-ерт! Не могла же она узнать… Откуда? Видела с цветами?»
– Тунеядыч, мусоропровод засорился. Вынеси ведро на улицу!
31
«Вообще-то странно, что Катя ничего не заметила! Странно…»
Эскейпер посмотрел на бочонок: пойманный «сомец» уже успокоился. То-то! Все три рыбки лежали на стеклянном дне, сблизившись усатыми рыльцами, точно заговорщики. Башмаков глянул на часы – скоро приедет «Газель». И что делать? Вета исчезла. Дашка родила. Катя ничего еще не знает. Узнает – возьмет отгулы и полетит к Дашке. Конечно, правильнее всего было бы сейчас вылить сомиков назад в аквариум… (Ишь ты, зашевелились, телепаты чешуевые!) Рассовать вещи по местам. И отложить побег. Нет, не отменить вообще – это невозможно! – отложить, пока все разъяснится. А главное – поговорить с Катей. Сказать ей:
– Видишь ли, Катя, я встретил девушку…
– На щечке родинка, полумесяцем бровь?
– Я серьезно.
– И я серьезно. Ты хочешь, чтобы я, как в дурной молодости, на дверях распиналась? Этого не будет. Тапочкин, ты свободен, как Африка!
Эскейпер был уверен в том, что разговор с Катей будет именно таким. В их супружеских отношениях, особенно после его болезни, появилось нечто новое и непривычное. Это трудно объяснить… Раньше они напоминали Адама и Еву, которые, переругиваясь и перепихивая друг на друга вину за вылет из рая, искали на чуждой земле место для жизни, строили шалаш, радовались убогим плодам земным, потом в сладострастных стонах зачинали ребенка, растили его… И у каждого – и у Башмакова, и у Кати – непременно где-то в глубине теснилась мысленочка: а ведь с другой (с другим) строить шалаш, радоваться убогим плодам земным, зачинать в сладострастных стонах ребенка и растить его было бы, наверное, радостнее, острее, милее… Но вот в этом вечном сомнении прошли годы, полупрошла жизнь – и они стали похожи на стареющих Адама и Еву, приглядывающих местечко, где рыть себе последнюю, окончательную землянку.
В их разговорах все чаще мелькали слова о будущих внуках, о том, кто каким противным и мерзким будет в старости, о том, что стареть надо дружно и взаимно вежливо. Даже размеренные предсонные объятия стали своего рода плотскими заверениями друг друга в будущей пожилой и верной дружбе. Конечно, это исходило прежде всего от Кати. Она стала вдруг стремительно ускользать в сладкое состояние предстарости, увлекая и утягивая за собой Башмакова. Он поддавался, утягивался, и между ними устанавливалась новая гармония, нежно-насмешливая и спокойно-доверительная, какой прежде не было. И Олег Трудович сознавал, что Катя, простившая ему прошлые молодые измены, никогда не простит предательства этой новой, нарождающейся гармонии совместного старения. Да он и не помышлял о такой измене, если б не Вета…
Вернувшись тогда, в первый раз, от Веты, он долго сидел на кухне (якобы смотрел фильм), а сам думал о том, что все случившееся нужно прекратить сейчас же, обратить в какую-нибудь жестокую, обидную шутку, мол, просьба удовлетворена – и в добрый путь! При этом еще так улыбнуться, чтобы она обиделась, смертельно обиделась. В противном случае ничем хорошим это не кончится. Так говорил разум. Но тело, его подлое, вышколенное бегом и выдиетченное до юной стройности тело, ныло и попрошайничало: «Ну, еще один раз. Ну что тебе стоит! Я же еще ничего не почувствовало. Я хочу почувствовать, как ее руки научатся обнимать, губы целовать, а тело содрогаться от счастья! Ну что тебе стоит!»
«Хорошо, – согласился Башмаков с телом, – еще один раз. В крайнем случае – два…»
В субботу утром раздался телефонный звонок. Катя была в ванной – перестирывала гору белья, накопившегося за время неработоспособности «Вероники». Башмаков сидел на кухне. Все утро телефон звонил не переставая. Сначала он поговорил с матерью, интересовавшейся вестями от Дашки. Потом его долго терзала подъездная активистка по поводу домофонов:
– В конце концов, нужно провести тайное голосование. И пусть меньшинство подчинится большинству!
– Конечно, – согласился Олег Трудович, припоминая, что в истории как раз наоборот: большинство всегда подчинялось меньшинству.
Когда раздался очередной звонок, Башмаков, раздосадованный этой телефонной канителью, отозвался с раздражением:
– Алло!
– Это я, – сказала Вета взволнованно. – Ты можешь слушать?
– Могу.
– Я с папой улетаю на Кипр. На переговоры. Буду переводить. Вернусь в среду. Я страшно соскучилась.
– Я тоже.
– Пока!
– Пока…
– Это кто был? – спросила Катя, вдруг появляясь из ванной.
На все предыдущие звонки она, между прочим, не обратила никакого внимания.
– С работы, – буркнул Башмаков.
До среды оставалось достаточно времени, чтобы пораздумать о том, как теперь вести себя с Ветой. После тяжелых и продолжительных размышлений Олег Трудович решил изобразить некую невольную вовлеченность зрелого мужчины в вихрь девичьего легкомыслия. Так бывает на какой-нибудь офисной вечеринке, когда лихая соплюшка-секретарша поднимает из кресел пузатого чиновного мужчину и заставляет его вертеться-извиваться в неведомых и чуждых ему тинейджерских телометаниях. И он из вежливости, а также из возрастной философичности не сопротивляется.
В среду, едучи в банк, Олег Трудович вдруг подумал о том, что все теперь зависит от того, какие сегодня у Веты будут глаза. Вообще в отношениях между мужчиной и женщиной очень важна эта первая послепостельная встреча, а главное – первое послепостельное выражение глаз. У падшей студентки Кати в глазах появилось ожидание, исчезнувшее после свадьбы. У несчастной Нины Андреевны – нежный просительный укор. (Боже, за что же ее так жизнь измызгала?) В черных глазах Веты, караулившей Башмакова возле контрольно-пропускных стаканов, пылал восторг любви – болезненно-яркий, как ночная электросварка.
– Я была у врача! – шепнула она и крепко сжала протянутую руку. – Мне уже можно!
– Поздравляю.
– Знаешь, что мне сейчас хочется больше всего?
– Что?
– Поцеловать тебя у всех на глазах!
– Попробуй!
– Когда-нибудь попробую…
С утра Башмакова вызвали в Научно-исследовательский институт истории рыночных реформ в России (НИИ ИРРР), расположенный в красивом отреставрированном особняке XVIII века. Когда, разобравшись с неисправностью, он возвращал проглоченную карточку откормленному историку, тот возмущался, мол, никогда в этой стране не пойдут реформы, потому что даже импортную технику отладить не умеем. Да и вообще никаких реформ здесь нет и быть не может.
– Что же вы тогда изучаете?
– А-а… – махнул рукой историк, – знаете, как мы сами институт называем?
– Как?
– НИИ ИКРРР – Институт истории краха рыночных реформ в России…
Возле метро Башмаков купил рубиновую орхидею в прозрачной коробочке и спрятал в кейс.
– Осторожно – не помните! Это – серьезный цветок! – предупредила его цыганистая продавщица.
В банк он поспел к обеду.
– Нет, вы представляете, – возмущался, хлебая суп, Гена, – Малевича уже взяли в «Бета-банк»! Вице-президентом. Где справедливость?
– Боже мой, какая справедливость? – вздохнула Тамара Саидовна. – Ивана Павловича увольняют.
– За что?
– Юнаков сказал, что если Иван Павлович прослушивал вице-президента, то может и президента…
– Сволочь! – возмутился Игнашечкин. – Вета, твой отец в курсе?
– Понятия не имею.
Они сбежали сразу после обеда. В розовом джипе была автоматическая коробка передач, и правая рука Веты оказалась совершенно свободной. Совершенно! Они еле дотерпели до Плющихи. Потом Башмаков лежал, обессиленный, а Вета осторожно обследовала его тело, словно только что открытый ею остывающий вулканический остров.
– А здесь что ты чувствуешь?
– Щекотно.
– А здесь?
– А зачем тебе это?
– Я выучу тебя всего-всего. Научусь всему-всему. И ты не посмотришь больше ни на одну женщину. Хватит лежать! Я хочу учиться!
– Учиться, учиться и учиться! – согласился Башмаков.
Потом она благодарно изучала его лицо, волосы, губы…
– У тебя почти нет морщин, а волосы седые, как у папы… А знаешь, папа спросил, что со мной случилось. Он сказал, я очень изменилась…
– А мама?
– Мама… Ах, ну конечно, ты же про меня еще ничего не знаешь!
– Так уж и ничего?
– Почти ничего. Я пока для тебя только тело. Но это пока… Тебя когда-нибудь бросали?
– Да как тебе сказать…
– Значит, не бросали. А меня бросали. Когда отец бросил нас с мамой, мне было четырнадцать лет. Сначала я ничего не поняла, даже почувствовала в себе какую-то новую интересность. Вот, смотрите, идет девочка с горем! Ее отец ушел к другой женщине. Смотрите, как печальны ее красивые черные глаза! А потом начался кошмар. Ты представляешь себе, что такое остаться вдвоем с брошенной женщиной?
– Наверное, нет.
– Точно – нет! Мама ежеминутно сводила с ним счеты и обязательно в моем присутствии. Обязательно. Через меня она мстила ему насмерть. Она вспоминала, как на свадьбу его родственники подарили столовый набор, которым уже пользовались: на вилке был засохший томат. Она могла разбудить меня среди ночи и рассказать, как однажды, почувствовав от него запах чужой женщины, она решила проверить, изменял он или нет – растолкала его и заставила выполнять супружеские обязанности. И он – подлец, подлец, подлец! – выполнил-таки! И хорошо выполнил! Очень хорошо! Потому что не изменял. Он, пока был бедный, вообще ей не изменял. Потом она, спохватившись, плакала и просила у меня прощения. Но на следующий день за завтраком я ловила на себе ее ненавидящий взгляд, и она вдруг говорила: «У тебя его брови! Хищные и жестокие…»
Учиться я не могла. Вместо того чтобы идти в школу, слонялась по улицам. Однажды я поехала к отцу в офис, сказала, что я больше так не выдержу… Он повел меня в очень дорогой ресторан и за обедом долго убеждал, что я должна оставаться с мамой и поддерживать ее в это трудное время, а он будет со мной часто встречаться. И дал мне пятьсот долларов. К тому времени он был уже богат. А ведь даже я еще помнила, как он, чтобы сэкономить семейные деньги, рисовал цветными фломастерами на картонках единые проездные… Когда билеты потом вкладывались в пластмассовые футлярчики, а плексигласовые прозрачные корочки специально чуть-чуть затирались мелкой наждачкой, отличить их от настоящих проездных было невозможно. Но больше двух билетов он никогда не рисовал, хотя мама много раз просила, для родственников. Он говорил: «Строго карается!»
Отец был обыкновенным программистом. Он разбогател на компьютерах. У него неожиданно обнаружился родственник в Бельгии, торговавший подержанной оргтехникой. Родственник сам разыскал отца и предложил ему быть посредником. Тогда вдруг разрешили переводить безналичку в живые деньги – и все как сумасшедшие бросились накупать первым делом компьютеры. Отцу звонили со всей страны, и я, засыпая, слышала эти телефонные разговоры, состоявшие в основном из двух слов «нал – безнал». За год инженер, хмуро заглядывающий в кошелек, превратился в другого человека – богатого, веселого, щедрого. Он много лет мечтал о подержанном «Запорожце» и вдруг приехал домой на черной «Волге» с шофером. Потом он принес тюк с тремя дубленками – мне, маме и себе. У нас никогда до этого не было дубленок. Дальше – в нашей двухкомнатной квартире начался ремонт. Настилался паркет, клеились необыкновенные финские обои, а новые ванна, раковина и унитаз оказались одного цвета – нежно-салатового. Однажды он притащил домой целый чемодан денег, и они с мамой всю ночь их пересчитывали. Уже началась инфляция, но все равно это была очень большая сумма. В другой раз мы услышали шум и крики на лестничной площадке, открыли дверь и увидели отца, окровавленного и в разодранном костюме. «Конкурирующая фирма! – успокоил он. – Не волнуйтесь!» – «Я звоню в милицию! – объявила мама. – Как это – не волнуйтесь?» – «Ни в коем случае! Сами разберемся…»
Вскоре у него появились телохранители – Миша и Сергей. Сергея потом убили, когда обстреляли папину машину на Минском шоссе. Он тогда уже был заместителем у Кивилиди. Об этом много писали…
– Я, кажется, читал, – кивнул Башмаков.
– Это были настоящие телохранители, огромные парни с пистолетами под мышками. Но он называл их «папкохранителями», потому что тогда по закону человек имел право нанимать людей только для охраны денег и документов… Он даже смеялся и говорил: «Вы думаете, они меня охраняют? Нет, они охраняют мою папку с документами!» И я их тоже называла «папкохранителями». Потому что они охраняли моего папу…
Дома он теперь почти не бывал, даже ночевал в офисе. Он объяснял: «Первичное накопление. Сейчас каждая минута стоит миллион!» – «Зачем мне деньги, если у меня нет мужа?» – сердилась мама. «Как зачем? Купишь себе нового!»
Летом он отправил нас в Испанию, в Кадис. Мы жили в роскошном отеле прямо на берегу моря возле старинной крепости, и у нас было очень много денег. Хозяева магазинчиков словно чувствовали это и, увидев нас через витринное стекло, радостно выбегали навстречу, перегораживали нам дорогу и кричали заученной скороговоркой: «Русский-Горбачев-Перестройка-Спасибо-Пожалуйста-Хорошо-Заходить-Купить!» А ведь еще два года назад в Сочи мама каждый вечер в столбик подсчитывала расходы за день, чтобы не дай бог не выйти из сметы, и предупреждала: «Завтра не обедаем. Купим фрукты». – «А пиво?» – «Никакого пива». – «Есть, товарищ староста!»
Они учились на одном курсе. Мама была отличницей и старостой. А папа был веселым прогульщиком и всегда упрашивал ее не ставить ему в журнале пропуски. Он говорил, что женился на ней на четвертом курсе, потому что устал ее упрашивать… Мама очень педантичная. И тогда, в Испании, она все боялась потратить деньги, потому что кто-то ей сказал, будто в конце месяца будет грандиозная распродажа и цены упадут вдвое. Но цены не упали. В последний день мы как сумасшедшие метались по магазинам и скупали все, что попадалось на глаза, а потом, уже в Москве, разбирая чемоданы, недоумевали: зачем накупили столько совершенно ненужного барахла?
В Шереметьеве нас встретили «папкохранители». Я заподозрила недоброе, когда они, поставив чемоданы на пороге квартиры, заспешили к лифту. Мама хотела напоить их чаем, но они торопливо отказались. Когда мы вошли, стало ясно, что дома весь месяц никто не жил. Даже пахло не жильем, а паркетным лаком. Отец в этой квартире больше никогда не появлялся. Никогда. С мамой они объяснились где-то в офисе, она вернулась заплаканная и лежала два дня не вставая. Из ее полубредовых выкриков я поняла, что отец сошелся с какой-то телевизионщицей, которая брала у него интервью. «Она красивая?» – спросила я. «Красивая? У нее пластмассовые зубы и нос, как у вороны!»
Я не ходила в школу и кормила маму с ложечки, потому что у нее не было сил добрести даже до кухни. На третий день она вдруг вскочила и с нечеловеческой силой принялась рвать его рубашки. Потом вывалила на кровать все семейные фотографии и ножницами отрезала его изображения, а если он был в центре, то она просто изничтожала снимок. И на кровати выросла целая горка клочков, похожих на мокрый пепел. Они любили вместе фотографироваться. У нас не осталось ни одного их свадебного снимка…
Потом она вдруг объявила, что прямо сейчас отправится на улицу и найдет себе мужчину. Мужика. Прямо сейчас. Только вот приведет себя в порядок. Она села перед трюмо и сидела всю ночь – старательно красилась, а потом стирала макияж с такой яростью, словно хотела стереть свое лицо. Потом снова красилась… А я вышла на балкон, посмотрела вниз и впервые подумала о том, что если прыгнуть оттуда, то все сразу закончится – и мама больше не будет мучиться, потому что этих мучений я не увижу. Когда я вернулась, она вытряхивала из пузырька таблетки снотворного. Я еле отняла… Когда я сделала то же самое – никто у меня не отнял таблетки. Никто!
Вета замолчала, прижалась щекой к башмаковской груди и посмотрела на него так, будто именно он мог отнять у нее страшные таблетки, мог, но почему-то не отнял.
– Может быть, не надо больше рассказывать? – тихо спросил Башмаков.
– Надо, милый, надо! – грустно улыбнулась она. – …Мама ни с кем не хотела разговаривать. Уволилась с работы. Ей теперь это было не нужно: раз в две недели приезжал кто-то из «папкохранителей» и отдавал толстый конверт с долларами. Но потом моя классная руководительница, с которой мама отказывалась разговаривать, дозвонилась отцу в офис, чтобы выяснить, почему я не хожу на занятия. Он в ярости позвонил и сказал маме, что если она не возьмет себя в руки, то денег больше не получит. И тут с ней что-то случилось. Она обежала всех моих учителей, надарила им кучу подарков, стала встречать меня после занятий возле школы – было даже стыдно перед подругами. Тогда старшеклассникам как раз разрешили ходить в школу в любой одежде. И она накупала мне лучшие наряды. А летом отправила в языковую школу в Сассекс. Когда я вернулась, то поняла: у нее кто-то появился…
Через год мама вышла замуж за своего однокурсника. Оказывается, он всегда был в нее влюблен и сначала она встречалась с ним, а потом вдруг влюбилась в папу. Он тоже женился, но неудачно. Они столкнулись в магазине. И он просто сошел с ума, таскал ей огромные букеты, а меня закармливал, как девчонку, пирожными. Я уже ходила на подготовительные курсы. Однажды преподаватель заболел, я вернулась домой раньше времени и застала их в постели. Мать накинула халат, отвела меня на кухню и сообщила, что они с Виталием Григорьевичем решили пожениться. На следующий день она отправила бедного Виталия Григорьевича к отцу объясняться. Наверное, она хотела сделать отцу больно. Но папа обнял бывшего однокурсника, благословил и даже предложил ему хорошее место в своей фирме. Но мама не разрешила. У них теперь сын.
Сначала я жила с ними. Поступила в Плешку. Потом ушла к отцу. Он к тому времени разбежался с телевизионщицей и завел манекенщицу от Славы Зайцева. После второго курса я перевелась на заочный, и папа отправил меня на два года в Чикаго, в школу бизнеса. Школа дорогая, а в таких заведениях главное – не обидеть клиента, даже если он дебил. Но язык я выучила. Там мне очень нравился один преподаватель, Джонатан Граф. Ему было тридцать восемь лет, и с ним я училась играть в теннис. Но он всем девушкам смотрел только в глаза. Там жуткие нравы! Одна студентка пожаловалась, будто профессор, когда она идет от доски к столу, всегда смотрит на ее попку. Подруги подтвердили. И профессора уволили…
– Что же тогда сделали бы со мной? – вздохнул Башмаков.
– Четвертовали… – Вета четырежды дотронулась до него губами. – …Когда я вернулась, жила у отца на Рублевке. Потом он мне купил эту квартиру и устроил в «Лось-банк». Полгода я оформляла в бэк-офисе сделки, а потом пошла к нему и сказала, что хочу работать в дилинге! Папа поговорил с Юнаковым, и тот разрешил. И у меня сразу стало получаться. Я сделала несколько удачных покупок. Отец все время справлялся, как у меня идут дела. Меня хвалили. У него уже был сын от телевизионщицы, и манекенщица тоже ждала ребенка. Казалось, она проглотила арбуз. И мне вдруг захотелось доказать ему, что я не просто его старшая дочь от первого брака. Нет, я – лучшая. Первая! Было Восьмое марта, и я все утро ждала от него звонка с поздравлениями. Я ждала, а он не звонил. Тогда меня вдруг подхватил какой-то вихрь и понес, помнишь, как девочку в Страну Оз… И никто меня не остановил. Никто, никто, никто…
– Ты мне это уже рассказывала, – тихо сказал Башмаков и поцеловал Вету в плечо.
– Да, наверное…
Она взяла с тумбочки таблетки, но, справившись с собой, отшвырнула упаковку прочь.
– Закогти меня!
Дома, раздевшись, Башмаков обнаружил в кейсе орхидею и, чувствуя себя гением конспирации, протянул Кате.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.