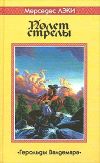Текст книги "Остров пропавших девушек"

Автор книги: Алекс Марвуд
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
43
Робин
Она лежит, пытаясь собрать последние силы, чтобы выйти на эти раскаленные зноем, заполненные толпами улицы и начать все сначала, но вдруг слышит, как по лестнице шагают сразу несколько человек. В дверь стучат.
Она садится на кровати.
– Sinjora? К вам пришли. – Голос госпожи Эрнандес.
В груди гулко ухает сердце. «Мне хотят что-то сообщить. Неужели ее нашли? Неужели пришли мне об этом сказать? Неужели все позади? Джемма».
– Одну секунду! – отзывается она, натягивает поверх хлопковой ночнушки джинсы с кардиганом и открывает дверь.
Сеньора Эрнандес смотрит на нее с таким злобным видом, будто Робин нагадила ей в раковину. Справа от нее маячит xandarm в мундире, отказавший ей на днях в помощи, слева – отдуваясь и потея после подъема по крутой лестнице – начальник полиции.
«Моя дочь мертва», – думает она, чувствуя, как подгибаются колени.
Воцарившуюся тишину нарушает начальник полиции.
– На минутку, sinjora, – говорит он и входит в комнату, не спросив ее разрешения.
Пока они проходят, Робин хватается за дверь, чтобы не упасть. Волна головокружения от их появления отступает медленно, не поспевая за реальностью. «У меня проблемы», – думает Робин и, не понимая, захлопнуть дверь или нет, оставляет ее открытой. Мясистые бедра начальника полиции опускаются на матрац. Жандарм в мундире подходит к окну, выглядывает на улицу, открывает гардероб и начинает методично рыться в ее вещах.
– Эй, погодите-ка, что вы…
Начальник полиции поднимает руку, призывая ее замолчать. Сеньора Эрнандес складывает на груди руки и наблюдает за происходящим, сжав в тонкую линию губы.
– Миссис Хэнсон, – говорит Главный Коп, – думаю, нам надо прояснить, в каком положении вы оказались.
У Робин внутри все леденеет. Она молча ждет продолжения.
– Прошлой ночью, – говорит он, – вы были в «Темпл», так? В ночном клубе?
Робин согласно кивает.
– Да, я…
– С нами связался представитель нашего duqa, – перебивает ее страж порядка. – Он очень зол. Герцог не ожидает, что… – Полицейский несколько мгновений тщательно подбирает нужные слова и продолжает: – …что к нему будут приставать в его собственных владениях. Или что кто-то будет уродовать туалеты.
– Я… – начинает она, но он опять поднимает руку.
– Sinjora, вам надо понять – вы сейчас не в своей родной стране.
«Это заметно. Вы даже не догадываетесь, до какой степени».
– Наш duqa – человек очень и очень важный, – продолжает он.
– Я знаю! И только поэтому…
Снова поднятая рука.
Коп в мундире обнаруживает предмет своих поисков – достает из ящичка оставшиеся у нее флаеры и машет ими, показывая боссу.
– Moy bjen! – восклицает тот и что-то тараторит на кастелланском наречии.
Подчиненный с торжественным видом слушает его и начинает их рвать.
– Эй!
В ответ ей рокочет утробный рык:
– Sinjora!!!
Робин подпрыгивает, напрягается.
Начальник полиции с натугой поднимается на ноги и подходит к ней так близко, что чуть не касается носом. Граппа, сигары, чеснок. Из-за нее ему пришлось прервать ужин.
– К нам поступил целый ряд жалоб по поводу мусора! – орет он. – Эти вот бумажки, они… буквально повсюду… висят где только можно! Вы спрашивали разрешения так варварски уродовать наш город, а? Кто вам позволил это делать?
Она отступает на шаг назад. Он больше не напирает. «Альберт, – думает она, – его зовут Космо Альберт. Смешное имя для такого напыщенного коротышки».
– Никто… – отвечает она.
– Alora! Bjen!
– Простите… – говорит она.
Он досадливо фыркает и говорит:
– Поздно извиняться. Если бы речь шла только о мусоре и вашей невоспитанности, это было бы одно… но дело ведь не только в этом, правда? Ваш вчерашний поступок привел нашего duqa в ярость. Вы, sinjora, не имеете права врываться подобным образом в жизнь совершенно незнакомых людей. К нам приезжают за тишиной и покоем, надеясь на неприкосновенность личного пространства. Немыслимо, что в его же собственных владениях на него можно вот так вот… напасть.
– Напасть? – с дрожью в голосе переспрашивает она.
– Можете считать это фигурой речи, sinjora.
– Окей…
Опять рука.
– Если в точности передать его слова, он считает так: раз уж вы способны на такое, то нет никакой гарантии, что это не повторится впредь.
– Обещаю вам! – восклицает Робин. – Я напишу ему. Сегодня же. Напишу и извинюсь.
– Слишком поздно, – с ухмылкой паяца отвечает он и добавляет: – Сорри-и!
44
Остров
Лето 1986 года
От нас все отвернутся. Разве ты не видишь? Уже отворачиваются. И теперь будут весь год нас избегать. Но мне наплевать. Наплевать, и все…
Они стоят на коленях у подножия лестницы. Люди переступают через ноги ее сестры, будто через корабельные обломки на пляже. Все отворачиваются, подбирают юбки, чтобы случайно ее не задеть. Ларисса с Мерседес не поднимают глаз. Отгораживаются от презрения соседей. Видят только их красавицу Донателлу. Сломленную.
– Боже, боже. Господи. Ой, горе. Ох, моя девочка, моя девочка, – стонет Ларисса.
Донателла лежит неподвижно, свернувшись калачиком. Вместе со слезами в ее раны затекают кровь и грязь.
Площадь постепенно пустеет. Колокол больше не звонит. Когда с грохотом захлопывается величественная сводчатая дверь, они остаются одни. Мерседес одергивает грязный белый подол Донателлы, чтобы прикрыть бедра. И тыльной стороной ладони вытирает собственные слезы.
«Ненавижу их! – прокручивает она в голове одну и ту же мысль. – Ненавижу!» Но кого именно – не знает, потому как их слишком много.
* * *
Откуда-то сверху доносится звук: кто-то приоткрыл дверь. Буквально самую малость, но все же достаточно, чтобы до них донесся тягучий голос святого отца и отвечающие ему робкие рыдания. Потом все опять стихает, створку притворяют, и ухо может уловить лишь радостные крики, доносящиеся с festa на рыночной площади. Потом слышатся шаги.
Мерседес поднимает глаза. Осторожно, чтобы не поскользнуться на крови в своих праздничных туфлях, к ним спускается Паулина Марино, подходит ближе, тоже встает рядом на колени и говорит:
– Простите меня, я сама не знаю, о чем думала.
Из глаз Лариссы брызжут слезы. Из груди рвется пронзительный, не знающий преград вой. Донателла открывает опухшие глаза и молча смотрит на убивающуюся мать. Нос у нее сломан, а превратившееся в сплошной черный синяк запястье все больше и больше раздувается на июльском солнце.
Дождавшись, когда Ларисса перестанет выть, они поднимают девушку – крестницу, дочь и сестру – и не столько ведут, сколько несут домой по улицам, которые никогда, ничего и никому не прощают.
45
Ларисса остается наверху, чтобы промыть дочери раны, и спустится только после того, как ребенок уснет. Но даже тогда не обмолвится ни словом ни с мужем-эгоистом, ни с женщинами, которые сначала отправляются на мессу, чтобы не рисковать, а потом уже заявляются к ним.
Донателла лежит на боку и смотрит перед собой безжизненным взглядом. Она никак не реагирует, когда Ларисса промакивает ее порезы и синяки смоченной в соленой воде тряпкой, а потом прикладывает к ним срезанные на кладбище листья алоэ. Не реагирует на прикосновение материнских пальцев, когда та выпрямляет ей руки и ноги, чтобы стереть с них фланелькой грязь.
А на улице для всех продолжается festa, будто мир остался таким же, как раньше.
Пока мать делает все, что в ее силах, Мерседес стоит у окна, смотрит и ненавидит. Ей хорошо видна палуба «Принцессы Татьяны». На столе стоит ужин, в том числе большой запотевший завернутый в ткань кувшин чего-то холодного. Рядом на боку лежит разбитый бокал.
Мэтью с Татьяной стоят у планшира, наблюдая за той же самой сценой, только с другой стороны. Смеются и болтают с видом зрителей, явившихся поглазеть на петушиные бои. «Это были вы, – думает она. – Я знаю, что вы».
Донателла лежит на боку, которому не так сильно досталось, и глазеет в пустоту. Ночью, когда все окутывает мрак, Мерседес забирается к ней в постель, обнимает и вдыхает скорбный аромат ее отчаяния.
Наступает август, вместе с ним стихают ветра. На рейде стоят без движения парусники, а пассажиры яхт греются на солнышке в шезлонгах на верхних палубах. Синяки Донателлы из пурпурных становятся коричневыми, затем желтыми, а потом и вовсе сходят на нет. Порезы на коже затягиваются и уступают место шрамам. Запястье, туго перевязанное Лариссой в тот вечер, когда дочь принесли домой, было не сломано. К счастью, лишь серьезное растяжение. Что же до носа, то опухоль с него тоже сошла, и, если не знать предысторию, при взгляде на Донателлу можно решить, что в ее жилах течет финикийская кровь.
Но что-то сломалось у нее внутри. Она больше не поет в доме и не поддразнивает Мерседес. От ее лучезарной улыбки не осталось и следа. Обслуживать клиентов ресторана ей, разумеется, запрещено. Отец даже дома не смотрит ей в глаза. Она лишь сидит на жестком стуле в sala, смотрит, как мимо проходит жизнь, и не произносит ни слова.
Но через две недели после Дня святого Иакова встает, накидывает на спутанные волосы шаль и с высоко поднятой головой выходит на улицу, готовая бросить вызов миру.
46
Пятница
Джемма
Сара ликующе машет в воздухе выигрышем, развернув его веером, затем размашистым движением прячет купюры в декольте и уходит на кухню. Пополоскать рот и наверняка втянуть носом еще одну дорожку.
– Кое-кто очень собой доволен, – говорит принц.
– Можно сказать – на седьмом члене от счастья, – отвечает гость, присоединившийся к ним совсем недавно, и они хохочут.
«Мы для них просто не существуем, – размышляет Джемма. – Только как аксессуары для получения удовольствия. И от резиновых кукол нас отличает только то, что богатые могут себе нас позволить».
Оказывается, ей трудно держать прямо спину. Руки сами собой тянутся закрыть тело, будто живут собственной жизнью, и, чтобы их расслабленно опустить, ей приходится приложить волевое усилие. Стоя перед ними и без конца расточая улыбки, она чувствует, как сила тяжести наваливается на плечи и давит на позвоночник, стараясь пригнуть ее к земле.
«Я думала, что буду чувствовать себя иначе, – думает она. – На деле я в таком же рабстве, и Сара больше не кажется такой великолепной. Каждые двадцать минут упархивает за новой дорожкой. Да и ее улыбку так даже называть не хочется. Оскал черепа на натюрморте».
Она опять чувствует, что сутулится, и заставляет себя отвести назад плечи. «Хочу домой. Хотя теперь у меня больше нет дома, куда можно было бы пойти. Я не знаю, что делать. И не знаю, как выпутаться из всей этой истории».
Мэтью Мид пододвигает обратно стул и провозглашает:
– Ну что, джентльмены? Я так думаю, еще немного бренди, по сигаре и перейдем к финальному кастингу?
Кастингу?
Мэтью с трудом поднимается на ноги и берет трость.
– Прошу за мной.
– И да начнется игра, – отвечает на это Брюс Фэншоу, и они опять оглушительно ржут.
«Вот черт… – думает она. – Я так и знала, что этим дело не ограничится. Нас четверо, их десять, так что пахать придется всю ночь».
Она вымотана до предела. «Отпустите меня домой, – вертится в голове мысль. – Сколько денег ни предлагайте, оно все равно того не стоит. Просто отпустите домой, и все. Должен быть какой-то другой путь…»
Мужчины идут по коридору, который отходит от лестницы, и Джемма слышит громкий скрежет, будто где-то отворилась тяжелая дверь.
– Ничего себе! – удивленно восклицает чей-то голос.
– Это что-то! – вторит ему принц. – Никогда бы не заподозрил, что здесь есть еще одна комната.
– Дорогой мой… – доносятся до нее слова Татьяны. За какие-то сутки «ваше королевское высочество» в ее исполнении сменилось обращением «дорогой мой». – …о ней даже архитектор едва знал.
– Очень в духе семейства Онассис[26]26
Семья греческих миллиардеров.
[Закрыть], – говорит кто-то другой.
– Да, мы хотели передать атмосферу семидесятых годов, – отвечает она.
– Славные были деньки, – слышится еще чей-то голос.
– Не то слово.
– И не говори, – присоединяется к ним новый голос. – Подобных возможностей нам еще ждать и ждать.
– Как сказать, – возражает ему Мэтью Мид, – глобальное потепление предоставляет огромные возможности, пока весь этот цирк вокруг климата не уляжется…
Цок-цок-цок – стучат по холлу к девочкам каблучки Татьяны. Она что-то несет в руках. На запястье у нее тоже какие-то штуковины.
– Надевайте, – приказывает она, но уже не голосом работодательницы, как раньше.
Теперь это императрица с холодными интонациями рабовладелицы.
Она принесла с собой маски для глаз. Плюс небольшие резиновые браслетики вроде тех, по которым пускают в клуб, каждый своего цвета: красный, зеленый, желтый, синий. Выбирать им она не дает. Джемме протягивает зеленый, та берет его и послушно надевает на руку.
– А теперь вот это, – продолжает Татьяна, доставая пучок кабельных стяжек.
Она понимает, что это для того, чтобы связать запястья.
– Помогите друг другу. Да затяните потуже.
У Джеммы все сжимается внутри. «Не хочу. Я не хочу».
Но они все равно стоят все вместе, сверкая белками глаз, и тянут за концы стяжек до тех пор, пока пластик не врезается в кожу.
И ждут.
47
Мерседес
– Но, kerida, почему именно ты?
– Потому что больше некому, – отвечает она. – И ты, мама, это прекрасно знаешь.
Для нее это сродни ужину перед казнью. На большой тарелке собраны ее самые любимые в жизни блюда: крохотные сырки из молока коз с горного выпаса; превосходное прошутто; маринованные сердечки артишоков, жаренные на гриле в масле; оливки с чесночным соусом и латук гриль. Небольшая тарелка анчоусов. Миска помидоров из их собственного сада – порезанных, приправленных цедрой и соком апельсина, опять же с их собственного дерева. Сегодня они едят, как тысячи лет ели их предки.
Беда лишь в том, что ни у кого особо нет аппетита.
– Новый Капри… – говорит Ларисса. – Думаешь, он именно это и задумывал?
– Вполне вероятно, – отвечает Феликс, – история знает великое множество аристократов, свернувших на кривую дорожку. А тут целая страна, с которой можно делать все, что хочешь.
Ларисса теребит кусочек хлеба. Вертит в пальцах до тех пор, пока он не превращается обратно в тесто. Она посерела от тревоги, на лбу резко обозначились морщины.
– Этот человек. Когда его сюда принесло, все пошло наперекосяк.
Мерседес не может наверняка сказать, о ком идет речь: о герцоге или о Мэтью Миде.
– Все стало совсем плохо после смерти старого герцога, и сюда приехал он, – продолжает она. – Он же вырос не здесь, понимаете? И поэтому не привязан к этой земле. А потом еще притащил сюда всю эту публику и окончательно все испортил.
«При жизни старого герцога тоже жилось несладко, – думает Мерседес. – Ностальгия заставляет тебя забыть. Европола тогда здесь тоже не было. Если тебя считали источником проблем, ты просто исчезал, а остальные делали вид, будто тебя вовсе никогда не существовало».
– Может, он ничего не знает? – говорит Ларисса. – Скажите мне, может, он не в курсе?
«Четверо девушек, а затем только трое. Нет, мама, слов, которые тебя бы утешили, у меня нет».
– Не знаю, – врет она.
Так много лжи за много лет.
– Мы не можем позволить ему и дальше закрывать глаза.
– Но почему ты?
– Потому что, кроме меня, больше некому, – отвечает она. – Я не могу позволить и дальше продолжать им в том же духе. Все эти девочки… Ты лучше о них подумай.
Между ними стоит призрак сестры. Жертва Ла Кастелланы, герцога и в определенном смысле Мидов – как и другие.
– К тому же, мама, – добавляет она, – если у меня все получится, я буду свободна. В тюрьме контракты не действуют. Они исчезнут, а я обрету свободу.
– Я должен пойти с тобой, – говорит Феликс, – мне ненавистна даже мысль о том, что тебе придется заняться этим одной.
Она качает головой.
– Ничего не выйдет. Пауло даже на пушечный выстрел не подпустит тебя к той комнате. Я единственная, кого он не заподозрит. Стоит мне представить это как случайность, обычный бытовой кризис, как он обязательно меня туда впустит.
– Ну хорошо, допустим, ты действительно туда пройдешь. А дальше-то что? Думаешь, он будет молча смотреть, как ты будешь там у них копаться?
– Да ладно тебе, – отвечает она, – его отвлечь – раз плюнуть. К тому же хоть он и отличный парень, но ему даже в голову не придет, что кто-то вроде меня может создать ему проблемы. Достаточно будет сказать, что на кухне осталась выпечка, а уборка займет несколько часов, и времени у меня будет хоть отбавляй. К тому же мне прекрасно известно, где там и что. В ящичках хранится тысяча DVD-дисков. Он переформатировал старые видео, когда технологии обновились и они перешли на плоские экраны. Там все. Мне понадобится буквально пара минут, чтобы разобраться, что к чему, и сунуть несколько штук в карман передника.
– Он хранит все записи на DVD?
– О да, – отвечает она. – Конечно. Представь себе, что у тебя взломали облачное хранилище и выложили все в свободный доступ. По этой же причине все свои тайны они хранят в банковских сейфах.
– А, – кивает Феликс.
– В интернете данные теперь держат только те, у кого нет ровным счетом ничего ценного. Она мне однажды так и сказала.
Мерседес разрывает пальцами инжир, заворачивает его в листочек прошутто и кладет в рот. Этот ужин может оказаться для нее последним в кругу семьи. Не исключено, что завтра она уйдет и больше уже никогда не вернется.
– Вся ирония в том, – говорит она, – что во всем доме только в этой комнате нет камер.
48
Остров
Лето 1986 года
Задним умом все крепки. А в тринадцать лет сложно догадаться, что человек, прощаясь с тобой, прощается с жизнью.
* * *
– Мерседес?
Она почти заснула, так что едва ее слышит.
– Мерседес?
Девочка поворачивается на другой бок, вглядывается во мрак и видит сестру, которая сидит в белой ночной рубашке, упираясь подбородком в колени.
– Чего?
– Я должна тебе кое-что сказать.
– Ну говори.
– Сначала пообещай, что никому не проболтаешься.
– Да о чем?
– Нет, сначала пообещай.
Сонная, она садится, подбив под себя подушки.
– Ладно, обещаю. Что ты хотела мне сказать?
– Я так больше не могу, – отвечает Донателла.
В полумраке на ее лице залегли тени, от чего она стала похожа на призрак.
– Донита, – говорит она, – так не будет продолжаться вечно. Это пройдет. Рано или поздно все проходит.
– Но только не это, – возражает Донателла. – Ты не хуже меня знаешь. Я теперь меченая на всю жизнь. И делать мне здесь нечего.
– У тебя есть я, kerida. Тебе это прекрасно известно. Я всегда буду рядом с тобой. Я и мама.
Отца она не упоминает. Как и сестра, она знает, что он в жизни никого не поддержит.
Донателла устало поднимает руку и трет лицо.
– Прости, – говорит она, – я должна уйти.
Мерседес подпрыгивает на месте.
– Нет! Нет, Донита, умоляю тебя, не надо!
– Мерса, – говорит Донателла, – пойми, у меня просто нет выбора. Все кончено. Теперь у меня больше нет будущего.
Из глаз Мерседес льются слезы.
– И что я буду без тебя делать, Донита? – спрашивает она. – Что, а?
Этот огромный, холодный, пустой мир. Она представляет, как ее прекрасная сестра сходит с парома на совершенно незнакомый ей берег. Ее никто не знает. Ее никто не любит, и так навсегда. «Я не могу… – думает она. – Это невыносимо. Они нас уничтожили».
– Я не смогу здесь без тебя жить, – говорит она, – что мне тогда делать?
Донателла встает, забирается к ней в кровать.
– Ты моя храбрая сестренка. В конце концов у тебя все будет хорошо. Сначала немного погрустишь, но потом забудешь про меня. Поверь. Я исчезну, но обещаю тебе, что жизнь на этом не закончится и в один прекрасный день ты обязательно будешь счастлива.
– Нет, не буду. Ничего этого не будет. Это невозможно, если тебя не будет здесь.
Донателла молчит и лишь прижимает ее к себе, давая успокоиться.
– Я буду по тебе скучать. Всегда буду по тебе скучать. Ты была замечательной сестренкой, Мерса. Лучшей на всем белом свете. Возможно, в один прекрасный день мы с тобой еще увидимся. Но я должна уйти. Ты и сама знаешь. У меня нет другого выхода.
49
На острове с населением меньше тысячи человек даже похороны превращаются в праздник. На похороны Донателлы собралась вся Кастеллана. Ничто так не побуждает надеть лучшее черное платье, как смерть юной прекрасной девушки. Даже если это самоубийство. Даже если еще неделю назад вы сделали из нее изгоя за ее грехи.
Вначале они выступают небольшой процессией. Серджио с Лариссой, Гектор и Паулина, Феликс и Мерседес. Рыбаки, выловившие Донателлу из воды, ждут у своих лодок на почтительном расстоянии, прижимая к груди шляпы, потом идут следом.
– Ты точно не хочешь надеть вуаль? – спрашивает Паулина.
Ларисса идет вперед с высоко поднятой головой, слезы на ее бледном лице давно высохли. За ночь с ней произошла разительная перемена – еще вчера она, полуживая, не вставала с постели, лицом к стене, существо, сотворенное из слез. Сегодня же она зла.
– Нет, – отрезает она. – Я хочу, чтобы они видели мое лицо. Пусть смотрят, все до единого. Пусть знают, что они натворили. И пусть видят, что мне совсем не стыдно.
Ларисса шагает во главе траурного шествия к церкви. Глядя на нее, Мерседес чувствует в душе неуместный порыв гордости и думает: «Какая же она сильная. Им ее не сломать». Отец ловит на себе взгляды друзей, кивает им и вяло улыбается, но мать – совсем другое дело. Теперь она ненавидит своих соседей.
«Вы убили ее! – думает Мерседес, глядя по сторонам. – Все вы, плачущие женщины. Плачете, потому как знаете, что убили мою сестру. Где вы были раньше? Где? Мы видели, как вы переходили дорогу, чтобы не столкнуться с нами. Как судачили за нашими спинами. Как избегали ее. Мы все это видели. И что проку теперь в ваших слезах? Вы подтолкнули ее к самоубийству.
А я могла бы ее спасти. Никому ничего не сказала, потому что она меня об этом просила, и вот теперь ее больше нет, а я уже никогда не буду такой, как прежде».
«Ненавижу вас», – думает она, глядя, как к похоронной процессии присоединяется Беата Винчи. А когда ей сочувственно улыбается Химена Вигонье, отвечает ей хмурым, недобрым взглядом. В голову приходит мысль: «Я видела тебя. Когда Донателла ползла по мостовой. Я видела, как ты отвернулась. Я знаю, кто убил ее, – так же точно, как и то, что она мертва. Каждая из вас в этом виновата».
От мыслей о Донателле ей хочется завыть в голос. Чувство вины будет теперь преследовать ее всю жизнь. «Я должна была понять. Рассказать другим. Любыми средствами остановить ее. Я тоже ее убила. Я виновата так же, как и они».
Когда они доходят до Калле Иглесиа, Ларисса оборачивается, оглядывает толпу, и Мерседес видит, что в ее голове бродят те же мысли.
– Ларисса… – говорит Серджио и пытается взять ее за руку, но она отмахивается от его ладони, будто от назойливого насекомого.
Отворачивается и идет впереди всех в церковь.
– Ты в порядке? – спрашивает Феликс, но совсем тихо, чтобы никто из окружающих их не услышал.
Мерседес кивает, глотая слезы. «Я уже никогда не буду в порядке», – думает она, но все равно радуется его заботе.
«Так было всегда, – приходит ей в голову мысль. – Может, не так заметно на фоне шумной суматохи открытого ресторана, но сейчас от этого уже никуда не деться. Донателла отвлекала меня, чтобы я всегда смотрела в другую сторону, но теперь я знаю, что мои родители ненавидят друг друга».
Из-под влажных ресниц она украдкой смотрит на Феликса и думает, что он тоже сейчас не в порядке. Он ведь тоже видел Донателлу там, под водой. И выходил с другими лодками, чтобы доставить ее на берег.
– Не представляю, что делать, – шепчет она, ни к кому не обращаясь, хотя чувствует, что он ее слышит.
– Мы с тобой, Ларисса, – говорит Паулина, – все до единого.
Та вскидывает голову и громко отвечает:
– Лучше бы вы были с моей дочерью.
По толпе ползет неловкий шепот. Мерседес свирепо оглядывает окружающих. «А ведь вы знаете. Знаете, что это правда. Надеюсь, вам теперь до конца жизни будет стыдно».
Выйдя на Пласа Иглесиа, Ларисса видит, что их ожидает. Она останавливается как вкопанная, плечи напряжены.
– Нет! – Она расправляет плечи, с шумом втягивает воздух, бросается вперед и кричит: – Нет!!!
Они выстроились, чтобы их встретить. В дверном проеме бок о бок стоят священник и герцог. А по обе стороны от них по ступеням встали solteronas в своих бездушных белых одеждах. Непорочные цепные собаки, которых герцог приручил, дабы держать в страхе свои владения.
– Ларисса! – взвивается Серджио.
Когда жена рвется к церкви, ему приходится бежать за ней.
– Нет! – грохочет она. – Нет! Я не хочу их здесь видеть! Только не их!
С этими словами Ларисса разрубает рукой воздух, будто разгоняя птиц с пшеничного поля.
– Ларисса, прошу тебя! – кричит Серджио, опять пытаясь схватить жену за руку.
Но ярость придала ей нечеловеческие силы, и Ларисса отшвыривает его, будто бумажную фигурку.
У solteronas вытягиваются лица, они смотрят, широко разинув рты.
– Вон! – орет Ларисса. – Убирайтесь отсюда! Вон!
Они смущенно переминаются с ноги на ногу, как стадо скота, готового в панике броситься прочь, но смотрят на герцога в ожидании его приказания. Тот бездействует. «Как всегда, – думает Мерседес. – Как всегда».
Ларисса взлетает по лестнице. Молотом обрушивается на ближайшую к ней solterona, хватает ее за руку и отталкивает. Та с криком катится вниз по ступеням. Толпа трусливо отшатывается назад.
– Убирайтесь! Проваливайте! Пошли вон!
Как торнадо она врезается в их ряды. На каменные ступени летит одно тело, затем другое, еще и еще. Они с глухими ударами валятся на землю, слышен хруст костей. Одна из них силится подняться на ноги. У нее из носа идет кровь, оставляя на накрахмаленном белом корсаже алые пятна.
Увидев на их лицах страх, Мерседес приходит в восторг. «Ох, мама, мама. Ты великолепна».
Добравшись до Мадилены Харуй, Ларисса хватает ее обеими руками. Той, должно быть, лет семьдесят, если не больше. «Да и плевать! – думает Мерседес. – Чем они старше, тем дольше нас изводят». Подтащив старуху к верхней ступеньке лестницы, мать изо всех сил толкает ее в спину. Та спотыкается, соскальзывает на пару ступенек вниз, угрожающе кренится, широко разинув рот, но все же ей удается устоять на ногах.
– Ларисса! Прекрати! Остановись! Что ты делаешь? – блеет отец Мерседес, видя, что жена опять повернулась лицом к врагам.
Герцог лишь наблюдает, не вмешиваясь в происходящее. Кровь отхлынула от его лица, но других признаков волнения он не выказывает.
От толпы отделяются полдюжины мужиков и бросаются на ее мать. «Опять мужчины! – думает Мерседес. – Опять они! Нам от них в жизни не избавиться».
Ларисса брыкается, размахивает руками и изрыгает свою ярость. Они оттаскивают ее назад, но она все равно умудряется наградить увесистыми пинками пару трясущихся от страха женщин, ставших для нее мишенями.
– Пустите меня! – орет меня. – Пустите!
Ее стаскивают по ступеням на площадь и держат среди лежащих на земле тел, чтобы не дергалась. Судорожно хватая ртом воздух, она обрушивает на собравшихся свое презрение.
– Вы! – орет она. – Вонючие… убийцы! Убили мою дочь, а теперь приперлись на ее похороны? Проваливайте! Убирайтесь отсюда! Я не хочу вас здесь видеть! – Потом могучим усилием вырывается из рук тех, кто ее держит, поворачивается к толпе и вопит: – Пошли вон отсюда все! Вы слышите меня? Это вы все ее убили. Лицемеры! Долбаные вонючие лицемеры! Все до последнего! Я не хочу вас здесь видеть!
Грудь у нее вздымается. Мужчины отступают, проникшись к ней внезапным уважением.
«Они знают, – думает Мерседес, – знают, что она права».
А Серджио мучительно заламывает руки и ничего больше не делает.
Когда Ларисса заговаривает снова, ее голос более спокойный. Но от того не менее уверенный. Она глядит по сторонам, а соседи отводят глаза.
– Теперь гордитесь собой? – спрашивает она. – Гордитесь, что довели до самоубийства шестнадцатилетнюю девчонку?
Все хором ахают. По толпе ползет шепот.
Ларисса поворачивается обратно к церкви и смотрит на герцога. Потом поднимает руку и тычет в него пальцем, чтобы он не тешил себя иллюзиями, будто она обращается к кому-то еще:
– А вы? Вы ничем не лучше их. И давным-давно могли бы положить всему этому конец. Но нет. Вам это нравится, ведь так? Вышагивать во главе процессии, пока ведете нас на убой. Еще притащили сюда этих чванливых богачей с яхт. Вы сам один из них! По уши погрязли в коррупции. Вы такой же, как они! – Она плюет себе под ноги. – Вы ведь должны быть благородным. А посмотрите на себя. Убийца! Как и ваши друзья! Ручки свои вы, может, и не замарали, но убили ее точно так же, как и они.
Сквозь толпу протискивается Паулина Марино, встает рядом с ней, складывает на груди руки, поворачивается к остальным женщинам и говорит:
– Это были наши сестры. Наши дочери.
– Паулина! – кричит ей Гектор.
– Нет! – гневно возражает она. – Этому надо положить конец. – Потом поворачивается к церкви и кричит: – Уходите! Вон отсюда!
Беата Винчи выступает вперед, подходит к ним, становится рядом, сжимает руку в кулак и грозит угнетателям. Потом Химена Вигонье сжимает плечо Мерседес, улыбается улыбкой такой доброй, что у девочки чуть не разрывается сердце, и тоже присоединяется к ним.
Другие женщины, одна за другой, тоже обретают голоса, протискиваются вперед, не обращая внимания на своих мужчин, встают у подножия лестницы и кричат:
– Уходите!
Неизвестно откуда взявшийся камень задевает щеку одной из их мучительниц, и Мерседес понимает, что с этой минуты их жизнь изменилась навсегда.
Герцогу хватает приличия, чтобы устыдиться, хотя бы на секунду. Но уже в следующее мгновение святой отец берет его под руку и ведет за собой к резной двери храма. А горстка мужчин – тех, кто понимает, с какой стороны на хлеб мажут масло, включая Космо Альберта, нотариуса Бочелли и, к неизбывному стыду Мерседес, ее собственного отца, – взбегают по ступенькам и смыкают строй, чтобы защитить герцога от толпы.
Кто-то берет ее за руку. Она смотрит вниз, затем поднимает глаза и видит, что это Феликс Марино. Он молча стоит рядом с ней, пока дверь церкви с грохотом затворяется, женщины кричат, а Мерседес горюет по сестре.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.