Текст книги "За чертой"
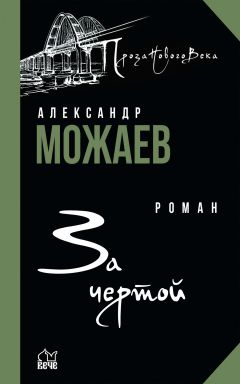
Автор книги: Александр Можаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Вдруг вверху треснули сучья – по размытому склону покатились вниз мелкие камушки. Атаман поднял лицо и вскоре заметил: по белому оголённому склону, осклизаясь и падая, двигался к нему пьяной походкой человек в разодранной одежде. Одна штанина была наполовину оторвана, наступая на неё, человек спотыкался с каждым шагом. Вдруг он замер и вскинул автомат.
– Кудияр?.. – окликнул Атаман.
– А-а… Атаман… Тебя ещё не убили?..
Спустившись вниз, Кудияр обнял Атамана. На белых усах его подрагивали грязные капли, – не то пот, не то слёзы.
– Ещё жив… Жив… – бормотал он. – А я… У меня вчера таких ребят положили!.. Слышь, Атаман, таких боле не будет!..
Кудияр отёр лицо о грудь Атамана, наконец отстранился.
– Всё, нет блокпоста… – выдохнул он. – Не удержим Станицу… И Бате недолго здесь гулять… Сегодня ночью, все, кто помоложе, за Донец ушли, а я… Куда мне?..
– Давай переведу тебя в Россию, – предложил Атаман. – Здесь у меня тропы свои…
– А я и есть в России! – с вызовом сказал Кудияр. – Вот она, Россия! – притопнув ногой, закричал он. – Вот она, под ногами!..
– Не кричи, – крепко прижал его к себе Атаман. – Услышат…
– Пусть слышат!.. – упрямо хлопал разодранной штаниной Кудияр.
– Ладно… Кто ж с этим спорит… Конечно, Россия… – успокаивал Атаман. – Куда тебе здесь оставаться; давай через Деркул переведу…
Кудияр отстранился, некоторое время с удивлением рассматривал Атамана, наконец отрицательно мотнул головой.
– Как я уйду? А Людмилу кому оставлю?..
– Давай всех переведу. И Людмилу…
– Не-е-т, куда нам идтить?.. – успокаиваясь, рассудительно заговорил Кудияр. – Тут у нас всё своё – и дом, и хозяйство… А там?.. Приживалками к Серёге и Лёхе?..
«Значит, за Серёгу ещё не знают», – догадался Атаман и промолчал.
Отвернув от горы, Атаман углубился в лес. Задумавшись, он давно перестал замечать дорогу; ноги сами находили верный путь – где надо сворачивали, где надо переступали через валежник. Он понимал, что нужно почаще останавливаться, осматриваться, прислушиваться, как он всё время делает, когда за его плечами доверившиеся ему люди. Но людей он уже отправил с Батей, и упадок сил всё сильней и сильней давал о себе знать.
«Господи, как я устал!..» – взявшись за голову, думал он, продолжая идти.
– Стой! Стоять!.. – у самого виска прозвучал властный голос.
Он давно ждал этого оклика, и всё же, кажется, он застал врасплох. На мгновенье Атаман застыл на месте, но тут же стал медленно оборачиваться.
– Стоять, не оборачиваться!.. – нервно закричал второй голос. – Не оборачивайся – пристрелю!..
– А так бы не пристрелил? – обернувшись, с усмешкой спросил Атаман.
Это у него нервное. Когда он теряет самообладание – всегда всё делает с вызовом и вопреки здравому смыслу.
Два ствола смотрели ему прямо в лицо.
«Только двое», – осматриваясь, подумал он. – «Поблизости больше никого – двое…»
Про себя он тут же означил своих врагов понятными лишь ему самому именами. Так, высокого долговязого парня, который первым окликнул его, назвал Длинным, и второго, приземистого, широкого в плечах, обозначил Коротким.
– Атаман? – спросил Длинный.
Атаман не ответил.
– Ну и где твоё войско, Атаман? – с насмешкой спросил Короткий.
Атаман инстинктивно покосился туда, где только уехали с Батей вверенные ему люди, где остался на берегу старого русла дед Павло, где прошёл своими тропами растерзанный Кудияр… Все они на какое-то мгновенье ожили в его памяти, но он промолчал.
– Что, москалик, смерти боишься? – скривив губы, смеётся Длинный.
Атаман молча пожал плечами.
– Тебя спрашивают: смерти боишься?! – нервно ткнул его стволом в лоб Короткий.
– Не пробовал, не знаю…
– Сейчас спробуешь! Пошёл вперёд!..
– Нет, ребята, никуда я не пойду. Хотите, стреляйте здесь…
– Ещё как пойдёшь! На карачках сейчас ползти будешь!..
Крутнувшись на месте, Короткий ударил Атамана ногой в живот. Тот перегнулся от боли, сделал несколько шагов назад, но на ногах удержался.
«Нужно заставить его нервничать и идти на сближение…» – думает Атаман. В уме его уже выстраивается некая комбинация.
– Это и всё, на что ты способен? – скрывая боль, усмехается Атаман. – Ну-ка, махни ещё!..
Короткий злится, размашисто бьёт, но Атаман уже ждёт этот удар и легко уворачивается. Провалившись, Короткий, едва не упав в кусты, сам идёт на сближение, цепкой рукой хватает Атамана за воротник. Теперь автомат его в левой руке, и он больше мешает ему.
– Не дёргайся, от меня не вырвешься! – задыхаясь от злобы, рычит Короткий. – Знаешь, как меня кличут среди своих? Алабай! Хватка у меня мёртвая… Понял меня?. Ну, отвечай. Понял? Что перекосил рожу?
– Не люблю собак…
– Полюбишь… Берцы мне лизать будешь…
– Дурачок ты… – выводя соперника из себя, улыбается Атаман.
Сильный удар в голову потряс его, в глазах вспыхнуло пламя, колени его подогнулись. Это Длинный ударил прикладом. Атаман наверняка бы упал, но Короткий удержал его за ворот.
– Что ты делаешь?.. Ты же русский… – перебарывая боль, выдохнул он.
– Русский?! – запальчиво выкрикнул Длинный. – Мы славяне-арии, а вы грязный улус Орды. Так что не клейся в родственники…
«Боже, какая каша у них в голове… Славяне-арии… Это всё равно что чукчи-дорийцы, – подумал он. – Кто им вдолбил в голову эту хрень?..»
– Из-за таких, как ты, я стыжусь, что я русский… – запальчиво произнёс Короткий.
– Не стыдись, ты не русский… ты алабай… – наконец расправляя колени, сказал Атаман.
– Ну-ка, вперёд! – толкнул его в спину Длинный. – Пошёл!
– Нет, не пойду… – качнул головой Атаман. – Если сможете, тащите меня на себе. Если сможете…
Отойдя на несколько шагов, Длинный достал рацию, начал говорить с кем-то:
– Только что взяли Атамана. Да, тот самый… Пришлите подкрепление… Да нет, не хочет идти. Не переть же на себе этот центнер…
«Значит, минут пять-десять у меня есть. Длинный занят разговором, остался один Короткий… Такого момента больше не будет…» – размышлял Атаман. Исподлобья он взглянул на противника, тот по-прежнему держал его правой рукой за ворот, левая с автоматом была отведена в сторону, значит, задействовать её он не сможет. – «Сейчас… Если не сейчас, то всё… Лишь бы он не выронил автомат…» – промелькнуло в голове Атамана.
Атаман всем телом рванул назад, – воротник затрещал, но рука, держащая его, не ослабла, напротив, вцепилась ещё крепче. И тогда, неожиданно для своего противника, он в долю секунды сблизился с ним и успел вывернуть от себя автомат. Один за другим лязгнули одинокие выстрелы, и Длинный, прижав к груди рацию, стал медленно приседать. Скрючившись и повалившись на бок, он несколько раз дёрнулся всем телом, и в глазах его застыло удивление.
Яростно сопротивляясь, Короткий, не выпуская из руки автомат, пытался оторваться от Атамана. Тот же хорошо понимал: отпустить Короткого хотя бы на пару шагов – неминуемая смерть. Этот безмозглый «славянин-арий» расстреляет его в ту же секунду, а умирать Атаман не спешил. Так они и «плясали» на одном месте – один удерживал, другой из всех сил вырывался.
Атаман понимал: стоит ещё этому упрямому «Алабаю» продержаться какое-то время, и к нему подоспеет помощь, и тогда ему уже не спастись.
– Отдай автомат, и я тебя отпущу, – сказал Атаман.
– Скоро отпустишь… – хрипел Короткий. – Вон, уже едут наши…
Силы Атамана таяли, а соперник, казалось, был неутомим. Таща за собой Атамана, он с остервенелостью попавшего в капкан зверя метался из стороны в сторону. Наверняка он мог бы оказать и более достойное сопротивление, выпусти из левой руки автомат, но, видимо, он ещё надеялся им воспользоваться.
Где-то вдали послышался рёв приближающегося УАЗа. Короткий воспрянул духом и стал сопротивляться с удвоенным неистовством.
«Ещё каких-нибудь пару минут – и мне не уйти…» – понял Атаман.
Он закружил Короткого вокруг себя, так, что ноги его повисли в воздухе. Не успел соперник коснуться земли, как Атаман захватил в объятия его мощную шею. Короткий крутанул головой, желая освободиться, но Атаман уже успел всунуть под его подбородок руку.
– Отдай автомат, и я оставлю тебя живым, – повторил он ему в самое ухо.
В ответ Короткий лишь дико зарычал что-то несвязное и стал биться ещё сильней. Казалось, ещё секунда, и он вырвется на свободу.
Атаман сцепил в замке руки.
– Брось автомат! – закричал он ему в затылок.
Уже не сопротивляясь, Короткий раз за разом нажимал на спусковой крючок. Где-то у самого лица Атамана хлопали выстрелы.
«Своим подаёт сигнал», – догадался он и что есть силы, сжал свои руки.
Атаману не хотелось убивать, но каким-то подспудным чутьём он понимал: чтобы выжить самому, ему всё же придётся удавить это по-звериному упрямое существо.
«Не зря тебя по-собачьи назвали!» – злясь на упорство Короткого, думал он.
Короткий быстро засучил ногами, вдруг всхрапнул и скоро затих.
– Эй! – ослабив руки, окликнул его Атаман.
Голова парня безвольно качнулась набок, взмокшие волосы рассыпались по лицу.
– Эй… – снова позвал Атаман и похлопал по темным щекам недавнего соперника.
С каждым хлопком лицо парня безобразно перекашивалось то в одну, то в другую сторону.
Атаман встряхнул парня, прислонился к его груди.
– Вот же дурак! – в ярости прокричал он. – Я же просил тебя…
Где-то совсем близко скрипнули тормоза, послышались приглушённые голоса, звяк оружия.
С трудом вдохнув в себя воздух, Атаман поднялся на ноги, спотыкаясь и падая, побрёл сквозь густую чащу к реке, теперь уже видя только лишь в ней своё спасение. Если б была погоня, его наверняка бы догнали, но чужие голоса людей не продвинулись дальше места его схватки. Они ещё не знали чужой им местности и, видимо, боялись попасть на засаду. Уже у самой реки он наконец осмотрелся. С удивлением увидел в своих руках автомат. Он всё-таки вырвал его из ослабевших рук своего соперника и всю дорогу волочил за собой. Атаман понимал, что там, на своей стороне, этот автомат будет ему не нужен. Он нашёл глазами ствол упавшего тополя, уже полусгнившего, покрытого лишайниками и мхами, засунул под него свой трофей, засыпал сухой корой.
«Может, когда-нибудь пригодится…» – подумал он.
Тут силы окончательно покинули его. В сердце запекло, забулькало, и ему стало нестерпимо душно. Разодрав на горле рубаху, он в каких-то невероятных конвульсиях добрёл до реки и, уже ничего не помня, ступил в воду. У противоположного берега кто-то подал ему руку. Ничего не соображая, он вышел на мокрый песок.
– Атаман, ранен? – услышал он чей-то голос.
С трудом он поднял глаза.
– А, старлей… – прохрипел он. – Старлей…
– Ты ранен?
– Ранен… – кивнул Атаман и, спотыкаясь, пьяно побрёл по-над рекой к дому.
Где-то на полпути он неожиданно ткнулся головой в мягкую грудь жены. Виктория обхватила его, прижала к себе.
– Ты чего?.. – отстранив ее, удивлённо спросил Атаман.
– Там стреляли…
– Стреляли?.. – вновь искренне удивился он.
– Стреляли…
– Ах да… Это на магистралях…
Зачем-то Атаман попытался вспомнить снившийся накануне сон, но, как ни старался, ни один образ не всплыл в его памяти.
Доковыляв по дома, Атаман слёг и несколько суток не поднимался с постели. Он не ел, не пил, даже не спал. У него ничего не болело, но всё время не доставало воздуха. От этого его мутило и рвало, а так как рвать было нечем, казалось, что вот-вот он выплеснет из себя все свои внутренности. Виктория влажным полотенцем утирала его почерневшее лицо, а он конвульсивно отмахивался руками и в бреду повторял одно и то же:
– Господи, как я устал!.. Почему?.. Как могло это статься?.. Такие ж русские мальчишки, такие ж кресты на груди… И вдруг… Что нужно было сделать с их мозгами, чтоб они вдруг увидели себя ариями, а нас грязным улусом Орды?.. Как я устал…
* * *
– Маруся… – далеко за полночь тихо позвал Иван Власович.
– Вот она я, – склонилась над ним Мария. – Может, поешь чего? Ты за вчерашний день и крошки не взял…
Старик отрицательно качнул головой.
– У меня узварчик настоянный, холодненький, как ты любишь…
Вновь старик качает своей головой, и белые прядки волос рассыпаются по его восковому лбу.
– С грушами… – продолжает уговаривать жена. – Ты ж любишь с печёными грушами…
– Батюшку привезли? – чуть слышно шепчет Иван Власович.
– Послали к Антонию, а его нет, в отъезде… – отчитывается Мария. – К завтрему должен обернуться, – говорит она, словно оправдываясь.
– К завтрему не успеет… – шепчет старик.
– А ты потерпи… Куда тебе спешить?…
– Маруся, помолчи, – просит старик. – Я щас покаюсь тебе, а ты слово в слово Антонию перескажешь. С грехами тяжко и боязно…
– Тю на тебя! – всплёскивает Мария. – Какие ж там грехи – ты весь на ладони…
Мария хотела ещё что-то добавить, но ей вспомнилась Людмила, и она умолкла.
– Ты думаешь только Людмила?.. – словно читая её мысли, шепчет старик. – Людмила-Людмила… Как придёт, скажи прощения её спрашивал… А ещё…
По щеке старика скользнула слеза, разбилась о колючий подбородок.
– Чего ещё ей сказать? – уже без ревности спрашивает Мария.
– Скажи, прощения спрашивал, – вновь повторил старик и надолго умолк.
Она хотела уже уйти, но он коснулся её руки своими холодными пальцами.
«Остывает уже», – подумала она и, взяв его руку, стала отогревать её своим дыханием.
– Антонию скажешь: дюже беспечно жил…
– Ваня, ну что ты такое приплетаешь?.. Ну как я буду Антонию… Подумает, что наговариваю на тебя зряшнее…
– Маруся… – уже с хрипом шепчет старик. – Не держи на меня сердце… То всё давнишнее и пустое… Только одну тебя и жалел…
– Ванечка!.. – вдруг всхлипнула Мария. – Ванечка, родимый, не терзай себя… Я ж первая во всём виновата… Ты ж как в армию призывался, помнишь, мы к речке с тобой ходили… А потом как ушёл, а у меня… А я спужалась, что не поверишь, подумаешь нагуляла с кемся – откажешься… Пошла к Грачихе… Она воды вскипятила да спицею… Вот Господь и отказался от меня – оставил на век бездетною… А ты подобрал…
Утром приехал Антоний, Ивана Власовича успели пособоровать и ему неожиданно стало легче. Вымытый, побритый, он лежал в свежей рубашке и кротко улыбался.
Пришёл кум Павло. Присев у самой кровати, некоторое время сидел молча.
– Ну как ты, полчанин? – наконец произнёс он.
– Пора уж мне… – прошептал Иван Власович. – Воняю уже, как дохлый кобель…
– Ничего не воняешь, – возразил Павло. – Мария за тобой смотрит, не даёт загнить…
– То так… Я её обижал, а она вот…
Снова надолго умолкли.
– А Серёжка щас бандеровцев лупит… – не без гордости прошептал Иван Власович.
– Лупит… – соглашаясь с ним, кивнул кум Павло.
– Что-то Атамана давно не видать, – неожиданно прошептал Иван Власович. – То наведывался, а щас не видать…
– Захворал Атаман… – уклончиво ответил Павло.
– Вон чего?.. Хворает… Ему хворать нельзя…
– Нельзя… – согласился Павло.
– Кум, хочу тебя попросить…
Вслушиваясь, Павло наклонился к старому другу.
– Сыграй на прощанье…
– Чего? – растерянно осмотрелся Павло.
– Ну, нашенскую сыграй… Я сам пробовал, а голосу нет…
Павло вновь осмотрелся, словно ища у кого-то поддержки, но так как они были одни, наконец зажмурил глаза.
Последний нонешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья!.. —
гаркнул он во весь голос, так, что вздрогнули занавески на окнах.
– Ты чи сказился, Павло?! – вбежав в комнату, накинулась на него Мария. – Тут такое дело… Чай не свадьба…
Павло поднялся, словно извиняясь, растерянно развёл руки.
– Вот так, Власыч, не разгуляешься ноне… – наконец произнёс он.
– Она вечно встряёт не в своё… – слабым голосом прошептал Иван Власович. – Ты на неё не серчай. Баба – какой с неё спрос…
Через два дня Иван Власовича отпели. Лёха на своей расхлябанной бричке отвёз на кладбище гроб, где рядом с Серёгой была уже выкопана могила. Перед тем как забили крышку гроба, Мария долго хлопотала у его тела: то поправляла венчик, то крепче сжимала в его холодных руках крестик. Слёз уже не было.
– Ну, прощай, – наконец сказала она. – Жди вскорости и меня…
Перекрестившись, она поклонилась ему, и ей показалось, что Иван Власович улыбнулся в ответ.
* * *
А Атаман скоро выздоровел. Прибыли новые люди, которых нужно было вести через линию, и хворать стало некогда…
На краю России
Моему отцу – Николаю Васильевичу Можаеву
Все мои болезни проявляли свои первые признаки во сне. Привидится какой-нибудь вздор – не успеешь проснуться, а всё уж и сбылось по-своему. Приснилась драка, в которой пырнули ножом попал на операционный стол с аппендицитом. Если сшиб, стоптал табун диких коней – утром хлестать карвалол и прочие сердечные капли.
Сегодня во сне я падал с какой-то скалы. Боль в колене была столь реальна, что, ещё не проснувшись, я понял: вновь дал о себе знать застарелый артроз. К утру колено моё распухло, и я едва мог шевелиться.
Если на рассвете я не поднялся, домашние знают – заболел.
Пересиливая себя, сползаю с постели, ещё раз осматриваю колено – минимум две недели я недвижим.
– Опять? – спрашивает жена.
– Опять… – чувствуя себя виноватым, отвечаю я.
– Знову во сни футбол гонял? – шутит тёща.
Молчу, мне не до шуток.
– Поедем в больницу? – спросит жена.
Отрицательно качну головой. Лучший мой лекарь – балкон.
– Дався иму той балкон… – как о ком-то постороннем, ворчит тёща. – Ихал бы в больницу – там люды знаючи, може, чим и пособят.
– Наверх, – коротко командую я.
С двух сторон подставляют мне плечи, – справа жена, слева – тёща.
– Хоть раз тэщу приобымэ, – смеётся та.
Превозмогая боль, поднимаюсь по крутой лестнице на мезонин; распахиваю дверь на увитый виноградной лозой балкон.
Дивная наша жизнь: в суете не помнишь себя, забываешь о Боге. Для чего ты, зачем? – некогда думать. Бывает, оглядишься округ – весна, сладко пахнут на деревьях ожившие почки, особенно звенят небеса. Не успеешь проводить караваны гусей, запомнить знакомые приметы – закружила тебя сумятица. Очнёшься от зябкого вороньего карканья – осень. И не вспомнишь: жил ли ты на земле, нет ли – всё испохабила суматоха.
Болезни вырывают нас из житейской круговерти, дают возможность опомниться, оглядеться, – оттого и принимаю их с радостью. «Любочко хворать, абы не умирать», – вспоминаю я весёлую присказку своего деда, и, внутренне улыбаясь, падаю в кресло.
Жена приносит стул и подушку, осторожно укладывает больную ногу; рядом на столике оставляет завтрак, лекарства; спешит управлять домашнее хозяйство.
– Видишь, теперь я не помощник… – всё ещё чувствуя себя виноватым, говорю ей.
– Лежи… Ты свои дела на век переделал, – строго отвечает она. – Детям оставь…
«Разве всё переделаешь, – думаю я. – Суета, вечная суета…»
Под моим балконом, смутно поблёскивая утренней сталью, розовой дымкой дышит река. Это Деркул, по которому проходит невидимая граница. За Деркулом, далеко, пестрят клевером и дремлющим одуванчиком луга, за ними меловая гора, изрытая белёсыми ериками, по краям которых тянутся ввысь заросли тёрна и сибирька.
Растущее солнце поедает на лугу остатки тумана: ярче разгораются омытые росой травы. Над ними, плавно покачиваясь, кружат оголодавшие за ночь ястребы. «Синь-синь-синь…» – где-то звенит овсянка. «Тень-тинь-тюнь…» – спорит с ней невидимая пеночка.
Правее луга, повторяя изгибы старого русла, сбегает к Деркулу заросшая древними вербами и тополями Логачёва левада. Уже с раннего утра, предвещая скорую непогоду, там верещат копчики и прочая хищная птица.
Но когда неспокойно в небе и в лицо мне дует западный ветер, хищники умолкают, и слышен лишь шум и покряхтывание деревьев.
За Логачёвой левадой прилепился к горе старый казачий хутор Герасимов. По утрам, когда остывший в ночи воздух свеж и звучен, оттуда хорошо слышны голоса, гвалт гусей и рёв уходящих в стадо коров. Когда-то наши предки служили в одном казачьем полку, теперь наши дети – в разных армиях.
«Динь-динь-динь…» – плывут над землёй ясные звуки колокола – благовестит, сзывает к заутрене старый храм. Мне видать лишь его золочёный крест и омытую утренним багрянцем маковку. Осенью, в солнечные дни, когда раздетая левада сквозит жёлтым светом, сквозь неё проступают синие купола и даже часть белокаменных стен. Когда-то в этой церкви меня крестили, сейчас без паспорта и миграционной карты через погранпосты сюда не пройти – чужое государство.
Деркул у моего дома замедляет свой ток, а на Галичкиной яме и вовсе почти недвижим; заводи затянуты ряской, над которой покачиваются островки осоки и беловато-розовые зонтики сусака; чуть дальше, на чистой воде – цветы жёлтых кубышек и белых лилий. Здесь рыбное место, и сюда сходятся рыбаки как с нашей, так и с той стороны. Публика самая разнообразная, от знающих себе цену персональных пенсионеров до весьма сомнительных личностей.
На другом берегу, оседлавши замшелый пень, раскидывает свои снасти Лёха Кудин. Его хищно-заострённое лицо с постоянно кривящейся язвительной ухмылкой в губах, наглый, пронзительный взгляд обличали в нём едкого человека. Без пошлых шуток-прибауток, без жёлчных колкостей в чей-либо адрес он не может прожить и минуты.
В юные годы Лёху не единожды колотили за скверный норов, но это не сломило, – скорей укрепило его боевой дух.
Разматывает Лёха удочки, а сам уж рыщет своим нахальным взором, кому бы пожелать «хорошего настроения». Долго ждать не приходится – на нашем берегу появляется мешковатый увалень Зынченко.
– Привет, хохол! – радостно кричит Лёха. – Эй, Россия, как вы у себя такое юдо терпите, он же у вас всё сало сожрёт!
Зынченко степенно раскладывает удочки, молчит. Эта его невозмутимость больше всего раздражает Лёху.
– Во, пришёл хохол – наклал на пол, – уже пошловато куражится он.
– Приишов кацап – зубами цап, – наконец огрызается Зынченко.
– Я тебе дам «кацап»… – на полном серьёзе обижается Лёха, – Ишь – донских казаков к кацапне приписал.
– Ты дывы, якый козак выыскався, – берётся за дело Зынченко. – То тоби зарас ни Вийско Донске, а моя нэнька Украина.
– Да хоть Турция – мне по барабану, а вот тебе, Зынченко – хана там, за Деркулом.
– Это ж чему так?
– А ты что, не знаешь – в России хохлов к жидам приравняли.
– Ну и добре, что так, – значит, заживём.
– «Заживёшь»… Я вот Натахе скажу – она теперь сало тебе не даст.
– Дасы и сало, и всё, чего трэба. Это тоби Людмила кругом отказуе – от ты и злый такый.
Подобные перепалки меж ними случаются чуть не каждое утро. Дальше словесных баталий дело не заходит – они свояки и по-родственному ладят друг с другом.
На нашей стороне, под огромной вербой, по разные от неё стороны, рыбалят Женька Кулёв и Захарыч. Кулёв – бывший инженер, потому всегда и во всём точен. Спроси его:
– Жень, здорового голавля выхватил?
– Миллиметров сто девяносто, – ответит тот.
Он, как и все, любит побалагурить, но, в отличие от Кудина, из рамок приличия никогда не выходит.
Единственный чужак здесь – Захарыч, солидный, но вызывающе-мрачный мужчина лет шестидесяти. На обвисших одутловатых его щеках красными нитями проступали следы былого пьянства. Он бывший юрист, и одно время даже был прокурором Луганска; сейчас, отойдя от дел и перебравшись в Россию, тихо живёт на своей даче. Понимая свою значимость в этой компании, Захарыч важно дует свои бульдожьи щёки, предпочитает не вступать в разговоры и так неестественно вскидывает свою плешивую тыквообразную голову, что остаётся лишь удивляться: как он в таком положении умудряется наблюдать поплавки.
Чуть выше омута, отражаясь в воде, тихо плывёт через реку красная рубаха. Это Сашка-атаман снимает свои сети. Одно время ему везло: в сети попадали метровые сулы и огромные, в полпуда, вырезубы. Захарыч, видимо, желая удивить своих домочадцев, стал досаждать Сашке.
– Сань, продай вырезуба. Только так, чтоб никто не знал… – канючил он каждое утро.
– Ладно, Захарыч, с завтрашнего дня – первый вырезуб твой, – наконец согласился тот.
Но наступало «завтра», потом послезавтра, новый день, новый…
– Ну, есть вырезуб? – каждое утро интересовался Захарыч.
Вырезубов не было.
Через неделю интерес Захарыча стал угасать, он всё реже докучал атаману, и его краткое «ну?» – звучало уже насмешкой.
Такое равнодушие задевало Сашкино самолюбие, и теперь он сам окликал бывшего прокурора.
– Захарыч, вырезуба купишь? – покачиваясь в лодке, кричал он.
– Один? – живо интересовался тот.
– Хоть двух.
– Большие?
– Кил десять, не мене.
– Почём?
– Известно: двадцать рублей – кило.
– Куплю!
Захарыч бросал удочки и, утратив степенность, трусцой бежал к Сашке.
Но как ни вглядывался он в сети, вырезубов там не находил.
– Где ж вырезубы?! – унимая одышку, сипел он.
– Так вон они, в яме барахтаются, – смеялся Сашка. – Я ж тебе на корню продаю.
Бормоча под нос что-то далёкое от юридических терминов, Захарыч возвращался на своё место, и теперь его было не разговорить.
Следующим утром Сашка опять окликал его.
– Захарыч, не знаю, куда девать вырезубов. Может, купишь?
Захарыч молчал.
– Покупай, Захарыч, нынче Николай, льготная распродажа – уступлю в цене, – потешался Сашка.
– Я ещё вчерашних не съел, – наконец отзывается тот.
Солнце поднимается выше, и на берегу, небрежно помахивая верблюжьими одеяльцами, появляются томные дачницы. Поравнявшись с рыбаками, они делают нарочито беспечный вид, но на деле им хочется с кем-нибудь пообщаться. Вот они уже замедляют ход, ищут глазами подходящую полянку, где можно раскинуть свои одеяльца.
Лёха Кудин, как породистый жеребец, вскидывает свою чубатую голову; сщурившись, кривит в коварной улыбке губы.
– Девоньки, вы пришли пополнить свой скудный словарный запас али поделиться своим? – интересуется он.
– Мы купаться пришли, – с вызовом отзывается одна из дачниц.
– А-а-а, купаться…
Девки в Деркуле купались,
Я на камешке сидел,
Девки чтой-то показали —
Я и с камешка слетел.
– От нэ може, щоб до когось нэ чипляться, – глядя вслед удаляющимся дачницам, вздыхает Зинченко. – Таки славни жинки подходылы, нет же – отвадив…
– Да ты, хохол, хоть хари ихние разглядел? – сплёвывает в сердцах Лёха. – Они ж страшней, чем вся моя жизнь…
– Я от што тебе скажу: був молодым, як ты, – тоже ума нэ мав. Дивчата сами до мэнэ липлы, а я переберав: и эта не глянется, и друга не така… А щас на яку нэ дывлюсь – та воны ж вси таки гарненьки…
С запозданием появлялся на той стороне Пашка – моложавый и чудоковатый парнища лет пятидесяти, прозванный по матери Бородавкой.
Жил Пашка под самой горой, в крошечном крейдяном домишке на две комнатёнки, в одной из которых обитал он сам, в другой ютилась престарелая больная мать Димара Лукинишна, которую больше знали как Бородавку.
Я хорошо знаю Димару-Бородавку. Когда-то она дружила с моей матерью и часто бывала у нас. Больше всего подкупала в ней безвозвратно утраченная нынешним поколением та стародавняя, неукротимая жизненная стойкость, позволявшая безропотно терпеть любые неурядицы, более того, воспринимать все невзгоды как нечто обыденное.
В молодости Димара была видной, красивой женщиной: вышла и ростом, и крепко сложенной фигурой, и высокой грудью, и правильными чертами лица. Только один недостаток портил её – крупная, величиной с фасолину, родинка на левой ноздре. Но улыбка её сочных губ, блеск огромных зелёных глаз до поры сглаживали этот изъянчик. Муж её Фёдор одно время был неплохим кузнецом, но назойливый люд, валивший к нему в кузню со всех окрестных хуторов, в конечном счёте разбаловал его, и он стал попивать.
Димара всячески противилась его увлечению: то уговаривала, то слёзно молила, а иной раз и роптала так, что Фёдору приходилось утешать её кулаками.
Поначалу несильно, лишь для острастки, да чтоб привить добрые манеры, а как она притерпелась, и, не вняв урокам, продолжала дерзить – дубасил на полную катушку, так, что иной раз не понять было: где у неё глаза, где губы, и где родинка.
Димара стойко сносила свои неприятности – не стонала, не жаловалась по соседям, только до времени помутнели её глаза, сморщились губы.
Сгорбатилась Динара, поседела и вдруг сразу стала той Бородавкой, которая нынче известна всем. Вместе с прежней красой утратилась и былая кротость. И однажды случилось так, что она сама поколотила своего хмельного мужа. И чудное дело – здоровенный мужик, привыкший во всём своеволить, только лишь опробовал кочерги, тут же размок хуже кислой бабы. От обиды, бессилия и позора он плакал весь вечер, потом маленько добавил и несколько раз кряду пытался вернуть утраченную славу, а, получив новые затрещины, захлюпил ещё горше. «Повешусь… Раз так – повешусь…» – пьяно гундосил он. «Верёвки в чулане, – подсказывала Бородавка. – Капроновую бери – она ловчей зашморгнётся». Так он и сделал – взял капроновую да сдуру и повесился на грушине.
Оставшись одна с сыном-оболтусом, который не был пригож ни к школе, ни к домашнему хозяйству, Бородавка поначалу так растерялась, что, придя к нам, сетовала на покойного мужа: «Ишь чего придумал – дров на зиму нет, крыльцо завалилось, крыша набекрень, а он в петельку нырнул и управился – живите, как хотите». При этом она матерно выражала свои скорбные чувства, и сама чуть ни запила с горя.
Но со временем здоровая природа брала верх, старые обиды поугасли – всё светлей и радостней были её воспоминания: «У Феди руки – золото, всё в них ладилось, за что ни возьмётся – сделает. Когда б не зелёная злодейка – цены бы ему не знала. Вот Пашка – тот невесть в кого уродился – одна дурь в голове от покойного и осталась, ничего более не привилось. Только и знает – Деркул да удочки…»
«Хоть рыбой тебя накормит, и за то спасибо…» – говорит ей моя мать.
«Да я разве вижу рыбу ту – либо ничего не поймает, либо пропьёт», – возражает Бородавка, и в который уж раз рассказывает, как они с Фёдором на Галичкиной яме поймали сома на восемь пудов. «Федя меня на вёслы посадил, а сам сеткой яму окутал и давай “хрюколом” под ярки ширять.
Вот сом почуял неладное, да как вскинется, как бурханёт – лодку аж подкинуло на волнах. Я спужалась, кинула вёслы, а Федя меня материт…»
Сморщенное, как печёное яблоко, лицо её вдруг преображалось, расправлялись морщины светлели, искрились счастьем глаза, и даже терялась привычная бородавка, словно и не было никогда ни смертного боя, ни выкидышей, ни слёз…
В последние дни Димара перестала к нам приходить – отказывали ноги.
Мать по пути в церковь навещает её, всегда одарит каким-то нехитрым гостинцем: то маслица занесёт, то варенья, а иной раз просто булку хлеба; нарочито строго отчитает: «Мы тебя выглядываем, а ты, подруга, совсем отбилась от нас».
Димара с трудом чикиляет по двору на двух палочках.
«Ох, Валюшка, когда ж его бегать – в гору некогда глянуть, – оправдывается она. – На Пашку никакой надёжи, а дел не убывает, – так дотемна и проканителишься…»
О болезнях – ни слова.
С Пашкой-Бородавкой я ходил в первый класс. Потом он отстал, и когда я оканчивал десятилетку, он осваивал пятый класс. Был он высок, худ и так несуразно скроен, что, казалось, вот-вот распадётся на части.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































