Текст книги "За чертой"
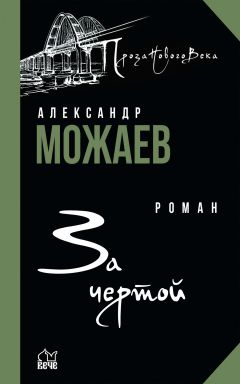
Автор книги: Александр Можаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
– Ты не конь, Паша, ты кобыла… – сплёвывая, с презрением произносит Носач, что было для него несвойственно, – обычно в беседе с людьми он выбирал мягкие, деликатные выражения.
– Ну и ладно! – легко соглашается Пашка. – Пусть кобыла… Зато я живой останусь, а вас похреначат на тех буграх… – кивнул он в сторону «Князя Игоря». – Недолго уже до этого…
– Ты, кобылка, не переживай, – вычеркну я тебя из списка – нигде не засветишься, долго жить будешь… – устало произносит Носач и, захлопнув дверцу, оборачивается к Василю:
– Поехали…
– А ты, Васёк, тоже камуфляж нацепил? Не навоевался?.. Мало тебя в Чечне кантануло?.. – кричит вслед нам Пашка. – Ты, Васёк, не дуркуй, а то чего доброго, ещё и убьют… Не рвите понапрасну сердце, – Путин с Обамкой без нас порешают: где нам быть и с кем нам жить…
Долго ехали молча. Уже под Луганском Василий обернулся ко мне, сказал:
– Если б он только один такой «конь» был. Сейчас таких «лошадок» целый табун… Помнишь, ходили с тобой на концерт станичного хора?.. Солист там… Фамилию забыл…
Василий вопросительно смотрит на Носача, ждёт подсказку.
– Забудь ту фамилию… – угрюмо отвечает Носач.
– Шапка на затылке, усы шире плеч… Ручкой помахивал… – продолжает Василий.
Мы, донские казаки,
…России служим
…Ни хрена не тужим…
– Как только тут запахло порохом – в Киев! Теперь: «Украине служим…» и опять ни хрена не тужит…
– Ничего, ничего… – сам себе шепчет Носач. – Полова просеется – зерно останется…
* * *
Утром авиация Украины бомбила станицу Луганскую. Сначала были уничтожены административные здания – райотдел милиции и зачем-то Дом пионеров и школа. Второй заход самолёты сделали уже по другую сторону железной дороги, в Кондрашовке превратили в руины целую улицу.
Когда мы подъехали, там стоял плач, вой и мат. В порванных трубах ещё догорал газ, где-то в пылающем доме громко стрелял шифер. Ещё пышут жаром сгоревшие машины. Тут и там накрытые одеялами тела. Два пожарных расчёта заливали то, что ещё можно было спасти.
– Сюда, сюда лейте!.. – Какой-то мужчина вырывает пожарный шланг, тащит на другую сторону улицы.
– Дай сюда шланг, там уже не помочь… – идёт за ним один из пожарных.
– Там мать, мать… – уворачиваясь от пожарного, льёт тот на догорающие угли былого дома.
Старик в изодранной рубахе, обхватив руками седые всклокоченные волосы, сидит и, покачиваясь у своего полуразрушенного дома, отчуждённо смотрит в пространство. Напротив старика, в нескольких метрах от него, два прикрытые одеялами тела. На щеках старика ни слезинки, в сухих глазах полное отрешение. С каждым покачиванием из груди его вырываются непонятные звуки, поэтому кажется, что старик что-то тихонько поёт.
Вцепившись окровавленными руками в изорванное тельце девочки, протяжно, на одной ноте воет женщина. Пытаясь её оттащить, мужчина который раз берёт её под мышки, отрывает от земли, но каждый раз она выскальзывает из его обессиленных рук.
– Ну, кто-нибудь… – жалобно вскрикивает мужчина. – Кто-нибудь…
Несколько женщин бегут к ним и пытаются тянуть их обоих.
Посредине улицы стоит машина «скорой помощи». Пожилой врач в сером заношенном халате, которого в Станице все по-простецки называли Максимычем, тиская в зубах погасшую сигарету, угрюмо смотрит в пространство.
– Вы почему ничего не делаете? – спросил Носач.
Врач обернулся и, кажется, с удивлением осмотрел его снизу до верха, но ничего не ответил.
– Вам нужна помощь? – снова спросил Носач.
На этот раз Максимыч не обернулся, молча отрицательно покачал головой. Через минуту сказал:
– Чем вы, Николай Петрович, поможете здесь?.. Кто ещё жив, – уже отвезли в больницу. А этим чем поможешь?..
– Может, нужно кому-то вколоть успокоительное?..
– Да, нужно… – согласно кивнул Максимыч, но остался стоять на месте.
– Ему сейчас хоть самому коли успокоительное… – сказал я, когда мы прошли дальше.
У развороченного сгоревшего дома какая-то старуха, неуклюже орудуя палкой, скатывала на целлофановую плёнку остатки человеческих внутренностей.
Губы Василя побелели, он вдруг поперхнулся и его начало рвать.
– Сосед наш, – горестно вздохнула старуха. – Такой славный, работящий парень был… Вот, одни потроха, да рука с конём – всё что осталось.
Я осмотрел усыпанный хламом двор. Единственное, что уцелело каким-то чудом – изодранная осколками теплица. Из её прорех ярко алели гроздья не убранных помидор.
– Вот Обамка и порешал всё… – судорожно вздохнув, перекрестился Носач.
* * *
Вырвавшись из поросшей лесом падины старого русла Деркула, Жека увозит людей подальше от границы; я провожаю их глазами. Вдруг захлопали выстрелы, я выбегаю на поле, пытаюсь понять, откуда стреляют. Наконец выясняю – это небольшая, заросшая черноклёном балочка, кривым аппендиксом прилепившаяся к старому руслу, оттуда хорошо видна дорога, по которой уходит Жека.
Жекина машина резко вильнула. «Кажется, попали…» – догадываюсь я. Снова вильнула, но понеслась ещё быстрее, чем прежде. Скоро будет развилка – одна дорога идёт под горой, она не простреливается, другая круто взмывает в гору – хорошо видна тем, кто в засаде. Если уходить по «безопасной» дороге, то скоро она будет зажата между горой и рекой – наилучшее место для западни.
«Его гонят в “капкан”, из которого уже не вырваться», – догадался я. Но Жека всё просчитал – резко уходит в гору. Если сейчас ему удастся выскользнуть, то на верху его уже не взять, там простор для манёвров. Мне хорошо видно, как, взрывая белую глину, рядом с машиной ложатся пули.
Чтобы отвлечь внимание, стреляю по незримому мне врагу – тупо палю по кустарникам и деревьям, за которыми, должно быть, прячется он. Наконец я замечен, теперь стреляют по мне. До меня не менее пятисот метров, с такого расстояния попасть нелегко, но чвиркающие невдалеке пули гонят меня к Деркульским ярам, под которыми можно укрыться.
Вот Жекина машина перевалила через горб горы и исчезла из вида. Тут же звонит телефон.
– Жека, ушёл?..
– Сваливай! – орёт Жека. – Сваливай на…
Наконец яр. Скатываюсь вниз. И только тут, в полной безопасности, меня начинает бить нервный озноб, и, борясь с ломкой, я громко смеюсь.
* * *
Кольцо сжимается всё сильней и сильней – всё теснее становится на родной сызмальства знакомой земле…
Я знаю, охота на меня открыта давно. За меня и за парней, идущих за мной, украинский олигарх Коломойский обещает большие деньги. Охотников подзаработать полёгкому много. Иной раз они идут за мной по пятам; по-звериному я слышу за много вёрст их спешащие шаги, слышу их тяжёлое, прерывистое дыхание. Осознание этого сродни паранойе.
По наитию я знаю, где расставлены капканы, и в этом моё везение. Я знаю, из какого места и куда тянутся заросшие лесом ерики, знаю, откуда и как можно в них войти и где можно выйти из них незамеченным. Я исходил их задолго, как эти пришлые «охотники» появились на свет, и это помогает мне каждый раз просачиваться меж расставленными ими ловушками.
Всегда, когда мы выходим, кто-то чужой, затаившийся на нашей, российской, стороне, сигналит моим врагам. Они всегда знают, что мы идём. Единственное, чего им не дано знать, какой из сотен, едва различимых звериных троп, я сегодня буду вести людей. Как им разгадать мои петли, если даже и сам я не ведаю, как ляжет дорога. Нет, накануне я, конечно, мысленно прокладываю маршрут, но на месте один лишь встревоженный свист байбака в балке, вскрик птицы или дуновение ветра могут поменять всё. Я давно научился видеть спиной, угадывать в жутком звоне тишины запах смерти и в нужный момент растворяться в травах. Это должно быть не сложно, коль идущие за мной люди легко повторяют мои движения.
«Сколько верёвочке ни виться…» – иногда обречённо думаю я. Наверное, когда-то я ошибусь, но пока кто-то неизменно спасает меня – птица ли, зверь или молитвы моей Виктории, которая каждый раз крестит меня в дорогу.
Одна из дорог ведёт через Мёртвый хутор. Прежнее древнее название хутора давно позабылось, прижилось новое – Мёртвый. Здесь тихо и жутко. Зловеще смотрят на меня глазницы пустых окон полуразрушенных домов. Лет пятнадцать тому назад в хуторе умер последний из его жителей, дед Чекамас, которого в шутку называли «последний комендант хутора», и место стремительно стало дичать. Некогда накатанные полевые дороги и проулки заросли клёном, терновником и дикой маслиной; прежний мостик через ручей, бегущий с Солёного ерика, рухнул, остались лишь почерневшие от времени дубовые сваи. Когда-то через этот мосток ездили колхозные арбы и редкие в те времена машины. Сейчас тут проезда нет, а ходить пешком на далёкие расстояния «охотники» не любят. Иногда они всё же захаживают сюда, я узнаю это по одним лишь мне знакомым приметам. Наверное, от этой мёртвой тишины им тоже бывает жутко, поэтому надолго здесь они не задерживаются. Тут, в одичавших, почти непроходимых садах, мне легко затеряться. Взять меня в этих местах не так просто, хотя на подходе можно настичь выстрелом с высокой горы. Я жду этого выстрела, а его всё нет… Господь для чего-то всё ещё сохраняет меня. Может, лишь для этих вот строк…
Когда-то в этом хуторе жила старшая сестра моей бабушки – баба Феня. В войну она потеряла мужа и всех четырёх сыновей; жила одиноко. Бабушка моя не раз звала её к себе, но та лишь встревоженно махала руками:
– Что ты, что ты! Хведя ведь без вести пропал. Явится, а тут всё мёртво. Буду ждать… – говорила она о своём сгинувшем муже.
– А случится – помрёшь? Будешь потом лежать в пустой хате… – не унимается бабушка.
– Помру – кто-нибудь прикопает. Не оставят смердеть…
Когда я был совсем ещё мал, бабушка брала меня с собой «проведать няню», как называла она старшую сестру. Чтоб сократить путь, ходили напрямик через лес, потом вброд переходили Деркул. Если на реке рыбалил дед Чекамас, сосед бабы Фени, то он перевозил нас на лодке задолго до брода, и это ещё значительно сокращало дорогу. Когда я подрос и мне было лет семь, бабушка «обезножила», и этой дорогой ходил уже сам.
– Сашка, сходи, проведай мою няню, – просила бабушка.
При этом она обязательно собирала сестре какой-нибудь гостинец, будь то завёрнутый в тряпицу кусочек сала или сумочка с печёными грушами.
– У ей в прошлом годе жердёлину ветром свалило, – говорила она, насыпая сушёные абрикосы. – Дорогу не забыл? Гляди в Деркул не скатись с яра… Чекамаса увидишь – проси, он перевезёт… – наставляла она в дорогу.
Долго иду знакомой тропкой, повторяющей все изгибы реки. Замечу Чекамаса – тихо стою на яру, наблюдаю, как он выбирает из сетей рыбу.
– Ну, на энтот берег?
Заметив меня и не дожидаясь ответа на свой оклик, старик находит на моей стороне пологое место, и, причалив, поджидает, пока я спущусь с яра.
– Поплыли?
Молча, киваю в ответ.
Умело управляясь одним веслом, старик направляет лодку в нужное место.
– Так, рассказуй! – нарочито строго говорит он.
Я теряюсь и продолжаю молчать.
– Ты чей?
Путаясь, я неуверенно рассказываю о своём происхождении, которое дед Чекамас знает лучше меня самого.
– Неверно! – выслушав меня, говорит он и научает:
– Когда спросят «Чей?», нужно отвечать: «Бабки Феньки казначей». Усвоил?
Кротко киваю.
– То-то ж! – торжественно произносит Чекамас, и в усах его шевелится улыбка.
На прощанье он достает из лодки пару больших рыбин, нанизывает их через жабры на гибкую таловую хворостину.
– Неси, бабка Фенька юшки сготовит, – приказывает он. – Допрёшь?
Утвердительно киваю в ответ.
Поставив на огонь закопченную кастрюлю, баба Феня чистит на уху рыбу.
– Спасибо, Чекамас – не помрём с голоду, – говорит она, отгоняя ногой котов. – Весь хутор рыбой кормит…
– Брысь! Напали окаянные, спасения от вас нет… – незлобно ворчит на котов.
Уха готовится быстро. Баба Феня, заправив её напоследок укропом, зелёным луком и перцем, снимает с огня. Под старой яблоней, в тени ветвей широкий стол.
– Пополуднуем здесь, чтоб в хату жару не тянуть, – нарезая домашний хлеб, говорит старуха.
Я сажусь на врытую в землю скамью и вижу, как, тяжело ступая, сутулясь под своей ношей, идёт по улочке Чекамас. На одном плече у него смотанные снасти, на другом мешок с рыбой, часть которой он скоро завялит впрок, а остальную раздарит соседям.
– Савельич, – окликает его баба Феня. – Зайди юшки хлебни. Как раз готова…
Словно раздумывая, Чекамас замедляет шаг, наконец сбрасывает с плеча мешок с уловом и аккуратно прислоняет к плетню свои снасти.
– А до юшки есть чего? – тяжело выдохнув, произносит он.
– Заходь, плясну стопочку. Как жа без того…
Сев за стол, Чекамас разминает затёкшие плечи, аккуратно подвигает к себе налитую до краёв стопку, медленно выпивает и, шумно сёрбая, начинает закусывать. От горячей ухи на лице его проступают капельки пота, которые он утирает, пропахшей рыбой и тиной рубахой.
– Возьми полотенце, – предлагает баба Феня. – Рубаха у тебя сомом провонялась…
– То так… – продолжая усердно сёрбать, соглашается Чекамас, но полотенца не трогает.
– Ты, Савельич, секрет какой-то знаешь, – говорит баба Феня. – И разу даром не сходишь – всегда с рыбой…
– Какой там секрет… – не отрываясь от еды, нехотя отвечает старик. – Верти головой да приметы запоминай. Калина зацвела – сазан пошёл, бузина – сом… На молодой месяц можно и не ходить – рыба болеет, с места её не стронешь… Вот и все секреты…
– Ещё пляснуть?
– Хорошая юшка, – не отвечая на вопрос, говорит старик. – Перца только пожалела – можно б больше сыпнуть…
– Ну, так что?.. – кивает на графинчик баба Феня.
– Делов много, не до того… В другой раз… – отодвинув пустую миску, отвечает тот и, вновь покрутив плечами, идёт к своим снастям.
Когда ж в следующий раз на переправе Чекамас, учиняя свой привычный допрос, спрашивал: «Чей?», я, наученный им же, отвечал уже более уверенно:
– Бабки Феньки казначей.
– Ну, это другое дело! – довольно разглаживал усы Чекамас. – Може, когда и мне перепадёт с твоей «казны»…
Каждый раз баба Феня радуется моему приходу до слёз. Разогревая на керогазе обед, она без умолку расспрашивает меня о хуторских новостях, в которых я был не очень силён.
– Волка мого не встречал доро́гой? – накормив, спрашивает она с улыбкой.
Глаза её загораются, и она в который уж раз рассказывает известную историю, как когда-то, ещё в молодости, ходила домой проведать родителей и, когда уже в сумерках «верталась» к своему «Хведе» и детям, на тянувшейся вдоль Деркулького яра просеке «встренулась» с волком.
– Иду себе и иду. Вечор, захмарилось, ветер с горы как дунет – закряхтел лес, деревья сучьями затрещали. Вдруг вижу: по краю яра идёт навстречу мне волк. Спужалась, спряталась за дубочек. А тот идёт понурый такой, думает о каких-то своих волчьих делах, – может неудача какая в жизни, может, дремлет и грезит кого-то съесть. Стою неживая. Ветер от волка дует, не чует меня, идёт себе и идёт… Вот и со мной поравнялся. Я с перепугу как «авкну» на него из-за дубка! Тот как подлетит, да кубарем с яру, не удержался да в воду. Вот, думает, чёртова баба, откуда ты взялась на меня?..
Проходя древней тропкой вдоль Деркульского яра, я долго потом ожидал встречи с волком. В мыслях представлял, как спрячусь за подходящий дубок, как, подпустив его близко, «авкну» страшным, не своим, голосом из засады, и как тот будет в ужасе катиться под яр… Но волк, видимо, всё ещё помятуя встречу с бабой Феней, этой дорогой больше не ходит.
В обратный путь баба Феня собирала ответный гостинец. Прямо с печи доставала румяные пироги с яблоками, тёрном, с капустой или с яйцами. Вручая их, слала поклоны всей нашей родне.
Перекинув через плечо сумочку с гостинцами, узкими улочками правлюсь в обратный путь, и чуть не у каждого дома слышится за спиной:
– Хфенькин пошёл…
Я намеренно удлиняю свой путь. Сделав крюк, выхожу к бегущему из Солёного ерика ручью. Здесь дед Чекамас для ребячьей забавы сделал небольшую запруду и у слива установил колесо с деревянными лопастями, которое день и ночь крутит сбегающая по желобку вода. Я заворожённо смотрю на это вращающееся колесо, на сияющую на солнце воду и часто, теряя время, засиживаюсь допоздна, и тогда обратный путь становится преодолением страхов: перед волком, который прячется за каждым кустом, перед неведомыми таинственными силами, которые проявляли себя скрипом и потрескиванием деревьев, карканьем ворона.
Повзрослев, я осмелел, и детские страхи уже не тревожили мою окрепшую душу. Подходя к реке, сам по-свойски окликал Чекамаса. Былая его ирония теперь уж вжилась во мне.
– Здорово, Чекамас! – с высокого яра кричу старику. – Как там, раки клюют?
Тот, несмотря на годы, всё в той же поре – по-прежнему пляшут в его прищуренных глазах черти, и знакомая усмешка прячется под усами.
– А-а, Казначей?.. – не поднимая от сетей головы, отвечает тот. – У Чекамаса всё, что шевелится – клюёт…
– Казначея переправишь?
– А чем Казначей платить будет? – подгребая к берегу, насмешливо спрашивает тот.
– С бабки Феньки вычтешь.
– Ну, раз такое дело, вычту, конечно…
На самом деле плату за переправу Чекамас ни с кого не берёт, но я обязательно приберегаю для него какой-нибудь нехитрый подарок: то моток капроновых ниток, то челнок для вязки сетей, то свинец на грузила. Всему этому Чекамас радуется, как ребёнок.
Выплакавшись у меня на груди, баба Феня, как прежде, разжигает керогаз и выведывает новости с хутора. Многих, о ком я рассказываю, она уж не знает, поэтому задаёт много уточняющих вопросов:
– Это Хавричихи унук женится?
– Хавричихи…
– А девку берёт Семёна Горца?
– Внучка…
– Вон оно, какое дело!.. Деды, бывало, чуть ни до смерти бились, а внуки поладили… Хаврича до войны посадили, – рассказывает она. – А Маня его заподозрила Горцев, что те донесли, да подпалила тем ночью сарай. А Горцы догадались, чья дель, да как пришла очередь пасти стадо – Хавричовой корове ногу сломали. Говорят, сама с яра прянула. И пошла война… А внуки, стало быть, поладили…
– Баба Феня, давай я тебе газовую печку куплю, сколько можно керогазом коптить…
– Ни-и-и! – испуганно мотает она головой. – Ну её к холерам, ту печку, я уж с керогазом сроднилась. К тому ж я его, куда вздумается туда и притулила, а печке место искать надо.
За обедом, как и в прежние времена, непременно спросит:
– Волка мого не встречал?
– Встречал, – шучу я в ответ. – И до се тебя вспоминает. Каждый раз твоими пирожками от него откупаюсь.
– Ну, слава богу – на дело сгодились, – смеётся старуха.
* * *
Люди, идущие за мной, опасливо озираются на заброшенные дома, на тёмные глазницы пустых окон.
– Вон там шевельнулась занавеска… – Встревоженный шёпот за моею спиной.
Никто не должен знать о моих страхах, поэтому отвечаю уверенно, почти равнодушно:
– Это ветер. Сквозняк… Ветер гуляет в пустых комнатах…
Я знаю: на самом деле всё так и есть, остальное – фантазии нашего страха.
– Видите – ласточка в окно залетела?.. Там никого нет, – успокаиваю я.
Под горой вразброд белеют бугорки у байбачьих нор. Встав на задние лапы и прижав к себе передние, зверьки напоминают своим видом маленьких медведей. Наблюдая за нами, они, не суетясь, рассматривают нас. Но стоило нам приблизиться или резко взмахнуть рукой – байбаки, дружно присвистнув и швырнув задними лапами пыль, мигом ныряют в свои норы. Теперь на свой наблюдательный пункт зверьки выйдут нескоро, и то, что они нас встречали, для меня подтверждение того, что до нас тут никого не было.
У ручья, бегущего из Солёного ерика, останавливаемся; внимательно осматриваю берега, которые могут хранить чужие следы. Чисто. Когда-то на этом месте была запруда и стояла «мельничка» Чекамаса. Вешние воды давно унесли с собой и запруду, и «мельничку», – об их былом существовании напоминали мне лишь позеленевшие ото мхов камни, меж которых струилась вода. Чтоб не обнаружить себя, перехожу на другой берег, осторожно ступая на эти камни, затем на траву. То же самое проделывают и идущие за мной люди. Если кто-то из них оступается, я возвращаюсь, и, черпая пригоршнями воду, замываю следы. Ничто здесь не должно напоминать о нашем былом присутствии.
«Может, и “они” точно так же путают меня?» – думаю я и ещё раз внимательно осматриваю берега, каждую былинку на них. Чисто.
На горе, у самой кручи, стоит пара волков. С высоты, озирая окрестности, внимательно наблюдают за нами. Где-то в непролазных дебрях Солёного ерика у них логово. Сразу вспомнился «задумчивый» волк бабы Фени.
«Нет, этих врасплох не застать», – думаю я, и сия мысль меня успокаивает.
Волков я не боюсь, их присутствие лишь придаёт уверенности – вверху засады нет. Здесь куда страшней «двуногие волки»…
Мы идём на заранее оговоренное с Жекой место. Каждый день у нас разная конечная точка. Названия этих мест не отыщешь ни на какой карте, они известны и понятны лишь нам двоим.
– Буду ждать «у зайца», – говорит Жека.
Мне вспоминается, как много лет назад ходили мы на охоту. Жека выстрелил в зайца и, как видно, не попал, но контузил его. Зайца бросили в сумку и пошли дальше. В Терновой балке решили сделать привал. Только присели и стали готовиться к трапезе, заяц очухался, выпрыгнул из сумки и был таков. Потом, каждый раз проходя мимо этого места, Жека кричал: «За-яц! Привет, заяц! Как поживаешь?!»
В следующий раз, оговаривая место встречи, Жека сообщал:
– Подтягивайтесь к «Столбу». Встретимся у «Столба»…
Когда-то в этих местах одиноко рос пирамидальный тополь – «раина» по-нашему. Раина засохла и многие годы издали выглядела, как столб. Потом её спилили на дрова, но название места мы сохранили в своей памяти.
Сегодня Жека позвонил и сказал:
– Буду ждать, где сука сало съела.
Я улыбаюсь и вспоминаю, как лет десять назад ходили на лис. Кубане́ц прихватил молодую рыжую таксу, чтоб натаскать её на лисьи норы. Лис в тот день мы так и не встретили. Когда, расположившись привалом среди огромных камней «дикаря», стали разводить костерок, такса распотрошила сумку и сожрала в ней всё съестное, оставила нам на закуску лишь пару солёных огурцов и лучину.
* * *
На обратном пути захожу на одиноко стоящий обочь Мёртвого хутора курган. Здесь древнее кладбище, заросшее одичавшей сиренью, акацией и терновником. Очищаю от устаревшего бурьяна могилку бабы Фени, потом недалеко от неё нахожу последнее пристанище Чекамасова Ивана Савельевича. «Чекамасу» поправляю завалившийся набок крест. Куда ни глянь, лежат под крестами одни и те же фамилии что на моём, что на этом берегу. Лобовы, Черенковы, Токмачовы, Власовы… Здесь можно отыскать и мою фамилию… Все казаки одного и того же десятого полка. Что же должно было случиться, чтобы на одной-единой земле войска Донского, среди родных могил, я стал здесь чужим, в страхе озираюсь по сторонам и боюсь пришлого наброда, который объявил эту землю своей?..
Уже в сумерках иду по знакомым улочкам умершего хутора. Вновь в одном из домов шелохнулись полуистлевшие занавески. Тихая жуть вокруг. У меня немеют щёки, и я вновь начинаю ждать выстрела. В доме жалобно плачет сыч. Это успокаивает – там нет никого, кого действительно стоит бояться. Вдруг что-то скрипнуло за моею спиной, послышались чьи-то шаги. Оборачиваюсь – нет никого, лишь покачивается на короткой цепи шест «журавля». Потирая виски, подхожу к известному с детства почерневшему от времени и осевшему на один бок срубу. Долго вглядываюсь в далёкое, покрытое всяческим мусором водяное окошко. Из небольшого тёмного зеркала отрешённо и холодно смотрят на меня равнодушным взглядом чьи-то глаза. С трухлявого сруба падают полуистлевшие части, внизу глухо булькает. Смотревшее на меня лицо качнулось, его обезобразила дикая, пугающая гримаса. Я отшатнулся от сруба.
– Хвенькин пришёл… – чей-то далёкий голос.
Оборачиваюсь – нет никого. Ветер…
Торопливым шагом иду к реке, там, за её потоком, моё спасение, а за плечами всё звучат и звучат с давних пор знакомые мне голоса:
– Хвенькин пришёл… Хвенькин пошёл…
* * *
В мае пришла ко мне Натаха, поставила у порога рюкзак.
– Переведёшь меня на ту сторону… – не спросила, не попросила – сказала, как о деле, давно со мною решённом.
– Натах… – растерялся я.
– Как хочешь… Я и без тебя дорожки помню… Кудину спокойней, если с тобой… – говорит она с деланым равнодушием.
Созвонился с Жекой.
– Да знаю… – выдохнул он. – Куда от неё денешься, придётся переправлять… А то попрётся сама наобум – все укровские мины перетопчет…
Вышли в полдень. Я было подхватил её рюкзак, но Натаха тут же его отняла. Сказала строго:
– На дорогу смотри. Своё бельишко я как-нибудь сама донесу.
– Бельишко, видать, бронированное?.. – возвращая увесистый рюкзак, усмехаюсь я.
– А ты думал!.. Там мамка поесть собрала…
– На весь голодный год?
Натаха промолчала.
Через лес шли молча, каждый думал о чём-то своём. Здесь всегда, даже в летний зной, прохладная сырость. Сладкой прелью пахнет поросшая молодой травой прошлогодняя листва. Пробивающееся сквозь ветви солнце редкой сетью колышется под ногами. Роясь над нашими головами, зудят комары, на высоком сухом вязе, у своего дупла, окликает нас свистом скворец, где-то в глубине леса на заросшей сагою старице гудит мошкара, коротко покрякивают утки, угрюмо стонут водяные быки. У края болотца резные ветви папоротника глушат поляны ландыша, лёгкий ветерок ещё доносит пьянящий их дух, но запоздалые колокольчики цветов уже, утратив белизну, подёрнуты ржавчиной.
В чаще начала свой счёт кукушка.
– Кукушка-кукушка… – только и успела произнести Натаха.
Птицу что-то спугнуло, и она, запнувшись на первом «ку-ку», смолкла.
– Эх… – огорчённо вздохнув, произнесла Натаха.
– А ты надеялась, что она тебе раз сто отсчитает? – усмехаюсь я.
– Надеялась…
– Если б я жил по кукушкиным отсчётам, то помер бы лет двадцать назад, – стараясь казаться беспечным, успокаиваю Натаху.
Та натужно рассмеялась, но было видно, что эта глупая считалка её опечалила.
– Через Мёртвый хутор пойдём? – спрашивает Натаха.
Киваю. В пути я не люблю разговоров.
– А почему через Мёртвый?
– Чтоб ты спросила…
– Понятно… – вздыхает Натаха и до самого брода не произносит ни слова.
Брод в этих местах порожистый, каменистый. Прикрыв глаза, я вслушиваюсь в противоположный берег. Никаких посторонних звуков, только ровное похрипывание перекатывающейся через камни реки.
– Отвернись, – говорит Натаха и, не дожидаясь, когда я отвернусь, начинает раздеваться.
Я не спешу, стараясь не упустить никаких мелочей, внимательно осматриваю окрестность. Ищу присутствие человека. Из Солёного ерика вышла пара косуль, за ними, неуклюже вихляя из стороны в сторону, подпрыгивал на тонких, ещё неокрепших ножках косулёнок. Косули осмотрелись, не торопясь пересекли падину и скрылись в зарослях прибрежной талы. Теперь я уверен: на той стороне нет никого постороннего.
– Ну, долго мне ещё стриптиз тут показывать? – говорит за спиной Натаха.
Подняв над собой одежду, молча шагаю в быстрый поток.
– Сань, а чего у тебя уши покраснели? – тяжело дыша, весело окликает Натаха. – Всё-таки подглядел за мною?..
– Было б там на что подглядывать… – осклизаясь на подводных валунах, злюсь на неё.
– Ах ты, паразит! Это у меня-то не на что подглядывать?! – искренне негодует Натаха. Провоцирует на то, чтоб я всё-таки оглянулся.
– Не резвись… – перейдя реку и всё ещё злясь на Натаху, не скрывая своего раздражения, говорю я. – Здесь тебе не сватовство Героя, – тихо нужно дышать. Поубавь своё сорочиное пение. Нет – заверну назад. Поняла?..
– Поняла… – шепчет сзади Натаха. – Это я так, со страха…
До Мёртвого хутора она, памятуя мою угрозу, молчала, но, взглянув на шевелящиеся в окнах полуистлевшие занавески, прошептала:
– Я всегда со страхом проходила эти места. Всё мне казалось: выскочит кто-то из этих хат, сгребёт в охапку…
– Да, жутковатые места… – соглашаюсь я.
– А с тобой почти не страшно…
Я не ответил. Зачем ей знать про мои страхи…
Жека, спрятав машину за поросшим тернами курганом, ждал нас в верховьях Солёного ерика.
– Принимай бойца! – кивнув на Натаху, весело говорю я.
Жека насмешливо окинул взглядом Натаху, но ничего не сказал. Та забросила на заднее сиденье свой рюкзак, щека её нервно передёрнулась.
– Ну, чего выставился на меня, как на юбилейный рубль? – грубо сказала она. – Поехали, что ли…
– Поехали… – согласно кивнул Жека, но остался стоять на месте.
Вдруг, совершенно неожиданно для меня, Натаха метнулась ко мне, чуть не опрокинув, повисла на шее, заплакала, запричитала, осыпала лицо моё поцелуями, измочила своими слезами.
– Санечка, Саня… Спасибо тебе…
Я лишь смущённо развёл руки. Наконец легонько отстранил её, перекрестил и поцеловал в лоб.
– Ух, нифига себе… – качнул головой Жека. – А меня, Натаха?..
– И тебя, Женечка… Потом, как приедем… Поехали, мой родной… – размазывая по щекам слёзы, шептала она.
* * *
В последних числах мая перед дождём сладко пахнут расцветшие гроздья акации. С запада небо затягивает серовато-синим пологом. Тихо и душно. Но вот в макушках деревьев зашумел верховой ветер, и воздух дохнул запахом скошенной накануне и уже подвявшей травы.
Ребята, которых привёл я сюда, спешно грузят в газельку свои рюкзаки. Глядя на заметавшиеся под ветром ветви акаций, Жека сказал:
– Ну, этот либо нагонит, либо разгонит…
– Нагонит… – говорю я. – Выболтаюсь по уши, пока дойду…
Постояв в раздумьи и глядя на стоящие стеной вдоль дороги, выметавшие колос озимые, Жека, словно и не слыша моих слов, добавил:
– Хочь бы не пронесло… В самый раз на озими, да и маслянка уже попёрла в рост…
Ещё помолчал.
– Кому только достанется… – вздохнул.
Вдали у Ольховских хуторов полыхнула молния, и лишь через минуту протрещал в небесах гром.
На прощанье обнялись.
– Скоро накроет… – глядя на лилово густеющую тучу, – сказал Жека. – Если чё – в Мёртвом хуторе пережди…
– Пережду, – согласно киваю я.
– Зудит… – вглядываясь в небо, говорит Жека.
– Что?.. А, беспилотник?..
– Хорошо, что дождь – потеряет…
Когда я спускался к Мёртвому хутору, дождь усилился. Мокрые штанины липли к ногам, жгли тело. В раздумьи я посмотрел на стоящий в тумане дождя деркульский берег, оглянулся на заброшенный дом бабы Фени.
«Пережду здесь…» – решил я и, разгребая мокрую траву, вошёл во двор. У крыльца огляделся, прислушался. Только звонкий стук капель о позеленевшую от времени черепицу да тяжёлые толчки сердца в груди. Осторожно переступив через подгнившую ступеньку, взошёл на порог. Вновь прислушался и только потом вошёл в заваленный всяческой никому не нужной рухлядью коридор. Одна дверь в дом, другая, распахнутая, в полуразрушившийся чулан. Сбив пыльную паутину, заглянул вовнутрь. Ничего не изменилось – в чулане также стоит у стены широкая лавка, на которой, выстроившись по размеру, чернеют старинные чугуны. На полу из грязного хлама выглядывает ручной сепаратор и знакомый с детства керогаз. Высунувшись из чулана, заглянул в переднюю комнату. Вновь прислушался – только лишь стук капель о черепицу, да скребётся о ставни раскачиваемая ветром ветка яблони.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































