Текст книги "Очерки по русской семантике"
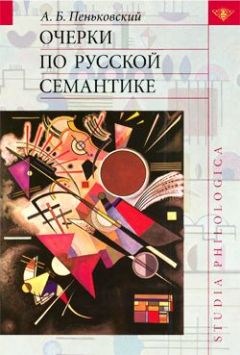
Автор книги: Александр Пеньковский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Образование подобных трансформов также и для фамилий со стандартными лично-именными антропонимическими основами типа Егорыч < Егоров, Романыч < Романов и т. п., а также для личных имен и их уменьшительно-ласкательных производных (Михалыч < Михаил, Димыч < Дима)[164]164
Так, в семье Глеба Успенского младший сын Александр (1874–1907) носил домашнее имя Шурыч, а Чехов называл свою племянницу, дочь Ал. П. Чехова Машу-Мосю Мосевной: «Крепко, крепко целую тебя – домой мне крепко хочется. Целую ребят, Шурыча» (Г. Успенский – А. В. Успенской, 10–12 марта 1883); «Деньги между тем крайне нужны, надобно Шурыча устраивать – платье, книги, квартира и т. д.» (Г. Успенский – В. М. Соболевскому, 10–15 августа 1885); «Не бранись вслух. Ты и Катьку извратишь и барабанную перепонку у Мосевны испачкаешь своими словесами» (А. П. Чехов – Ал. П. Чехову, 20–23 октября 1883). То же в литературном отражении: Лелишна < Леля (Л. Давыдчев. Лёлишна из третьего подъездам., 1970); Геныч < Гена (Г Молодцов. Это тоже весна//Учительская газета. 26 апреля 1975; В. Лихоносов. Тоска кручина, 1985). Ср. еще в рассказе В. Астафьева «Тельняшка с Тихого океана» (1985): «…он <мальчик> стал называть пана Стаса <своего отчима> пренебрежительно Стасыч…».
[Закрыть] еще более подрывает принцип единственности, предопределенности отчеств и создает для них – пусть только в неофициальной сфере – хотя бы эфемерную возможность выбора, т. е. тот самый признак, наличие которого принципиально отличает первое личное имя от всех других типов антропонимических единиц.
Дальнейшее развитие описанных выше отношений связано с таутонимическими реализациями рассматриваемой модели.
6.0. Таутонимические реализации представляют особый интерес, поскольку тождество основ личного и патронимического имени создает особые отношения между ними, существенно отличающиеся от отношений между компонентами гетеронимических реализаций, рассмотренных выше.
6.1. Обусловленные экстралингвистическим обычаем наречения сына (как правило – старшего сына, в редких случаях также и дочери) по отцу, таутонимические именования типа Иван Иванович, Александра Александровна и т. п. отличаются тем, что мотивированность выбора как признак первого личного имени получает в их составе открытое, эксплицитное выражение:


Очевидно, что в именованиях типа Иван Иванович выбор имени мотивирован именем отца (Иван Иванович с точки зрения изначальных отношений значит ‘сын Ивана, названный в его честь Иваном’[165]165
Ср.: «…Крепко и нежно тебя целую – твой единоутробный голубоглазый братец, крещенный Александром от отца также Александра» (А. А. Фадеев-Т. А. Фадеевой, 15 апреля 1953 г.)
[Закрыть]) и, следовательно, мотивированность этого выбора выражена именем Иван в основе отчества.
6.2. Этим, однако, не исчерпывается специфика таутонимических именований. Другая важная их особенность состоит в том, что личное имя, повторяющее имя отца его носителя, дополнительно мотивирует образование отчества. Учитывая это, отношения между компонентами таутонимических именований следует представить более полно, чем это показано на схеме (2).

Самое существенное здесь – это наличие двойной связи, мотивирующей образование патронимического имени. При этом основная для именований рассматриваемой модели мотивирующая связь а является слабой, парадигматической связью между отчеством и именем отца его носителя. Дополнительная же связь в, характерная исключительно для таутонимических именований, оказывает-ся сильной, синтагматической связью между двумя соседними именами в составе одного образования.
6.3. Выдвижение этой дополнительной связи на передний план и даже возможное превращение ее в основную, совершающееся при некоторых специфических условиях, существенно перестраивает отношения между компонентами именования:

Нетрудно убедиться, что общая тенденция развития патронимических имен, описанная выше, получает здесь особо благоприятные возможности. Патронимическая семантика отчества в таких случаях предельно ослабевает или даже вообще опустошается, и отчество становится вторым личным именем, выбор которого однозначно мотивируется первым. Связи, мотивирующие образование и выбор патронимического имени, совпадают по направлению, образуя круг, в котором отчество, лишенное внешних связей, замыкается на личном имени и обнаруживает тенденцию к превращению в элемент тавтологического сочетания, наделенный функцией усиления.
Механизм связей, показанных схемой (3), действует не только в обычных актах таутонимического наречения, но и в последующей жизни таутонимических именований, хотя в зависимости от тех или иных условий их использования может происходить и происходит пульсирующее переключение (3) ↔ (4), поскольку связи этого типа виртуально существуют в сознании говорящих.
7.0. Прямое обращение к механизму (4) в естественных условиях возможно лишь в актах наречения, связанных с такими критическими ситуациями, когда имя отца неизвестно или сознательно отводится. Ср., например, описание двух ситуаций наречения:
1) «В ближайший день, когда мать выходила на работу в вечернюю смену, решили нести его регистрировать.
– Как назовем-то? – осторожно спросила мать. Валя оглянулась на мать. Чего та ждала от нее? Может быть, про себя мать уже перебрала десятки имен, ни на одном не остановившись и зная, что все равно дочь назовет по-своему. – Вадимом назовем, – сказала Валя. Увидела, как в молчании дрогнули у матери губы. Отвернувшись, Валя добавила: – Имя красивое. Нравится мне. – Строгая девушка в загсе спросила: – Отчество как записать? – Валя, не глядя на мать, твердо ответила: – Вадимычем…» (А. Минчковский. Третий лишний // Аврора. 1973. № 12. C. 49);
2) «Сына Анечка назвала Андреем. И отчество дала ему такое же: Андреевич. Ей нравились эти сочетания одинаковых имен, звучало это, по ее мнению, очень весомо и артистично. Ведь есть же такой известный артист: Роман Романов. Или известный писатель: Сергей Сергеевич. Может быть, и ее Андрей Андреевич будет такой же яркой звездой, кто знает?» (С. Островой. Кикимора // Юность. 1973. № 11. C. 37).
В обоих случаях обстановка наречения «без отца». Но в первом – наречение с опорой на имя отца и в его честь. Во втором же – отец случайный, подлинное его имя неизвестно, а названное им недостоверно, неприятно и потому отвергнуто. Здесь открыто действует схема (4), с явной ситуацией свободного выбора отчества и эстетической мотивировкой его. В первом же случае работает механизм связей (3), замаскированный для непосвященных под ситуацию свободного выбора.
7.1. Однако наиболее чистым видом наречения «без отца» оказывается наречение детей «без роду без племени», от рождения лишенных семейных связей или волею обстоятельств насильственно вырванных из них. И если учесть, что в государственных актах семейного права, где нормы, регламентирующие присвоение отчеств, составляют наименее разработанный раздел [Белых 1970: 17–18], указанная ситуация вообще не предусмотрена, то будет очевидно, что наречение «без отца» в этой чистой его форме – это тот самый случай, когда нарекающим предоставляется полная и, казалось бы, ничем не ограниченная свобода выбора отчества.
Тем более показательно, что возникающая в этой ситуации неопределенность выбора отчества стихийно разрешается, как правило, естественным и не вынужденным обращением нарекающих к механизму связей типа (4). Для круглых сирот избираются основанные на «круге» таутонимические («круглые» – по народной терминологии) именования.[166]166
Легко понять, что описанный здесь механизм образования основанных на круге таутонимических именований может работать и при прямо противоположном направлении определяющих эту работу связей, когда первый член именования выводится из второго в процессе обратного словообразования с кажущимся возвращением к стандартной схеме. Это имеет место в ситуации, когда исходным пунктом порождения таутонимов оказывается фамильное имя именуемого, легкотрансформируемое, как было показано выше, в квазипатроним (Горланов → Горланович / Горланыч), откуда затем свободно выводится квазиимя (Горланович / Горланыч → Горлан). Ср. Свербей Свербеевич – принятое в ялуторовском кругу ссыльных декабристов дружеское шутливо-фамильярное именование Николая Дмитриевича Свербеева (1829–1859), чиновника при Н. Н. Муравьеве-Амурском, жениха, а потом мужа дочери С. П. Трубецкого (см.: Я И Пущин Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 292, 324, 326, 327, 560). То же в литературном отражении. Например, в пьесе Н. С. Лескова «Расточитель» мастеровой Челночок шутливо называет купца Калину Дмитрича Дробтонова Дробадоном Дробадонычем (д. 4, я. 3).
При кажущемся внешнем сходстве совершенно иная ситуация в рассказе Л. Андреева «Баргамот и Гараська» (1898), где босяк Гараська иронически называет городового Ивана Акиндиныча Бергамотова Бергамотом, преобразуя его фамильное имя в прозвище, и уже от этого последнего образует квазиотчество Баргамотыч, а затем и целостное «круглое» именование по типу имен смешных страшилищ: «– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу! Как ваше драгоценное здоровье?…» И. И. Пущин, несомненно, никогда Н. Д. Свербеева Свербеем (просто Свербеем!) – ни в глаза, ни за глаза – не называл…
[Закрыть]
Так, в одном из вариантов былины об Илье Муромце и сыне его Сокольнике, не знающем своего отца, этот незаконнорожденный, «сколотыш», называет себя… Ерусланом Еруслановичем (см.: Былины Севера. Т. II. М.; Л., 1951. С. 675). Так в русских сказках сироты нередко именуются и именуют себя таутонимическими именованиями: «Был некто Елизар Елизарович, был круглой сирота, не отца не матери…» (Я. Е. Ончуков. Северные сказки. СПб., 1908. № 268. С. 548). Таков же Иван Иванович по прозвищу Знайдзен (‘найденыш’) в одной из белорусских сказок (Е Р. Романов. Белорусский сборник. Вып. VI. Могилев, 1901. С. 23).
То же в русской художественной литературе, где таутонимы выступают нередко как сиротские имена, отражая действительное, объективное явление русской антропонимической жизни: «Рос он <Аннушкин Митрий Митриевич> безотцовщиной. Отца не знал совсем. Мать померла, когда ему и десяти не было…» (Я. Жернаков. Трое во ржи // Нева. 1974. № 6. С. 164).
Ср. развернутое ретроспективное описание детдомовского варианта наречения «без отца»: «В стороне, в снегу, лежал деревянный обелиск – он сразу бросался в глаза, потому что был выкрашен в красный цвет. На нем белела табличка с надписью “Красноармеец Семьянинов Григорий Григорьевич. 1919–1940”. Странно было это величанье по отчеству. Я как-то и не думал раньше о том, что у Гришки есть отчество, хотя, конечно, знал, что в паспорте оно есть, и именно Григорьевич. У нас с ним были отчества по нашим же именам, – ведь никто не знал, как зовут наших отцов, и при выдаче паспортов мы как бы стали сами себе отцами…» (В. Шефнер. Сестра печали, 6). Это – литература. А вот отражаемая ею жизнь: «Есть в Суздале человек почти забытой профессии – звонарь. Его имя, отчество, фамилия – Юрий Юрьевич Юрьев. Так в военную годину открестили его, малыша, не помнящего родителей, погибших в Ленинграде…» (Советская культура, 26 мая 1987 г.). Ср. здесь же именования завуча техникума – Петра Петровича и преподавателя военного дела Юрия Юрьевича, о первом из которых выясняется, что он был «вроде нас – без роду без племени, воспитывался еще в царское время в благотворительном приюте для подкидышей».
7.2. Описанные выше различия между двумя механизмами образования таутонимических именований обнаруживаются только в акте наречения и в последующей их антропонимической жизни оказываются несущественными. Однако несущественное в обычном, общеупотребительном языке может оказаться и действительно оказывается существенным в художественной поэтической речи. Здесь углубляется также и противопоставление таутонимических и гетеронимических именований. Те и другие обнаруживают особые потенции художественного преобразования и используются художниками слова для того или иного членения антропонимического и – шире – ономастического пространства художественных текстов (см. об этом в работах [Пеньковский 1986-6, 1988, 1989-а, 1989-6], а также в наст. изд., с. 366–369, 370–394).
Литература
Алексеев 1970 – Алексеев Д. И. К истории аббревиации личных имен// Антропонимика. М., 1970.
Белых – Белых Н. А. Некоторые правовые и социологические вопросы антропонимики//Личные имена в прошлом, настоящем и будущем. М., 1970.
Данилина 1972 – Данилина Е. Ф. Имена-неологизмы (словообразование) //Лексика и словообразование русского языка. Пенза, 1972. С. 16–24.
Иванов и Топоров 1965 – Иванов Вяч. В., Топоров В. Я. Славянские языковые моделирующие системы. М., 1965.
Клубков 2001 – Клубков Я А Иванов, Петров, Сидоров // Альманах «Канун». Вып. 6. Чужое имя. СПб., 2001.
Копелиович 1998 – Копелиович А. Б. Синтагматика форм I. Согласование и параллелизм // Филология. Международный сборник научных трудов (К 70-летию Александра Борисовича Пеньковского). Владимир, 1998. С. 109–118.
Масанов 1958 – Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов. Т. III, M., 1958.
Никонов 1970 – Никонов В. А. Задачи и методы антропонимики//Личные имена в прошлом, настоящем и будущем. М., 1970.
Пеньковский1986-а – Пеньковский А. Б. Об одном случае экспликации синтаксического нуля // Проблемы семантики предложения: выраженный и невыраженный смысл. Красноярск, 1986.
Пеньковский 1986-6 – Пеньковский А. Б. Русские персонифицирующие именования как региональное явление восточнославянского фольклора // Лексика и грамматика севернорусских говоров. Межвузовский сборник научных трудов /Отв. ред. В. И. Чернов. Киров, 1986.
Пеньковский 1988 – Пеньковский А. Б. Ономастическое пространство русского былевого эпоса как модель его художественного мира // Язык русского фольклора. Меэвузовский сборник/Отв. ред. З. К. Тарланов. Петрозаводск, 1988.
Пеньковский 1989-а – Пеньковский А. Б. О семантической категории «чуждости» в русском языке // Проблемы структурной лингвистики -1985-1987 /Отв. ред. В. П. Григорьев. М., 1989.
Пеньковский1989-б – Пеньковский А. Б. Именования, построенные по модели «имя + отчество» в русской художественной речи // Стилистика и поэтика: Тезисы Всесоюзной научной конференции (Звенигород, 9-11 ноября 1989). Вып. 2. Институт русского языка АН СССР – МГШТЯ им. М. Тореза. М., 1989.
Пеньковский 1999 – Пеньковский А. Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М.: Индрик, 1999.
Подольская 1988 – Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. С. 124
РЯСО 1968 – «Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка». М., 1968.
Степанов 1973 – Степанов Ю. С. Современные связи лингвистики и логики//Вопросы языкознания, 1973. № 4.
Суперанская 1970 – Суперанская А. В. Личные имена в официальном и неофициальном употреблении//Антропонимика. М., 1970.
Суперанская 1973 – Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., 1973..
Русские личные именования по модели «имя + отчество» 365
Успенский 1969 – Успенский Б. А. Из истории русских канонических имен. М., 1969
Успенский 1971 – Успенский Б. А. Мена имен в России в исторической и семиотической перспективе // Труды по знаковым системам. Т. V. Тарту, 1971.
Черейский 1988 – Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1988.
Янко-Триницкая 1973 – Янко-Триницкая Н. А. О некоторых особенностях имен собственных // Уч. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. Т. XLII. М., 1957.
Именования, построенные по модели «имя + отчество», в русской художественной речи
0.0. Специфически русская двухкомпонентная модель личного и персонифицирующего именования по имени-отчеству имеет два типа регулярных реализаций:
0.1. С нетождественным наполнением компонентов модели – гетеронимические именования, или гетеронимы, типа Петр Андреевич, Марья Александровна (ГИ).
0.2. С тождественным наполнением компонентов модели – таутонимические именования, или таутонимы, типа Петр Петрович, Александра Александровна (ТИ).
1.0. Между ГИ и ТИ существуют глубокие психо-, социо– и собственно лингвистические различия, обусловленные различиями в исходных ситуациях наречения. Одни из них лежат на поверхности и устойчиво сохраняются, другие являются скрытыми и обнаруживают себя обычно только в акте наречения, оказываясь несущественными в последующей естественной жизни Г– и Т-именований.
2.0. Однако существенное и несущественное в обычной речевой практике могут менять свои знаки на обратные в художественной речи, где Г– и Т-именования, углубляя или же, напротив, стирая свойственные им противопоставления, выявляют множественные потенции художественного преобразования, широко используемые художниками слова (и вообще всеми «говорящими художественно»).
2.1. Так, противопоставление ГИ – ТИ по основополагающему признаку «нетождество – тождество наполнителей компонентов модели» подвергается в художественной речи двоякому преобразованию:
2.1.1. «Нетождество – тождество» → «наличие – отсутствие контраста» с маркированным первым членом. Это противопоставление не ограничивается поверхностными лексическими различиями между основами личного имени и патронима, но охватывает и все другие, сопутствующие их признаки, не релевантные в быту, но релевантные в художественной речи (первичное, доантропонимическое и/или вторичное, народно-этимологическое и отантропонимическое значение; литературно-художественная традиция; мифологическое содержание; символическая функция; стилистические и экспрессивно-оценочные функции; признаки принадлежности к тому или иному национальному именнику, социальная закрепленность; фонетический состав и фонетическое «значение» и др. под.). В соответствии с принципом «художественного приращения» все такие признаки могут быть базой вторичной (и третичной) семантизации именований, источником их новых смыслов, значений и значимостей. Контраст между компонентами Г-именований, интегрирующих эти признаки, как и всякий контраст, градуален. Поэтому гетеронимическая модель воплощается в художественной речи во множестве многотипных образований, выстраивающихся в градуальные ряды, на одном полюсе которых находятся ГИ с компонентами, контрастирующими до несовместимости (ср.: Вакх Онуфриевич у Д. В. Григоровича, Акулина Арчибальдовна у А. Аверченко, Татьяна Робинзоновна у В. Шефнера), а на другом – ГИ с компонентами, общность которых приближается к тождеству. Это значит, что в художественной речи граница между ГИ и ТИ, в отличие от ситуации в естественной речи, является такой же зыбкой и неопределенной, как и граница между именами собственными и именами нарицательными. Лексический контраст свободно совмещается с единством, общностью и/или тождеством по другим признакам, что приводит к образованию смешанных Г-/Т-именований. Таковы, например:
а) лексические ГИ // семантические ТИ: Тигрий Львович (А. Н. Островский), Сила Мамонтович (Д. В. Григорович), Сила Самсонович (И. С. Тургенев) и т. п.
б) лексические ГИ // фонетические ТИ: Ада Адамовна (В. Дорошевич), Ада Адольфовна, «змея» (Т. Толстая), Сысой Псоич, Дарья Мардарьевна (А. Н. Островский), Варвара Уваровна (А. Ф.Горбунов) и т. п.
Читательское восприятие таких ГИ/ТИ осуществляется в ре-жиме пульсирующего переключения от ГИ к ТИ, в чем и сокрыта «тайна» их художественной силы. Совпадая с естественными ГИ, они функционируют как ТИ, оказываясь квазигетеронимами. От-сюда эквивалентность таких именований, как Иван Петрович = Иван Иванович = Петр Петрович = Петр Иванович, на основе которой выработан прием удвоения или раздвоения персонажей, инвариантная единосущность которых символизируется тождеством их компонирующих основ. Ср.: Евсей Евтеевич и Евтей Евсеевич, коллежские секретари (Я. Бутков).
2.1.2. «Нетождество – тождество» → «отсутствие – наличие повтора» с маркированным вторым членом, который представляет фигуру, от времен индоевропейской древности наделенную экспрессивной силой. Механизм этого преобразования находит свое объяснение в механизме внешних и внутренних связей патронимического имени. В естественной жизни Г– и Т-именований патронимы в их составе функционируют нормально как вторая их часть – при выключенных внешних и внутренних связях. В художественной речи этот механизм перестраивается. ГИ восстанавливают внешнюю, парадигматическую связь второго имени, восстанавливают и усиливают его патронимическое значение, поднимая его до уровня генеалогии. ТИ оставляют эту связь выключенной, что позволяет использовать их в качестве знака лица, вырванного из генеалогического ряда. Отсюда их функция сиротских именований. В то же время такой механизм ТИ позволяет не только представить любое собственное имя в повторе, но и повтор апеллятива представить как имя собственное. Отсюда мифологические, животные, предметно-понятийные ТИ в былевом эпосе, волшебной сказке и в низших фольклорных жанрах и – с переносом – в жанрах литературы, ориентированных на фольклор (Ветер Ветрович, Месяц Месяцович, Ерш Ершович, Кит Китович и т. п.). На базе таких ТИ средствами различных видов аттракции создаются квазигетеронимы типа Оспа Осиповна, Сова Савельевна, Мороз Снегович, Сахар Медович, Изумруд Сердоликович, Скипидар Купоросыч, Флакон Стаканыч и др.
2.2. Основанное на соотношении частоты их употребления в естественных условиях противопоставление ГИ – ТИ по признакам «частотное / обычное – редкое, исключительное» обнаруживает тенденцию к художественному преобразованию в таких типичных направлениях, как «редкое» → «комическое», «редкое» → «гротескно-отрицательное», «редкое» → «пародийно-фантастическое» и т. п. Отсюда необозримая галерея таутонимических фольклорных и литературных персонажей от «смешных страшилищ» русского былевого эпоса до героев 16-ой страницы «Литературной газеты».
3.0. Включенные в намеченную выше систему противопоставлений, ТИ должны быть признаны одним из наиболее мощных художественных средств организации и членения антропонимического пространства (АП) художественных текстов.
3.1. ТИ как средство организации АП. Традиционный прием «таутонимических сгущений» (Н. А. Некрасов, Я. Бутков, А. Чехов).
3.2. Членение АП по ГИ – ТИ и его содержательное наполнение: а) «свой мир» – «чужой мир» (в русском былевом эпосе); б) «реальное» – «фантастическое» (в сказках В. Шефнера; в) «передний план» – «задний план» (в «Записках охотника» И. С. Тургенева); г) «задний план – передний план» (в романе Ф. В. Булгарина «Иван Иванович Выжигин»); д) «мир подчиненных» – «начальственные сферы» (советская проза 30-80-х гг.) и др.
Русские персонифицирующие именования как региональное явление языка восточнославянского фольклора[167]167
Расширенный и переработанный вариант публикации 1976 г. Переработка осуществлена при поддержке РГНФ (гранты 01-04-00-201-а и 01-04-00-132-а).
[Закрыть]
(1) На другой день старик пошел в гости к другому зятю, к месяцу. Пришел. Месяц говорит: – Чем тебя потчевать? – Я, – отвечает старик, – ничего не хочу. – Месяц затопил про него баню [Афанасьев 1982: 62].
(2) – Месяц, месяц, где ты был? – На том свете. – Что ты видел? – Мертвецов. – Что они делают? – Лежат [Попов 1903: 224].
(3) – Князь молодой, рог золотой, был ли ты на том свете? – Был. – Видал ли ты мертвых? – Видал. – Болят ли у них зубы? – Нет, не болят. – Дай Бог, чтобы и у меня раба Божия никогда не болели [Майков 1869: 37].
(4) Ой, місяцю-місяченьку, и ти, зоре ясна, ой свити там на подвiррї, де дiвчина красна [Чубинский 1876: 53].
(5) Ой, месяцу-месячку, чом ты ня ўсходишь? Ой ты, мой миленький, чаму ни приходишь? [Пеньковский 1949–1965].
Приведенные фрагменты восточнославянских фольклорных текстов демонстрируют роль олицетворения как принципа мифологического и мифопоэтического понимания устройства мира и содержательной (сюжетно-композиционной организации его описаний (ср.: [Роднянская 1968: 423–424]), двойственное положение ключевых имен (старик, месяц, князь молодой, заря) на грани между двумя категориальными их классами (собственных и нарицательных) [Лотман, Успенский 1973: 287], и, наконец, разнообразие используемых здесь языковых средств персонификации. Под средствами персонификации здесь понимается все то в языке (и в речи-тексте), что является выражением соответствующих результатов работы мифологического сознания и в то же время служит ему опорой для повышения имени в ранге, для утверждения его как имени собственного, как имени уникального целостного объекта, «не сводимого к человечности (или вообще к тем или иным признакам homo sapiens)» [Лотман, Успенский 1973: 285].
В этой связи должны быть специально отмечены и выделены вокативы, которым принадлежит особая роль в грамматике мифологического пласта языка, образуемого собственными именами и тяготеющими к ним именами других типов [Лотман, Успенский 1973: 277–278, 290]. Можно предполагать, что функция персонификации как раз и является той силой, которая вызывает к жизни вокативные образования как особые морфологические единицы, обусловливает их особое положение в составе высказывания, отнюдь не сводимое к положению осложняющих членов, находящихся вне предложения или «при» нем (ср. забытые мысли Потебни [Потебня 1958: 101]), и их изначальное вхождение в заглавную часть парадигмы имени[168]168
Ср. у Потебни: «Я в отличие от прежнего своего мнения… теперь считаю верным старинное мнение, противопоставляющее именительный и звательный как прямые падежи, т. е. падежи субъекта и слов, согласуемых с ним, остальным косвенным падежам объекта» [Потебня 1958: 101].
[Закрыть] и объясняет их способность не только выдвигаться в качестве морфологически исходных форм имени (божа < боже! как киса – кис-кис! [Лотман, Успенский 1973: 290],[169]169
Ср. влад. – поволжск. детск. кока, – и, общ. р. ‘крестный отец’, ‘крестная мать’, откуда в результате расщепления кока, – и, ж. р. ‘крестная мать’ и ко-кай, – я,м. р. ‘крестный отец’.
[Закрыть] но и занимать первое место в парадигме, принимая на себя функции именительного падежа; ср. укр. и западнорусские фамилии типа Сиротко, Ломако, Товпеко (ср. [Потебня 1958: 103]) и до сих пор остающиеся загадочными (если пытаться объяснять их фонетически) др. – новгородск. формы им. пад. ед. ч. типа Иване, Павле, Петре.
Очевидно, однако, что в приведенном выше материале, иллюстрирующем персонификацию месяца, собственной персонифицирующей силой обладают только укр. и зап. – брянск. (из б-р.) морфологические вокативы (місяцю-місяченьку! И месяцу-месячку!), тогда как русские их соответствия не персонифицируют, а персонифицированы, и лишь постольку, поскольку занимают синтаксическую позицию обращения и/или находятся в общей олицетворяющей стихии текстов специфической (диалогической, вопросо-ответной) структуры и соответствующих жанровых и семантических типов.[170]170
О семантических типах текстов см. [Золотова 1982: 300–315]. Что касается именования князь молодой, рог золотой в примере (3), то оно восходит к праславянской древности (ср. польск. ksie_zyc, укр. молодик ‘месяц’) и, будучи связанным со специальным мифологическим циклом индоевропейского происхождения (ср. [Иванов, Топоров 1965: 132–137]), представляет перифрастическое переименование, которое общим средством и приемом персонификации быть не может.
[Закрыть] Сказанное относится не только к одиночным вокативам, но также и к вокативам, усиленным благодаря повтору (простому или с гипокористическим осложнением), поскольку образования такого рода, будучи генетически связанными с позицией и функцией обращения, распространились на все синтаксические позиции имени. Ср.: Полюшко-поле неубрано стоить…; Як край поля-поля девочка ходила…; В поле-полюшке никого не видать… и др. под. [Пеньковский 1949–1965]. То же имеет место в бытовой антропонимической практике. Ср. в литературном отражении: «…луковицы эти я повезу в город Саратов своей двоюродной сестрице Наде-Надежде…» (С. Залыгин. Рассказы от первого лица, 1979).[171]171
Специальный анализ таких повторов см., например, в работе [Гілевіч: 1975]. Ср. также разнообразные вырожденные вокативы в начальных и конечных возгласах-припевах обрядовых песен, являющиеся по происхождению формулами заклятий (ср. [Чичеров 1957:96]).
[Закрыть]
Таким образом выясняются те условия, которые привели к возникновению специфически русских (лишь отчасти и исторически вторично – также и белорусских) персонификаций, план выражения которых приведен в соответствие с функционально-содержательным планом благодаря включению нарицательных имен в новые национальные антропонимические модели личных именований. Основную группу таких персонификаций, сложившихся на относительно позднем этапе развития мифопоэтического мышления и народной смеховой культуры, составляют именования, построенные по модели «имя + отчество» (первоначально чуждой украинской и белорусской антропонимике[172]172
Ср. замечание автора аннотации к «Белорусским песням» П. Бессонова (Ч. I. Выи. І. М, 1871 ([Русская старина», 1872. Кн. 3. С. 3] об «отвращении белорусов к именам с отчествами», что справедливо в отношении южной и центральной частей Белоруссии, но несправедливо в отношении ее северовосточной части, где уже в середине XIX в. и в говорах, и в культуре, и в фольклоре – сказывалось в большей или меньшей степени великорусское влияние. Ср. явно подновленный текст заговора: «Упрошаю хозяина домового, полявого, выгонного, межавого и самого старшого – Дзяменыщя Дзяменъцевича, и цябе, Кляменьций Кляменьцевич, и цябе, Хведор Хведорович, и цябе, Аграсим Аграсимович!» [Романов 1894: V, 137].
[Закрыть]). Развитие, следовательно, шло от морфологических вокативов-персонификаций типа месяцу-месячку! к синтаксическим вокативам-персонификациям типа месяц-месяц! а от этих последних к квазиантропонимическим персонификациям типа Месяц Месяцович! Ср. в литературных отражениях: «Месяц, месяц, мой дружок, Позолоченный рожок!» (А. С. Пушкин. Сказка о мертвой царевне) – и: «Наш Иван… В терем к Месяцу идет и такую речь ведет: – Здравствуй, Месяц Месяцович!..» (П. П. Ершов. Конек-горбунок)6.
Особенности структуры именований типа Месяц Месяцович (в работе [Пеньковский 1976], а также в наст. изд., с. 311–364 я предложил называть их таутонимическими, или таутонимами) и специфический механизм внутренних и внешних связей их компонентов (см. [Там же]) делают эту модель идеальной формой и опорой мифологического мышления, ибо позволяют не только пред-ставить любое собственное имя в повторе, но и повтор нарицательного имени представить как имя собственное, или – точнее – как Имя Собственное. В этом отношении таутонимическая модель для апеллятивов в текстах, имеющих лишь устную традицию, исполняет функцию, аналогичную той, какую в письменных текстах (обычно сакральных и поэтических) имеет прописная буква, используемая не просто как знак собственного имени, но как знак повышения имени в ранге, как знак его персонификации и мифологизации. В связи с этим должны быть отмечены и подчеркнуты: уникальная – на фоне таутонимических образований других типов[173]173
Ср. единичные таутонимы типа Бел Белянин [Афанасьев 1957:1, 231]; Ворон Воронище [Черепанова 1983: 204]; Горе-Горяин [Морозова 1977: 234]: ёр ерской [СРНГ 1972: 8, 363]: Дуб-Дубовик [Новиков 1974: 146]: жид-жидовик [СБ 1916: 87]; Заря-Заряница [Пулькин 1973: 19]; змея змеиная [Романов 1891: V, 108]; змея-змеища [Романов 1891: V, 108]; Ляга-Лягица [Демич 1912:1,5]; Плешь-Плешавница [Новиков 1974: 79]: Русая Руса [СС 1973: 16]. Ср. также: Томаша-Томашиха-Томашева [Виноградов 1907:3,75].
[Закрыть] – универсальность этой модели, характеризующейся по существу неограниченной (в лексическом и морфонологическом плане) свободой наполнения ее компонентов, ее высокая информативность; ее идентифицирующая и дифференцирующая способность и, как следствие, – не зависящая от синтаксической позиции, типа текста и других внешних факторов и условий исключительная по мощности персонифицирующая сила ее реализации.
Не случайно поэтому, что в художественном универсуме русского былевого эпоса таутонимические образования рассматриваемого типа образуют обширный корпус и используются в последовательном противопоставлении гетеронимическим именованиям героев «своего» мира – типа Илья Иванович Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Дюк Степанович и мн. др. под., как средство именования мифологических персонажей «чужого» мира и чуждой – этнически, хтонически, предметно-субстанционально-«нечеловеческой» природы.
Гетеронимические именования героев «своего мира» воплощают живую преемственность поколений, в линейном ряду которых индивид оказывается носителем связей настоящего с прошедшим и будущим. Знаком этих линейных связей является его личное имя, которое воспроизводится в отчестве его детей, и его гетеронимическое отчество, которое воспроизводит имя его отца. Ср. трех-членные ряды типа Константин Добрынич – Добрыня Никитич – Никита Романович.
Гетеронимическим именованиям такого типа противопоставлены персонифицирующие именования персонажей «чужого» мира – именования-таутонимы, построенные на тавтологическом повторе, на круге. Далеко не исчерпывающий список былинных именований такого типа содержит образования более чем от тридцати основ. Во главе его – в нарушение азбучного порядка – должно быть поставлено хрестоматийно известное именование Батыги Батыговича со всеми его словообразовательными вариантами, каковы: Батей Батеевич [Ефименко 1877: 1, 27], Ботиян Ботиянович [БС 1951: II, 197], Табатыга Табатыгович [БС 1951: II, 477] и др. Сюда же, возможно, и Абатуй Абатуевич [Ончуков 1904: 264]. А далее Антоломан Антоломанович [Рыбников 1909–1910: I, 316], Афромей Афромеевич [Ончуков 1904: 264; Данилов 1938: 97], Вахраме(и)й Вахраме(и)евич [БПК 1916: 132; БЗП 1960: 195], Во(е)з(ь)вяк Во(е)з(ь)вякович [Гильфердинг 1951: III, № 254], Волод(т)оман Волод(т)оманович [Григорьев 1904: I, 275; Шуб 1956, 228], Елизар Елизарович [Шуб 1956: 223]; Испануйло Испануйлович [БПК 1916: 390]; Калин (Каин) Калинович [Данилов 1938: 120; Марков 1901: 39], Кастрюк Кастрюкович [БС 1912: II, 481], Небрюк Небрюкович [Марков1901: 184], Кудреван Кудреванович [Шуб 1956: 228], Курбан Курбанович [БЗП 1960: 205–206], Полкан Полканович [БС 1951: II, 349], Темрюк Темрюкович (Демрюк Демрюкович) [БС 1951: II, 481 ел. ], Федошейко Федошейкович [Шуб 1956: 228]; Ячман (Ячмонайло) Ячмонайлович [Шуб 1956: 222] и многие др. (см. об этом в работах [Пеньковский 1988; 1989], а также в наст. изд., с. 311–365).[174]174
Ср. отражение гой же оппозиции, но в перевернутом виде, с точки зрения представителя «чужого» мира: в исторической песне «Мы вечор в торгу горювали…» полонянка, захваченная русскими, в ответ па предложение генерала выйти замуж за его сына говорит: «Не хочу с тобой говорити, / И нейду, нейду в Русью замуж За любимого твоего сына. За Ивановича Ивана, / За российского генерала.…» [ПСЯ 1958: 263]. Здесь находит свое отражение тот наивный взгляд на мир, в соответствии с которым не только внешность, не только имя, но и профессия и чин отца являются наследуемыми и неизменно воспроизводимыми в детях сущностями. Ср., с одной стороны: «Женись, брат Василий, и привези мне маленького Васиньку, которого бы я расцеловал…» (П. Д. Цицианов В. Н. Зиновьеву, 3 марта 1787// Русский архив, 1872. Кн. 3. Вып. 11. С. 2165), а с другой: «[Кочкарев] Тут, вообрази, около тебя будут ребятишки, ведь не то, что двое или трое, а может быть целых шестеро, и все на тебя как две капли воды. Ты вот теперь один, надворный советник, экспедитор или там начальник какой, бог тебя ведает; а тогда, вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие такие канальчонки…» (Н. В. Гоголь. Женитьба, я. XI). Ср. другой вариант этот текста: «…около тебя будут все маленькие канальчонки, надворные советничонки…».
[Закрыть]
Не являясь отражением реальных антропонимических отношений, таутонимические именования на ономастической карте «чужого мира» должны рассматриваться как особое художественное средство былинной поэтики, преображающее действительный мир и тем самым выражающее особое отношение к этому миру, особый взгляд на него. Как было показано в работе [Пеньковский 1989] (см. также наст. изд., с. 13–49), этот особый взгляд на мир выражается поговорками типа «бур черт, сер черт – всё один бес» «серая собака, черная собака – всё один пес». В мире, воспринимаемом сквозь призму такой абстракции, события и индивиды лишаются индивидуальных черт, оказываются все на одно лицо, обнаруживая только то, что «соответствует заложенному в мире образцу» [Гуревич 1972: 88]: «Стали рядами их целые тысячи; платья у всех одноличные, точно с одного плеча; нельзя их различить одного от другого ни по волосу, ни по голосу, ни по взгляду, ни по выступке» [РСК 1947: 181]. Персонаж поэтому оказывается представителем однородного ряда, из которого он актуально выделяется только в силу занимаемого им положения. Взятый в синхронии, этот ряд выступает как толпа. Взятый в диахронии, он представляет генеалогическую линию, состоящую из тождественных звеньев. И так же, как разбитое и уничтоженное в богатырской битве вражеское войско наутро воскресает из мертвых, чтобы начать новое сражение, так Батыга-отец сменяет Батыгу-деда, чтобы в свой черед уступить место Батыге-сыну. Все они Батыги и все – Батыги Батыговичи: «А й наеде Батыга Батыгович Со своим со сыном со Батыгушкою» [Гильфердинг 1951: III, № 18].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































