Текст книги "Очерки по русской семантике"
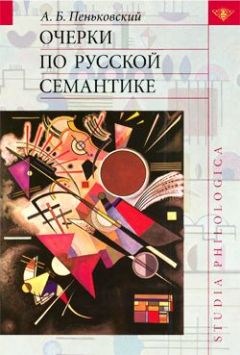
Автор книги: Александр Пеньковский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
Тимофеевич или Никифорович?
Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!
А. С. Пушкин
3 декабря 1833 года Пушкин записал в своем дневнике: «Вчера Гоголь читал мне сказку: “Как Иван Иванович поссорился с Иваном Тимофеевичем”, – очень оригинально и очень смешно» (Собр. соч.: В 10 т. М., 1978. Т. 8. С. 25; далее – только том и страница).
Прочитав эти строки, мы сразу же вспомним хорошо знакомую со школьных лет гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», посмеемся еще раз над ее грустно-смешными героями, отметим пушкинскую оценку («очень оригинально и очень смешно») и, конечно же, задумаемся. Два вопроса обязательно встанут перед нами: почему Пушкин называет гоголевскую повесть «сказкой» и почему Иван Никифорович оказывается у него Иваном… Тимофеевичем?
Достаточно заглянуть в «Словарь языка Пушкина», прочесть в нем соответствующую статью, чтобы убедиться, что Пушкин – в согласии с нормами литературного языка своего времени – употребляет слово сказка не только в том привычном значении, в каком используем его мы (народные песни и сказки, сказки Пушкина), но также и в более широком плане – применительно к любому небольшому по объему литературному произведению в стихах или в прозе. В условиях непринужденного общения и вообще в тех случаях, когда точное жанровое обозначение не было необходимым, сказка для Пушкина – это и поэма, и рассказ, и повесть. И если он мог – в переписке с друзьями и даже в печатных текстах – называть сказками собственные не-сказки (например, поэму «Граф Нулин» или «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»), то тем более понятно использование этого слова в дневниковой записи (в записи для себя) о произведении, которое было воспринято лишь на слух, при устном чтении, когда название могло быть прочитано не полностью, без первых слов (так, как его и записал Пушкин).
Объяснить так же просто и уверенно второе переименование, к сожалению, не удастся. Не удастся потому, что это не вопрос, на который можно ответить, и не задача, которую можно решить, а загадка, которую нужно разгадывать.
Начнем с размышления над тем, какое отчество (Тимофеевич или Никифорович) было первым и кто произвел переименование – Гоголь или Пушкин? Обсудим следующие две возможности:
Могло быть так. Второй Иван в «Повести…» Гоголя был первоначально Тимофеевичем, а Пушкин записал то, что услышал и правильно запомнил. В таком случае другое отчество – Никифорович – было дано герою Гоголем в процессе дальнейшей его работы над «Повестью…», то есть после того, как он прочел ее Пушкину второго декабря 1833 года.
Могло быть и иначе. Второй Иван в «Повести…» Гоголя был и остался Никифоровичем. Но тогда другое отчество – Тимофеевич – возникло под пером Пушкина при записи по памяти, на другой день после чтения, в результате какой-то ошибки.
Какую из этих двух возможностей предпочесть? Какая из этих двух версий соответствует действительности? Проще всего было бы обратиться к рукописям гоголевской «Повести…».
Увы! Рукописи «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», как, впрочем, и рукописи многих других произведений Гоголя, не сохранились. Этот путь закрыт.
Попробуем взглянуть на ситуацию, исходя из того, что известно об истории публикации «Повести…» Гоголя и о его творческих связях с Пушкиным в начале 30-х годов.
К концу 1833 года «Повесть…» была закончена, переписана на-бело и отправлена издателю. 9 ноября 1833 года Гоголь в письме к М. А. Максимовичу сообщил, что она находится у А. Ф. Смирдина, в альманахе которого «Новоселье» и была впервые опубликована в 1834 году. Однако выпустить (выдать, как тогда говорили) повесть в свет без одобрения того, кто был для него высшим литературным авторитетом, Гоголь, очевидно, не мог. Так (хотя и с опозданием, поскольку Пушкина несколько месяцев не было в Петербурге) состоялось то чтение, которое Пушкин отметил в своем дневнике. Пушкин, за два года до этого благословивший издание «Вечеров на хуторе…», стал восприемником и новой повести Гоголя.
Если предположить, что в том тексте, который Гоголь прочитал Пушкину 2 декабря 1833 года, второй Иван был Тимофеевичем, то замену этого отчества на Никифорович Гоголь должен был бы произвести сразу же после чтения у Пушкина (чтобы успеть известить издателя об этой важной поправке) и, надо полагать, по его – Пушкина – рекомендации и совету. Но тогда и сам Пушкин, вероятно, упомянул бы об этом факте в своей дневниковой записи, и Гоголь, всегда с благодарностью отмечавший все, чем он был обязан Пушкину, не мог бы умолчать об этом. Кроме того, нам вообще неизвестны какие бы то ни было свидетельства о прямом «вмешательстве» Пушкина в гоголевские тексты.
Из двух выдвинутых на обсуждение версий скорее всего справедлива вторая: загадка переименования, превратившего Ивана Никифоровича в Ивана Тимофеевича, связана не с Гоголем, а с Пушкиным. Какая же может быть загадка в случайной ошибке?
Иногда ошибаясь и неправильно называя кого-либо по имени-отчеству, мы, сами того не подозревая, следуем определенному правилу: либо меняем основы имени и отчества местами (называя Ивана Петровича Петром Ивановичем и наоборот), либо заменяем их другими – созвучными, похожими по фонетическому составу. Например, Наталья и Надежда, отчества Александрович и Алексеевич (у них общие начала: На… ж Алекс…), Александрович и Андреевич (у них общий звуковой комплекс – А…ндр…), Георгиевич и Григорьевич и т. д.
Случилось же так, что Пушкин (в письме от 12 июля 1833 года) назвал Александра Андреевича Ананьина, мало известного ему человека, к которому у него было финансовое дело, «милостивым государем Абрамом Алексеевичем» (X, 338). Это, конечно, ошибка, но ошибка обычная, стандартная и понятная. Это – «правильная» ошибка. Назвав Ивана Никифоровича Иваном Тимофеевичем, Пушкин сделал ошибку «неправильную».
Действительно, два отчества – Никифорович и Тимофеевич – лишены признаков фонетической общности: если не считать стержневого звука [ф], у них разный звуковой состав, разная слоговая структура и разный ритмический рисунок. Что же их объединяет?
По-видимому, только то, что оба отчества в пушкинскую эпоху были уже сравнительно редкими и несли на себе отпечаток провинциальности или низкой социальной принадлежности, отражая соответствующие признаки производящих имен – Никифор и Тимофей, которые, как свидетельствуют подсчеты В. Д. Бондалетова, с конца XVIII века постепенно теряли популярность и затем почти полностью вышли из употребления. Ср. яркую социальную характеристику производного от Никифор фамильного имени Никифоров в размышлениях П. А. Вяземского: «В Москве и в Петербурге открываются коммерческие суды. Место председательское прекрасное <…> Мне очень хотелось бы этого места в Москве, более нежели в Петербурге. <…> Я слышал, что купцы уже имеют в виду какого-то Никифорова на это место или что-то похожее на эту фамилию. Без самолюбия думаю, что купечеству было бы выгоднее иметь меня, по связям моим, положением моим в обществе могу возвысить это место. Никифоров, или кто другой в этом роде даст этому месту подьяческую физиономию, подобную прочим нашим присутственным местам…» (П. А. Вяземский – жене, 5 сентября 1832 г.).
Назвав своего героя, омещанившегося дворянина, погрязшего в провинциальном убожестве и полной бездуховности, Никифоровичем (то есть сыном Никифора), Гоголь и в этой малости сохранил верность социально-исторической и художественной правде.
Ошибка Пушкина дважды загадочна. Во-первых, он «перепутал» отчество не случайного человека, увиденного лишь однажды, в суете, на бегу, а отчество, слышанное им накануне, у себя дома, и которое прозвучало во время чтения 170 (сто семьдесят!) раз. Во-вторых, замене подверглось отчество персонажа художественного произведения, которое, являясь элементом цельной художественной системы, неразрывно связано с другими ее элементами. Но, может быть, здесь как раз и есть разгадка, которую мы ищем.
Иван Никифорович в гоголевской «Повести…» существует не просто рядом с Иваном Ивановичем, а в неразрывной связи с ним. Эти два персонажа образуют нерасторжимое единство, основанием и выражением которого является тождество их личных имен, подчеркиваемое и усиливаемое различиями их отчеств и фамилий.
Гоголь тщательно разрабатывает сложную систему различий-тождеств, создающих цельный художественный образ этого двуединства: «Прекрасный человек Иван Иванович! <…> Очень хороший также человек Иван Никифорович <…> Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх <…> Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович один раз…» и т. д.
Русская литература с конца XVIII века и до наших дней собрала обширную коллекцию такого рода комических персонажных пар, для которых по сложившейся художественной традиции характерно противопоставление именований типа Иван Иванович и Петр Иванович, Иван Иванович и Иван Петрович, Иван Иванович и Петр Петрович. При этом чаще используются самые распространенные имена – Иван и Петр. Лишь иногда к ним добавляется третье имя – Сидор.
Гоголь сам стоял у истоков этой литературной традиции, укреплял и развивал ее (ср.: Петр Иванович Добчинский и Петр Иванович Бобчинский). Однако в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» он намеренно пошел против традиции, поскольку писал не Россию, а Украину, где, кстати, имя Никифор и его производное Никифорович были более распространенными, чем у русских.
Не заметить этого нарушения Пушкин не мог, а заметив, отразил в своей дневниковой записи, заменив редкое Никифорович более употребительным и более «мягким» – Тимофеевич. Произошла подмена, осуществленная подсознательным движением пушкинской мысли. Но почему выбор пал именно на это имя?…
В конце лета 1832 года Пушкин набросал первый план будущей «Капитанской дочки». 24 октября 1836 года был послан цензору окончательный текст повести. Между этими двумя датами – четыре года напряженного труда над «Историей Петра», «Историей Пугачева», «Дубровским», другими произведениями… Замысел «Капитанской дочки» то отступает, то вновь становится предметом творческих размышлений. Во второй половине 1832 года составляется второй план повести. 31 января 1833 года набрасывается третий план. В феврале Пушкин обращается к архивным источникам. В марте пишется еще один – четвертый – план. В апреле Пушкин вновь приостанавливает работу над повестью и в предельно сжатый срок – за пять недель – пишет «Историю Пугачева».
Именно в это время в его сознание входят соратники Пугачева – Иван Никифорович Зарубин, носивший прозвища «Чика» и «Граф Чернышевъ», и Афанасий Тимофеевич Соколов, по прозвищу «Хлопуша», герои исторического исследования, которым в не-далеком будущем предстоит перейти на страницы долго и трудно обдумываемой повести… Возможно, так впервые в поле зрения Пушкина оказались рядом два отчества – Никифорович и Тимофеевич.
Известно также, что с детских – московских – лет Пушкина рядом с ним (в Молдавии, в Москве, в Петербурге, у гроба матери, у смертного одра Пушкина и у его открытой могилы, в радости и в горе) находился наставник, «дядька», «дядюшка», слуга и товарищ, один из самых близких Пушкину людей, – болдинский крепостной Никита Тимофеевич Козлов (1778–1851). Для Пушкина-мальчика и юноши – Никита. Для взрослого Пушкина – Тимофеевич и дядюшка. С 1831 года в доме поэта рядом с Никитой Тимофеевичем Козловым живет и Никифор (единственный Никифор в близком пушкинском окружении) – Никифор Емельянович Федоров, камердинер Пушкина.
Рядом с Пушкиным обнаруживаются и три Ивана Тимофеевича: Иван Тимофеевич Спасский – домашний врач Пушкиных. Поэт упоминает о нем в письмах к Наталье Николаевне в 1832–1834 гг.; Иван Тимофеевич Лисенко – книгопродавец и издатель, распространитель прижизненных изданий поэта; Иван Тимофеевич Калашников – чиновник и литератор. В апреле 1833 года Пушкин отправил ему благодарственное письмо в связи с получением романа Калашникова «Камчадалка».
2 декабря, принимая Гоголя и слушая его «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», Пушкин, продолжая неотступно думать о «Капитанской дочке», подсознательно соединит всех Никифоровичей и всех Тимофеевичей и, отринув по каким-то неизвестным нам причинам отчество Никифорович, отдаст предпочтение Тимофеевичу как имени своего будущего героя.
На следующий день, 3 декабря 1833 года, в дневниковой пушкинской записи появится «случайная» ошибка, где гоголевский Иван Никифорович будет назван Иваном Тимофеевичем.
А еще через два года, когда замысел «Капитанской дочки» будет наконец воплощен в художественный текст, такая же замена превратит в Тимофеевича (Тимофеича) исторического Ивана Никифоровича, – И. Н. Зарубина: «Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пяти-десяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи <…>> (VI, 313).
В академическом издании романа исследователи, комментируя эти строки VIII главы и объясняя, что речь здесь идет не об Афанасии Тимофеевиче Соколове (Хлопуше), характеристика которого дается далее, в главе XI, а об Иване Никифоровиче Зарубине (Чике), утверждают, что, «назвав последнего “Тимофеичем”, Пушкин допустил явную ошибку» (Пушкин А. С. Капитанская дочка. М., 1984. С. 288).
Но можно ли считать ошибкой мелкую историческую неточность в художественном произведении? «Капитанскую дочку» пи-сал автор, заботившийся прежде всего о художественной правде, о художественной выразительности. Никто никогда ведь не считал, что Пушкин допустил ошибку, превратив историческую Матрену Кочубей в Марию романтической поэмы «Полтава»!.. Всем понятно: это сознательное, намеренное, художественно оправданное переименование.
О том, как много вложил Пушкин в Пугачева «от себя», когда-то прекрасно написала М. Цветаева. Не так ли и исторического Ивана Никифоровича Зарубина-Чику Пушкин одарил «от себя» и отчеством своего друга-слуги, и своим к нему мягким и ласковым обращением – «дядюшка»?
Часть III. Разное
Россия – Ро(а)с(с)ея
Характерной особенностью современного состояния русского письма и печати нужно признать все возрастающее расширение сферы ненормализованных и стихийно нормализуемых, но не кодифицированных написаний. Их постоянное численное умножение, рост их употребительности в различных жанрах художественной и научно-популярной литературы и публицистики – с использованием всего богатства вариантных возможностей, представляемых наличной системой графических средств, – неизбежно оказывает более или менее значительное возмущающее воздействие на кодифицированную сферу и всю систему письма и печати в целом:
– расшатывает правописные навыки всех, кто участвует в процессах порождения, репродуцирования и потребления текстов;
– формирует и укрепляет ориентацию пишущих на случайный вы-бор средств и способов разрешения графических неопределенностей;
– тормозит течение процессов стихийной нормализации;
– ослабляет художественно-выразительные возможности не-нормативных написаний и препятствует воспитанию в читателях такого социально важного элемента культуры слова, как чувство «прелести осознанных отступлений от нормы», о котором говорил когда-то Л. В. Щерба;
– подрывает в глазах читателей авторитетность печатных текстов и доверие к тем, из чьих рук они вышли.
Очевидна поэтому насущная необходимость постоянного оперативного регламентирующего вмешательства науки и государства в эту сферу орфографических вибраций и колебаний.
Между тем специальные научные исследования стоящего вне нормы и кодификации материала крайне ограниченны, а то немногое, что все-таки делается и сделано, замыкается в «сфере научного производства», не получая выхода в «сферу практического потребления». Выводы и рекомендации ученых не доходят не только до широкой массы пишущих, но и до значительно более узкого круга тех, кто заинтересован в них профессионально и кто – с точки зрения широко понимаемых государственных интересов – должен получать их не по личной инициативе (ее может и не быть), а в обязательном официальном порядке.[194]194
Показательна в этом отношении судьба тех рекомендаций и правил, которые были сформулированы в работах Л. И. Скворцова, Е. А. Некрасовой и автора настоящей публикации в кн.: Нерешенные вопросы русского правописания. М.: Наука, 1974 (в разделе, озаглавленном «Области языка, не регламентированные орфографически»). Прошло 28 лет, а в практике газетных, журнальных и книжных издательств не изменилось решительно ничего.
[Закрыть] Причина такого положения в том, что нормализация и кодификация письменной сферы языка не имеет в России ни специальной службы, ни специального органа «экспресс-информации». Нет также и профессионально-ориентированных орфографических словарей и справочников (в том числе и жизненно необходимого ведомственного назначения – для учите-лей, для работников печати, для телевидения и т. п.), подобных, например, «Словарю ударений для работников радио и телевидения» Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарва,[195]195
См., например: 3-е изд. М.: Сов. энцикл., 1970. Показательна мотивировка этого издания, которое, как говорится в предисловии, было предпринято для того, чтобы «помочь дикторам радио и телевидения в их трудной работе, а также для того, чтобы способствовать установлению единообразия в произношении и ударениях (разнобой в языке радиовещания и телевидения отвлекает слушателей от содержания передачи и, естественно, вызывает их резкие протесты)…» (С. 3).
[Закрыть] различным «Словарям трудностей русского языка»[196]196
См., например: Краткий словарь трудностей русского языка (для работников печати). М.: Университетское, 1968; Трудности русского языка: справочник журналиста /Под ред. Л. И. Рахмановой. М.: Университетское, 1981; Правильность русской речи: Словарь-справочник. М.: Наука, 1965 и др.
[Закрыть] и др. под.
Что касается «больших» орфографических словарей, то они эту функцию, естественно, взять на себя не могут. Этому препятствует не только их принципиальная «неоперативность», обусловленная их статусом, но прежде всего то, что большая часть материала, который подлежит нормализирующему отбору и кодифицирующему закреплению, оказывается вообще вне их компетенции: диалектизмы различных типов, элементы просторечия, компрессивные формы разговорной речи, лексика жаргонов и арго, варваризмы и экзотизмы, русская лексика в «акцентном» освоении и мн. др. – все то, что так широко и свободно использует язык художественной литературы и что не входит и не всегда имеет перспективу войти в литературный язык. Необходимы, следовательно, специальные кодификационные издания – бюллетени, рекомендательные перечни, справочники различных объемов и видов (по отдельным группам лексики, по отдельным типам написаний, сводные) более широкого и более узкого на-значения. Впоследствии на этой основе можно было бы создавать словарные пособия более капитального типа, которые, в свою очередь, могли бы стать источниками прошедшего проверку временем и в достаточной степени отстоявшегося материала для пополнения «больших» словарей.
Особого внимания заслуживают нелитературные варианты собственных имен различных групп и видов, для которых возможности кодификационного закрепления оказываются предельно ограниченными, если не вообще отсутствуют: орфографические словари отвергают их как nomina propria, а словари собственных имен – как нелитературные.
Эту судьбу разделяет и просторечное Ро(а)с(с)ея – второй член вынесенной в заглавие соотносительной пары административных хоронимов, – который, как и его производные ро(а)с(с)ейский, по-ро(а)с(с)ейски и более редкие Ро(а)с(с)еюшка, Ро(а)с(с)ее(и)чка и немногие другие, не имеет ни одной словарной фиксации, хотя и обнаруживает достаточно широкую употребительность, отражающую важность и актуальность его понятийно-идеологического содержания. Учитывая эти характеристики, нужно признать, очевидно, что обычное для современной письменной практики и практики печати использование четырех (четырех!) графических вариантов этого слова – Россея / Рассея / Росея / Расея (то же для всех его производных) – свидетельствует о высокой степени неблагополучия сложившейся здесь ситуации орфо– (или, вернее, како-) графического разнобоя, ситуации, которая требует внимательного анализа и принятия необходимых нормализационных решений.
* * *
Не имеющее признаков узкой диалектной локализации областное – «простонародное» – Ро(а)с(с)ея вошло в литературный обиход уже в начале XIX в. через фамильярно-бытовой язык дворянства, соприкасавшийся с разговорными стилями мещанства и крестьянства, «по рельсам дворянского просторечия».[197]197
В. В. Виноградов Язык Пушкина. М.; Л.: Academia, 1935. С. 421.
[Закрыть] Показательно, например, использование производного россейский в письмах Пушкина середины 20-х годов, где мы находим его в общем массиве грубовато-просторечных средств шутливо-иронического выражения. Ср.: «Получил ли ты мои стихотворенья? Вот в чем должно состоять предисловие: Многие из сих стихотворений – дрянь и недостойны внимания россейской публики – но как они часто бывали печатаны бог весть кем, черт знает под какими заглавиями, с поправками наборщика и с ошибками издателя – так вот они, извольте-с кушать-с, хоть это-с – с…» (письмо Л. С. Пушкину, 27 марта 1825 г.); «Занимает ли еще тебя россейская литература? я было на Полевого очень ощетинился…» (письмо П. А. Вяземскому, апрель 1825 г.).[198]198
Ср. отраженное представление указанной стилистической ситуации: «Лишь спрашивает в письмах грубовато, / По-русски, по-расейски: – Ты брюхата? / – Свою великосветскую жену… «(Ю. Друнина. Наталья Пушкина // Наш современник. 1974.№ 11. С. 4).
[Закрыть]
Позднее, с 50-60-х гг. XIX в., в связи с процессами демократизации русской литературы и публицистики и общей тенденцией вовлечения в систему средств литературного выражения элементов лексики народных говоров и городских низов Ро(а)с(с)ея в противопоставлении литературному Россия (ср. аналогичное соотношение в парах типа Киев – Кеев, Мария – Марея, позднее также партийный – партейный и др.) широко используется в стилизованном литературном диалоге и в сказе, ср.: «– Эх, барин! обрыдло же здесь все… Так бы и полетел домой, в Россею….» (И. Клингер. Два с половиною года в плену у чеченцев, 1847); «– В Россее ноне все пошло по-новому, – рассказывал Прохор Васильич…» (Ф. Нефедов. Иван Воин, 2 // Неделя. 1868. № 42); «– Барин россейский! он залетит опять в Питер, а нам пить, есть надо…» (Н. Успенский. Издалека и вблизи); «– Это всю Россею проезжай, – замечает Иван, – нигде таких умных слов и не услышишь…» (там же); «Пьяный десятский поднял руки вверх, шлепает ногами… и кричит: “Наша матушка Росея всему свету голова!”…» (Н. Успенский. Змей); «– Рази не видишь, баба с жиру сбесилась… Это у нас в Расее – словно болесть какая по рабочему народу ходит…» (А. Левитов. Московские «комнаты снебилью»); «– Дай ты мне такую бумагу, чтобы мне в Расею уйти…» (С. В. Максимов. На каторге); «– Соизволили, значит, вернуться в Расею, батюшка… – издал он радостной стариковской нотой…» (П. Боборыкин. Возвращение); «– Видно, уж ей так бог судил: – так и не уехала, так в Расее и померла…» (П. Сергеенко. Гувернантка); «– Да и вся-то, дружок мой, Россия… – Ну? – От Зеленого Змия… – Йетта вовсе не так: Христова Рассея…» (А. Белый. Петербург) и мн. др. под.
Эта традиция, продолжаясь в последующем развитии русской и советской литературы, но, естественно, ослабевая, дожила и до наших дней: «– Ванька! Керенок подсунь-ка в лапоть! Босому, что ли, на митинг ляпать? Пропала Россеичка! Загубили бедную!..» (В. В. Маяковский. 150 000 000 // Избранные произведения. Т. 2. М.: Худ. Лит., 1953. С. 63); «Мужикам Петенька нравится за разговорчивость. Пьяненькие, называют его “сердешным”, “Рассеем”, обещают прибавить жалованья…» (А. Неверов. Без цветов // Я хочу жить. М.: Сов. Россия, 1984. С. 33); «…половой говорил: – Заладила про свою деревню. Тоже Расея. Много ты понимаешь. Походи ночью по номерам – вот тебе и Paceя!..» (A. Н. Толстой. Хождение по мукам, I, 7 // Собр. соч. Т. 5. М., 1972. С. 61); «Весь строй с присвистом подхватывает: Разобью-уу я всю Евро-о-пу. Сам в Рассе-е-ею жить пойду-у-у-у…» (Е. Гинзбург. Юноша // Юность. 1967. № 9. С. 7).
Во всех подобных случаях Ро(а)с(с)ея как примета крестьянско-мещанской речи выступает в контекстах, ретроспективно представляющих более или менее отдаленное историческое прошлое. И это понятно: современная диалектная речь и городское просторечие слова Ро(а)с(с)ея и его производных в сущности уже не знают. Сегодня все – ей-варианты в стилистическом противопоставлении – ий-вариантам живут и функционируют только как изобразительное и выразительное средство языка художественной литературы, – с явной тенденцией к все большей и большей архаизации. И если бы эта функция была для них единственной, то отсутствие единообразия в их написаниях, убедительно свидетельствуемое приведенными выше иллюстрациями, не создавало бы никакой сколько-нибудь существенной орфографической проблемы и нормализация могла бы – по известному евангельскому принципу – спокойно отвернуться от них, предоставляя мертвым погребать своих мертвецов.
Дело, однако, обстоит по-другому: экспрессия грубоватого просторечия, которую рассматриваемые – ей-варианты еще усилили вследствие жесткого закрепления за контекстами социально и стилистически резкой характеризации, была перенесена с означающего на означаемое и осложнена резко отрицательной оценкой. Произошло то, что Л. В. Щерба называл «семантическим ростом» через «насыщение содержанием вариантов слов или форм, получившихся на разных путях».[199]199
См. его: Теория русского письма //Л В Щерба Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 206.
[Закрыть] Из средства характеризации субъекта речи – ей-варианты превратились в средство характеризации означаемого: сознание, опираясь на слово, собрало и сконцентрировало в нем некий сложный понятийный комплекс, который до этого мог быть выражен только перечислительно-описательным образом.
Известно, что слово Россия (по-видимому, через промежуточные Русия[200]200
Впервые, по-видимому, в титулатуре Ивана III – «Государь и самодержец, царь и государь Всеа Русии…» по записи в Вологодско-Пермской летописи под 1491 г. (Полное собрание русских летописей. Т. XXVI. М.; Л., 1959. С. 286).
[Закрыть] и Руссия[201]201
См.: В.Я. Татищев История Российская. М.; Л., 1962. С. 345. Ср. совершенно искусственную попытку воскрешения этого варианта С. Есениным в поэме «Пришествие» (1917) как имени страны, откуда в мир должна просиять последняя божественная истина: «За горой нехоженой, / В синеве долин, / Снова мне, о Боже мой, / Предстает твой сын. / По тебе томлюся я; / Из мужичьих мест, / Из прозревшей Руссии / Он несет свой крест…» (Собрание сочинений: В 3 т. М.: Правда, 1970. Т. 2. С. 51)
[Закрыть]) возникло на рубеже XV–XVI вв.[202]202
По данным М. Фасмера (Этимологический словарь русского языка. Т. III. M.: Прогресс, 1971. С. 505), впервые в Московской грамоте 1517 г.
[Закрыть] как совершенно искусственное (транслитерация с греческого)[203]203
См.: М. Фасмер. Указ. соч. С. 505.
[Закрыть] торжественное образование высокого официоза в связи с потребностями идеологического обеспечения историко-государственной концепции «Москва – Третий Рим» в замену прежнего Русь, с которым оно образовало контрастную пару. За последующие три века, спустившись в быт – отсюда народное Ро(а)сея, – слово Россия потеряло свое изначально высокое торжественное звучание (ср., однако, – россиянин, россиянка, россияне), стало нейтральным, тогда как его противочлен был поднят на стилистической шкале, получив новое идеологическое содержание. Слово Русь в русской культуре, в общественной, религиозной и философской мысли XIX – начала XX в. – через художественное мировидение Гоголя, историософские построения славянофилов и т. д. – получило значение высокого символа исторической преемственности и непреходящей ценности идеалов русской народной жизни (ср.: Святая Русь – не *Святая Россия!), идеалов, искажаемых мрачными сторонами российской действительности.[204]204
Естественно и понятно, что в левом – революционном – стане это противопоставление выступало в перевернутом, инвертированном виде, и Святая Русь оказывалась олицетворением и символом враждебного революции мира: «Революционный держите шаг! / Неугомонный не дремлет враг! / Товарищ, винтовку держи, не трусь! / Пальнем-ка пулей в Святую Русь! – / В кондовую, В избяную, В толстозадую!..» (А. Блок. Двенадцать, 1918). – Вообще же, соотношение Русь – Россия на разных этапах развития русской культуры и общественно-религиозно-философской мысли заслуживает специального лингво-культурологического исследования, которое выходит за рамки настоящей работы.
[Закрыть]
Выражением этого долго и трудно формировавшегося взгляда на русскую жизнь стала транссемантизациястилистического противопоставленияРоссия – Ро(а)с(с)ея. На этом новом этапе развития сниженный – ей-вариант был поднят на уровень культурно-идеологического символа обширного комплекса отрицательных признаков государственной, политической, хозяйственной, культурной и нравственной отсталости, косности, темноты и невежества России. Россия, следовательно, была осознана как внутреннее антиномическое единство двух ее неразрывно связанных и в то же время неслиянных ипостасей – Русии Ро(а) – с(с)еи.[205]205
Ср. в исключительно точном ретроспективном отражении у Ю.Тынянова: «…И он <Пушкин> размахнулся на всю Россию, не подмосковную, не “Расею” и не “Русь”…» (Ю Тынянов Ганнибалы // России первая любовь. М.: Книга, 1963. С. 14). И то же в современном сознании: «Слесаря пропивают получку… / Пропиваются дети, увы… / И не надо шептать мне, косея / От избытка вины ли, вина… /Мол, и это Россия… Расея… / Дар-ра-га-я-а мая-а ста-ра-на… / Нет! Страна дорогая, разрушу / Этот миф, унижающий Русь, / И за каждую русскую душу / Повоюю, поспорю, побьюсь!..» (А Гришин «Слесаря пропивают получку…» //Знамя. 1986.№ 10. С. 79).
[Закрыть]
Одним из первых (если не первым), кто выразил это откристаллизовавшееся в слове сознание, был обладавший особой чуткостью к явлениям общественной жизни и мысли и абсолютным языковым слухом И. С. Тургенев. Он искал нужное слово, и оно далось ему не сразу. Попробовал так: «…Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины буфы служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский – российский портной» (Записки охотника, Однодворец Овсяников, 1847). И остался неудовлетворенным. Продолжал искать: «Художеству еще худо на Руси. Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и “всё” дрянь, а сам чепуху пишет; знаем мы эту поганую россейскую замашку….» (письмо П. В. Анненкову– 31 октября 1857 г.). И наконец нашел: в письме А. А. Фету 25 января 1869 г. он с горечью писал о «бедствованиях по “рассейским” трактирам» и рассейским подчеркнул и взял в кавычки, заменив о на а, но сохранив двойное ее. Кавычки здесь не (или, по крайней мере, не только) знак «чужого» слова. Это знак необычного – новонайденногозначения.[206]206
См.: Я С Тургенев Полное собрание писем. T. VII. М.; Л.: Наука, 1965. С. 285. Этот взгляд на Ро(а)с(с)ею как на одну лишь сторону России – взгляд изнутри России – принципиально отличен от взгляда извне, для которого Расея не ипостась, не идеальная понятийная сторона, а целое (как бы такой взгляд не выражался): «Эта варварская Россия», как думала когда-то мисс Жаксон в «Барышне-крестьянке» Пушкина, или «дура-Рассея», как считала в недавнем еще прошлом противопоставлявшая ей себя Сибирь: «Эти коренные очень гордятся собой, с пренебрежением относятся ко всему русскому… Глупая баба дергает своим толстым брюхом и пренебрежительно говорит: – Известно, из дуры-Расеи чего путного дождешься…» (Н. Гарин-Михайловский – Н. В. Михайловской, июнь 1891 г.). Пережитки этого взгляда достаточно широко сохраняются в Сибири и сегодня. Ср.: «– Это ж не Расея. – Так и я нерасейский – сибиряцкий…» (Г. Комраков. До осени – полгода, 7).
[Закрыть] То, что у Пушкина (в его «россейская публика») было дано как возможность, лишь в виде намека, под пером Тургенева получило ясное и выпуклое выражение. Сегодня Ро(а)с(с)ея – в этом укрепившемся и уже не требующем кавычек значении – общее достояние всех говорящих и пишущих литературно, самостоятельная лексическая единица современного русского литературного языка, не только заслуживающая словарной фиксации, но и имеющая на это все самые неоспоримые права. Права жизненно важной, не ослабевающей, а, напротив, увеличивающейся актуальности и возрастающей частотности. Ср. хотя бы следующие из множества возможных немногие примеры.
Из записей живой разговорной речи: – Господи, и когда только мы покончим с нашей расейской неповоротливостью!.. amp; – И что же? Так его и не восстановили? – Конечно, нет. Всё по-расейски.… – Ну как только они так могут! – А чё ты удивляешься? Paeen!.. amp; – Опять все окна повыбили… Эх, матушка-Расея!… amp; [Глядя вслед пьяному] Пьет Paeen!.. amp; [Глядя, как водитель самосвала сгружает кирпич, превращая его в бой] Бей давай, больше будет!.. Paeen!.. и мн. др. под.
Из литературных источников семидесятых – восьмидесятых годов: «Петров-Водкин не писал Рассей, но действительно работал для народа русского…» (Прометей. Вып. 8. М., 1972. С. 245); «…Во всех этих рассказах показан спесивый росейский барин-невежда» (С. Антонов. Я читаю рассказ. М.: Молодая гвардия, 1973. С. 99); «…как далеко шагнула бы экономика наших колхозов, если бы не наше заклятое росейское бездорожье!..» (Призыв, 27 августа 1974 г.); «Ну, знаете, в области свобод в Расее-матушке надо бы поосторожнее, – вставил Лев Львович…» (С. Ермолинский. Яснополянская хроника // Звезда. 1974. № 3. С. 74); «Невозможно удержать слезы, когда Борисов поет “Ехал на ярмарку ухарь-купец”, вкладывая в песню всю нереализованную силу души, всю боль своей жизни, страдания за всю “расейскую” жизнь…» (В. Розов. После спектакля // Советская культура, 16 марта 1985 г.); «…во всей своей расейской крепостнической неумытости…» (Е Покусаев. Алексей Михайлович Жемчужников // А. М. Жемчужников. Избранные произведения. М.; Л.: Худож. лит., 1987. С. 13) и мн. др. под.[207]207
Следует заметить, что в последние годы – в полном соответствии с логикой развития общественной мысли, формирующей неославянофильские и почвеннические течения и уклонения различных оттенков и толков (вплоть до черносотенных и откровенно фашистских), проявляющие себя в идеализации патриархального прошлого русской деревни, исконных форм быта, монархического государственного устройства и т. п., – Расея (с производными) инвертивно включается в общий ряд воскрешаемых ими символов, получая экспрессию положительной оценки. Ср. немногие примеры, почерпнутые из необозримого их числа на страницах периодических изданий, отражающих и формирующих такого рода настроения и взгляды: «Всё пересилит просто и стойко /Дерзость российская, удаль расейская….» (Р Казакова. Постановление //Литературная Россия, 15 июля 1977 г.); «За Россию, матушку – Расею / Он упал, прикрыв огнем друзей…» (Я Кучуков Алешка//Наш современник. 1978. № 10. С. 75); «Всегда надежно врачевала душу / Расейская сердечность старика…» (Ю. Друнина Дядя Вася // Наш современник. 1976.№ 3.С. 141); «Иван Иванович смотрел на пролетающие мимо поля, на полустанки, деревни, города и искренне удивлялся, говорил Андрею: – погляди только, какая махина! Одно слово – Расея!» (М Щукин Имя для сына // Наш современник. 1986. № 2. С. 90)
[Закрыть]
Обращает на себя внимание, что в обширном материале, представляющем современное употребление – ей-образований, почти полностью отсутствуют обычные в письменной практике XIX – середины XX в. (показательно ее воспроизведение в переизданиях последних лет) варианты с орфографическим видом корня Росс. И это чрезвычайно важно и знаменательно, так как мы имеем здесь дело не с отражением случайной неполноты авторской выборки, а с проявлением внутренних закономерностей становления вырабатывающейся стихийно новейшей орфографической нормы.
Поскольку противопоставление двух фонемных вариантов суффикса (-ий // – ей) оказывается неспособным обеспечить семантическую и аксиологически-оценочную надстройку над закрепленной за ними стилистической функцией (ср. беспарт-ий-ный – беспapm-ей-ный) и поскольку ни фонемика, ни фонетика корня не могут стать материальным субстратом содержательного противопоставления рассматриваемых – ий / – ей-образований, эту функцию по необходимости – вынужденно – берет на себя графика. При этом графика предоставляет на орфографический выбор две имеющиеся в ее распоряжении объективные возможности: либо фонематическому написанию корня с о (Росс-ий-) противопоставляется фонетическое написание с а (Расс-ей-), либо традиционному написанию с двумя ее (Росс-ий-) противопоставляется фонетическое написание с одним с (Рос-ей-). Так или иначе, но нормативно-орфографическое написание Росс-ей-, широко использовавшееся в относительно недавнем прошлом и полностью удовлетворявшее интуитивному чувству пишущих в доминировавшем тогда стилистическом противопоставлении Россий– Россей-, оказалось недостаточным в новых условиях их семантизованного противопоставления и – буквально на наших глазах, – начиная с середины 1950-х гг., фактически вышло из живого употребления.[208]208
Как уже было сказано и как это видно из приведенных выше иллюстраций, в современных переизданиях текстов XIX в. сохраняются и воспроизводятся обычные для этого времени (авторские и/или редакторско-типографские) написания с фонематическим о (Россея // Росея). Тем показательнее замена старого Россея на новое Росея в переизданиях «Войны и мира» Л. Н. Толстого. Ср. в издании 1949 г.: «– Решилась! Россея! – крикнул он. – Алпатыч! Решилась! Сам запалю… – Ферапонтов побежал надвор…» (Т III.Ч. 2, I V.М.:ГИХЛ, 1949. С. 118). В просмотренных изданиях последующих лет (см., например: М., 1966. С. 123; М.: Худож. лит., 1974. С. 124; Фрунзе, 1981. С. 123; Харьков, 1984. С. 122; М.: Правда, 1984. С. 125 и мн. др.) – везде Росея.
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































