Текст книги "Очерки по русской семантике"
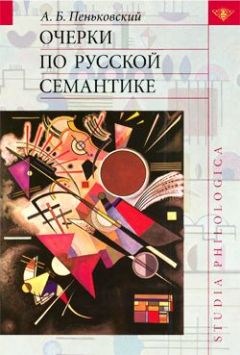
Автор книги: Александр Пеньковский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Добиваясь понимания (ср.: «Он стал говорить по слогам, что-бы до меня скорее дошло…» – Б. Егоров. Цветы в чужом саду), говорящий мобилизует весь комплекс выделительно-подчеркивающих и усилительных средств (лексика усиления и подчеркивания, кванторные слова, усилительный повтор и противопоставления, изолирующая парцелляция в конечной позиции, логическое ударение и т. д.) и дополняет его слогоделением как средством предельной силы, чтобы, расчленив звуковую форму слова на части, вынудить собеседника сосредоточить внимание на его смысле и воспринять его целиком.
Пробиваясь к сознанию адресата, говорящий заставляет его прислушаться к необычно выделенному и выдвинутому звучанию, вслушаться в него и проверяет: слышишь? слышите? побуждает его вдуматься в слово: заметь! заметьте! требует понять его смысл: пойми! поймите! и контролирует: понимаешь? понимаете? понял? поняли? понятно? Ср.: «– Нет, я серьезно прошу вас бережнее отнестись к моему ученику… Николай Аполлонович, повторяю вам: бе-ре-жне-е….» (А. Белый. Петербург, 1, VI); «-…Я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь. И не только сам не вмешиваюсь, да не прошу, чтобы другие в мои дела вмешивались… Да, не прошу, не прошу, не прошу и даже… запрещаю! Слышишь ли, дурной, непочтительный сын – за-пре-ща-ю!..» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы); «-…Потому, что я не люблю никого. Слышите, ни-ко-го!..» (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы, IV, 11, III); «– А я сожалею, что у моего агронома недостает экономических знаний… Навоз удорожает зерно, слышите? У-до-ро-жа-ет!..» (В. Пальман. Долинские разговоры); «– И учти, пожалуйста, что он еще и ученый… Вдумайся: у-че-ный! Не только хозяйствен-ник…» (А. Григорьев. Угол падения); «-…Ведь Маркс прямо говорит: развитие экономических формаций суть естественно-исторический процесс. Заметьте: е-сте-ствен-ный!…» (Ю. Давыдов. Глухая пора листопада. 2, 5, 1); «– Экипаж-то все-таки хороший сложился. – Кубики складываются, Максим Петрович… Детские кубики с картинками А экипаж – сколачивается Понимаете? Ско-ла-чи-ва-ет-ся' Годами» (Л Борин Третье измерение), «– А тебе я запрещаю эту дружбу Понял? За-пре-ща-ю' » (Г Демыкина. Была не была, 11), «– В роты, лейтенант, вам понятно? В ро-ты!» (А Ананьев Танки идут ромбом, 10), «– И заметьте никакой самодеятельности' Слышите? Я подчеркиваю ни-ка-кой! Понятно? » (С Кремнев Плотина), «– Какая я тебе “мама" Я твоя тетка Тетка – ясно! – раздельно произносила она вот это "тет-ка”, чтобы я лучше запомнил » (А Харитонов. Тетка) Ср еще «Я спросила, читала ли она „Один день з/к“ и что о нем думает? – Думаю? Эту повесть о-бя-зан прочи-тать и вы-у-чить наизусть каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза – Она выговорила свою резолюцию медленно, внятно, чуть ли не по складам, словно объявляла приговор » (Л Чуковская Записки об Анне Ахматовой, II)
Произношение сегментированного слова в разных случаях такого рода может варьировать в достаточно широких пределах в зависимости от степени категоричности высказывания, силы послоговых ударений, резкости обрыва слогов и их отстояния друг от друга, особенностей интонирования, отсутствия или наличия и степени экспрессии, осложняющей подчеркивание. Однако есть граница, которая в норме не переступается. Это граница, связанная с длительностью гласных в сегментированных слогах, которая разделяет подчеркивающее слогоделение, апеллирующее к racio адресата речи, и слогоделение при эмфазе и эмоционально-экспрессивных состояниях, выражение которых движимо чувством и к чувству же и обращается
Подчеркивающее слогоделение не допускает растяжения гласных, которое составляет основу эмфатического выделения слова и, обнажая слоговые границы, может вызывать слогоделение, но лишь в качестве сопутствующего явления Ср «– Давеча негры приезжали… Че-е-рные!..» (Ю Пахомов. Случай с Акуловым), «– Ну, чего ты, глупышка? – Они сме-ю-ут-ся…» (В Кетлинская. Вечер Окна Люди), «– Ну, царь взял туфельку, посмотрел А туфелька была та-а-а-кая хорошая…» (В Вересаев Порыв, 1), «– Может, выйдете, ребята? – Че-е-го? – с угрозой спросил долговязый» (А. Дементьев. Шарики) и т. п. (см. об этом в работе [Пеньковский 1974: 120–122].
Показательно, что в условиях, когда говорящий вынужден по тем или иным причинам задержать, затормозить, задавить экспрессию, чтобы скрыть ее от других, и, следовательно, должен заставить себя удержаться от растяжения гласных как основного средства ее выражения, эту функцию принимает на себя слогоделение. Ср. примеры, свидетельствующие о таком «минус-растяжении»: « – Го-спо-ди! – тихонько проговорила я, еле сдерживая рвущуюся наружу радость…» (Е. Долинова. Отправляемся в апреле); «Рот его перекосился, точно ему было страшно трудно разжать челюсти. – Бар – чук! – выговорил он тихо…» (К Федин. Братья); «– Может, он остался у нее ночевать? – “Но-че-вать?!” – Димка произнес это сквозь зубы, с озлоблением…» (Г. Боровиков. Перед наказанием); «– Парашют у него не раскрылся. – Па-ра-шют… – прошептал в ужасе Тихомиров…» (В. Савицкий. Парашют) и т. п. Cр. еще:«…“Софокл”, ну, “Софокл” холодноватые стихи, сказала я, но это не резон, чтобы их не печатать… – Холодноватые?! – с яростью произнесла Анна Андреевна. – Рас-ка-лен-ны-е! – произнесла она по складам, и каждый слог был раскален добела» (Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, II). Сходное явление имеет место в музыке – в певческой речи, – где растяжение гласных образует нейтральный фон и выразительным средством служить не может и где поэтому средством передачи эмфазы становится слогоделение. Ср. использование этого приема в хоре слуг Черномора в опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (ср.: [Оголевец1960: 315].[218]218
Иначе обстоит дело в речитативе, где слогоделение функционирует так же, как и в естественной речи. Ср., например, «ка-ки-е и-ме-на» в речитативе графини в «Пиковой даме» П. И. Чайковского.
[Закрыть]
Сказанным, разумеется, далеко не исчерпывается круг проблем и вопросов, которые таит в себе слогоделение как особый произносительный тип речи.[219]219
Особняком стоит и – ввиду его абсолютной, «стерильной чистоты» – заслуживает специального рассмотрения «физиологическое» слого– и словоделение, связанное с состояниями физического изнеможения, «задыхания» и одышки (в результате тяжелой работы, длительного бега, спортивных состязаний, при болезнях сердца или органов дыхания, при общей слабости и, в частности, в предсмертной агонии и т. п.), когда сегментация речи на слоги и/или отдельные слова оказывается не «средством для» (функциональным, телеологически мотивированным языковым знаком), а причинно обусловленным следствием, речевым знаком-симптомом. Для обозначения такого типа речи (как и вызывающего ее дыхания) используются специальные метаязыковые характеристики. Ср., например: «Если дни этой несчастной девушки были мучительны, то ночи проводила она в мучениях еще ужаснейших…Она называла итальянца прерывистым голосом, останавливаясь на каждом слоге…» (Д. и М. Веневитиновы. Что пена в стакане, то сны в голове);«– Что ты хотел сказать? – Федя хочет сказать, но не может; ему стыдно. – Ви… но…ват! – наконец произнес он с усилием» (Н. Г. Помяловский. Молотов). Ср. еще: «Она пошатнись и, переводя дыханье, шагнула к своим. Навстречу поднялась обеспокоенная Ольга Ивановна. – Душечка, что? Сердце, да? – Пустяки, – выдавила Анна Дмитриевна, опускаясь на скамью» (Д. Голубков. За границей).
[Закрыть] Многое здесь требует уточнения и проверки (и, в частности – инструментальными методами). Многое же еще предстоит открыть, ибо здесь скрещиваются интересы интонационной фонетики и акцентологии, экспрессивной и экстранормальной фонетики, фонетики певческой речи и стиховедения, синтаксиса диалога и психолингвистики… И как было сказано когда-то, «мнози же и по нас егда рекут, но никто же все богатество истощити возможет. Таково бо есть богатества сего естество» (Иоанн Златоуст).
Литература
Аванесов 1954 – Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М.: Учпедгиз, 1954.
БАС – Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л.: ПАН, 1950–1965.
Калнынь 1981 – Калнынъ Л. Э. О функциональном значении явлений слога//Известия АН СССР: Серия литературы и языка, 1981. Т. 40. № 4.
Лотман 1973 – Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры // Труды по знаковым системам, VI. Тарту, 1973.
MAC – Словарь русского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1986.
НСРЯ – Новый словарь русского языка. М.: Русский язык, 2001.
Оголевец 1960 – Оголевец А. Слово и музыка. М.: Музгиз, 1960.
Ож. – Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1975.
ОШ – Ожегов С. И. Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
Панов 1979 – Панов М В Современный русский язык: Фонетика. М.: Высшая школа, 1979.
Пеньковский 1973 – Пеньковский А. Б. О фонетическом словообразова-нии русских междометий // Проблемы теоретической и прикладной фонетики и обучение произношению. М, 1973.
Пеньковский 1974 – Пеньковский А. Б. О некодифицированных явлени-ях русской орфографии (о написаниях типа иду-у, оч-ченъ) // Нерешенные вопросы русского правописания. М.: Наука, 1974.
СТРЯ – Современный толковый словарь русского языка. СПб., 2001.
СЦРЯ – Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук. СПб., 1867.
Уш. – Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1940.
Шмелев 1967 – Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М.: Наука, 1967.
Щерба 1974-а – Щерба Л.В. О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов (1915) // Языковая система и речевая деятельность. Л: Наука, 1974.
Щерба 1974-б – Щерба Л. В. Теория русского письма (1942–1943) // Л В Щерба Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974.
«Я знаю Русь, и Русь меня знает»
[Бобчинский] – «Э!» – говорю я Петру Ивановичу.
[Добчинский] – Нет, Петр Иванович, это я сказал «э»!
[Бобчинский] – Сначала вы сказали, а потом и я сказал.
«Э!» – сказали мы с Петром Ивановичем…
Н В Гоголь. Ревизор, д. I, я. III
Работая над «Ревизором», Гоголь, разумеется, не мог предполагать, что в ходе развития русского литературного языка спор двух Петров Ивановичей по поводу слова «э» будет перефразирован и отольется в вопрос «Кто первым сказал “э”?», ставший крылатой, лишенной автора фразой – формулой бесчисленного множества споров об авторском праве на слово.
Не мог он предполагать и того, что в ходе живого литературного процесса и его литературоведческого отражения вся эта история почти буквально повторится на другом материале и сам он – посмертно – окажется причастным к возникшему в связи с этим спору. Это тлеющий многие годы в петите комментариев к литературным и литературоведческим текстам и время от времени вспыхивающий беглыми огоньками кратких реплик критиков, публицистов и филологов спор о том, кому принадлежит вынесенная в заглавие фраза «Я знаю Русь, и Русь меня знает».
Эта крылатая фраза, которую сегодня могли бы с первоначальной интонацией повторить и, можно полагать, действительно повторяют про себя, вдохновляясь ею, многие участники острых идеологических, общественно-политических, экономических и литературных дискуссий и споров, достаточно широко известна из монологов главного героя повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (1859). Обличая русских писателей в том, что они («все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны») искажают облик русского мужика, Фома Опискин требует, чтобы они изобразили «этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях – я и на это согласен, – но преисполненного добродетелями, которым – я это смело говорю – может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю Русь, и Русь меня знает, потому и говорю это» [Достоевский 1972: 3, 68].
Как было замечено еще А. А. Краевским, в образе Фомы Фомича Опискина нашли отражение некоторые особенности личности Гоголя в последнюю «грустную эпоху его жизни» [Достоевский 1935: 525]. Это наблюдение, ставшее, по словам акад. М. П. Алексеева (ссылающегося на утверждение Л. П. Гроссмана, см. [Чудаков 1977: 484, сн. ]), «устной легендой» [Алексеев 1921: 56], было развернуто Ю. Н. Тыняновым, который в специальной работе [Тынянов 1921] обосновал понимание повести Достоевского и его героя как особого типа глубокой и тонкой пародии на Гоголя, его личность, систему взглядов, язык и стиль его произведений. Он убедительно показал, что высказывания, речи и проповеди Фомы Фомича Опискина во многом – своим содержанием и строем, духом и формой – связаны прежде всего с проповеднически-учительной книгой Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».[220]220
В первом издании 1921 г. работа Тынянова [Тынянов 1921] была разделена на две части. Показательно заглавие второй: «Фома Опискин и “Переписка с друзьями”».
[Закрыть] В одном из сопоставлений Тынянов приводит и тот пассаж с изложением взглядов Фомы Фомича на литературу, который завершается нагло-самонадеянной фразой о Руси.
Подчеркивая в этом обширном отрывке целый ряд слов и выражений, которые он рассматривает как прямые цитаты из Гоголя или как гоголевские реминисценции [Тынянов 1977: 219–220], сам Тынянов эту фразу не выделяет и не анализирует. Но поскольку весь монолог Фомы Фомича о литературе интерпретируется как пародийное воспроизведение взглядов Гоголя, фраза о Руси тоже может быть понята как гоголевская.
Она может быть понята как гоголевская, поскольку вбирает в себя и воплощает один из важнейших идеологических комплексов последнего периода духовной и творческой жизни Гоголя в целом, «Выбранных мест из переписки с друзьями» [Гоголь 1987] в частности и в особенности. Можно утверждать, что ни в одном другом тексте этого времени сопряжение ключевых слов-понятий знать (понимать, любить и т. п.) и Русь – Россия во всех формах, составляющих их парадигмы, и в соединении с подразумеваемыми или наличными местоименными кванторами всеобщности (всё, все, никто и т. п.) не достигало того уровня частоты, который характеризует их употребление в этой удивительной книге Гоголя, «вызвавшей» его «на суд перед всю Россию» [Гоголь 1987: VI, 437]: «Все мы очень плохо знаем Россию…» [Там же: 241]; «Велико незнанье России посреди России» [Там же: 261]; «А Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, а я в ней ровно ничего не знаю…» [Там же: 264]; «Ты думаешь, что все обстоятельства России тебе открыты?» [Там же: 300]; «И меня же упрекают в плохом знаньи России!» [Там же: 242]; «Мне становилось страшно за Россию» [Там же: 274]; «И услышал себе болезненный упрек во всем, что ни есть в России…» [Там же: 245]; «Нужно любить Россию!» [Там же: 253]; «Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России…» [Там же: 254]; «Но прямой любви еще не слышно ни в ком… Вы еще не любите Россию…» [Там же: 254] и многое другое подобное.
Она может быть понята как гоголевская еще и потому, что полностью соответствует верхнему полюсу тех резких колебаний между самоуничижением до самооплевывания и самовозвеличением, которые объединяют обе эти фигуры – художественный образ и предполагаемый прототип – безразлично, в подлинно ли серьез-ном их самосознании и самоощущении или в намеренной игре на аудиторию, и независимо от степени обоснованности той или иной их самооценки. Это последнее обстоятельство очень важно, так как нужно признать, что у Гоголя были все основания думать о себе этой или подобной фразой: он, действительно, знал Русь, и Русь, действительно, его знала. Знала и давала ему знать это устами его друзей и почитателей.
Гоголь писал им так: «…Слух о них [о моих сочинениях] обойдет всю Россию…» (Н. Я. Прокоповичу 16 мая 1843); «Печатаю я ее [“Выбранные места…”] в твердом убеждении, что книга моя нужна и полезна России…» (Л. К. Вьельгорской, 16 янв. 1847); «Хотел бы я, чтобы по прочтении моей книги люди всех партий и мнений сказали: „Он знает, точно, русского человека…“ (А. М. Вьельгорской, 29окт. 1848)ит.п.
И они отвечали ему: «Скажу вам… от России, что вас все знают, все читают…» (А. О. Смирнова, 14 янв. 1846); «Да, да, вся Рос-сия устремила на тебя полные ожидания очи…» (С. П. Шевырев, 29 июля 1846); «Я хочу вполне насладиться… полным торжеством вашим на всем пространстве Руси…» (К. С. Аксаков, 27 ав. 1849); «Я, как и вся Россия, вероятно, ожидаю с нетерпением новое творение вашего пера…» (А. М. Вьельгорская, 17 янв. 1850) и т. п. [Гоголь 1988].
Двум голосам этого эпистолярного диалога точно соответствуют по смыслу и тону две части хвастливой фразы Фомы: «Я знаю Русь, и Русь меня знает».
В этой связи следует отметить, что еще при жизни Гоголя (и притом с неприкрытой отсылкой к Гоголю) эту фразу именно как гоголевскую, органично входящую в контекст гоголевских тем и мотивов, использовал Новый Поэт (псевдоним И. И. Панаева – см. [Панаев 1889]), опубликовавший в «Современнике» за 1847 г. (Т. IV. № 12. «Смесь». С. 187) – вслед за резчайшей критикой «Выбранных мест…» в рецензии В. Г. Белинского («Современник», 1847. Т. 1. № 2) и в «Письмах к Гоголю» Н. Ф. Павлова («Современник». Т. 1. № 5, 8) – прозаически-стихотворную пародию на лирические отступления Гоголя, которая завершается следующей декларацией: «…скажу, отбросив всякое самолюбие, но с полным сознанием собственного достоинства, как сказал некогда о себе один русский писатель: “Я знаю Русь – и Русь меня знает”…» [Виноградов 1976: 325].
Именно как гоголевская эта фраза нередко и понимается. При-чем как гоголевская в обоих возможных значениях этого относительного прилагательного: как «принадлежащая Гоголю» и «написанная по-гоголевски, в духе и в стиле Гоголя».
Можно полагать, что именно это второе значение имел в виду В. И. Кулешов, когда в своей недавней книге о жизни и творчестве Ф. М. Достоевского охарактеризовал (без ссылок и разъяснений) автопанегирик Фомы как «чисто гоголевскую фразу» [Кулешов 1979].
Ключевое слово «чисто», по-видимому, исключает возможность другого понимания. Так же, как чисто пушкинская легкость стиха – это признак, который можно приписать любому поэту, пишущему по-пушкински, кроме самого Пушкина; как чисто рембрандтовское освещение – это характеристика живописи кого угодно, но только не Рембрандта, – так чисто гоголевская фраза в устах Фомы Опискина – это, конечно, фраза в стиле Гоголя, но не фраза Гоголя.
Эту языковую тонкость, очевидно, не учел И. Золотусский, когда в своей резкой, во многом справедливой статье «Доколе?», обличающей литературоведческое невежество [Золотусский 1987], безоговорочно вложил в слова В. И. Кулешова тот смысл, которого они скорее всего не имеют («принадлежащая Гоголю»), чтобы затем так же безоговорочно обличать его и в незнании гоголевских текстов, и в незнании того, кто является действительным автором этой сакраментальной фразы, а значит, и стоящего за ним обширного круга литературных фактов, а заодно и в незнании материалов полного академического собрания сочинений Ф. М. Достоевского: «…эта фраза, ставшая крылатой, произнесена вовсе не Гоголем, а Н. Полевым в предисловии к его роману “Клятва при гробе Господнем”, о чем есть соответствующие примечания к повести “Село Степанчиково и его обитатели” в полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского…» [Золотусский 1987: 48].
На эти же примечания ссылается и А. П. Чудаков, автор комментария [Чудаков 1977] к указанной выше статье Ю. Н. Тынянова [Тынянов 1921], также характеризующий фразу Фомы как «слова Н. А. Полевого» [Чудаков 1977: 489].
Авторы указанных А. П. Чудаковым и И. Золотусским примечаний к тексту «Села Степанчикова…» действительно утверждают, что слова «Я знаю Русь, и Русь меня знает» принадлежат Н. А. Полевому, и, отмечая, что «формулу эту неоднократно цитировал в полемике с Полевым В. Г. Белинский», приводят соответствующий отрывок из подлинного текста Н. А. Полевого [Достоевский 1972: 511].
До этого аналогичные наблюдения были сделаны авторами словаря крылатых слов Н. С. и М. Г. Ашукиными, которые, исправляя ошибку С. А. Венгерова, приписавшего (в комментариях к Полному собранию сочинений В. Г. Белинского 1901 г.) эту фразу Ф. В. Булгарину называют ее автором Н. А. Полевого и также пере-печатывают обширную цитату из его текста [Ашукины 1955: 624].
Однако еще раньше – скрыто уточняя Ю. Н. Тынянова – на Н. А. Полевого как автора крылатой фразы о Руси в своих работах 20-х годов указывал В. В. Виноградов (см. [Виноградов 1976: 67, 239–240 и ел. ]).
Но что же все-таки и как говорит Н. А. Полевой?
В обширном предисловии (10 страниц отдельной – римской – пагинации) к роману «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV века». Москва. В университетской Типографии. 1832[221]221
В словаре [Ашукины 1955] это произведение ошибочно названо пове-стью, а в заглавии опущено указание на век.
[Закрыть] – оно озаглавлено: «Разговор между сочинителем русских былей и небылиц и читателем» – Н. А. Полевой, опровергая обвинения журналистов, литераторов и критиков, которые пишут против него «в стихах и прозе, критических статейках, эпиграммах, водевилях и сатире», обращается к читателю со следующими словами: «Но кто же говорит и беспрестанно твердит вам[222]222
В словаре [Ашукины 1955] здесь и далее дважды допущена опечатка: нам (с. 624) вместо вам.
[Закрыть] о моем отступничестве, отречении от русского, нелюбви к Руси?… Те, которые ничего не читают, не пишут, а составляют зевающую толпу вокруг пишущих. Но кто читал, что писано мною доныне, тот, конечно, скажет вам, что квасного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю, и еще более – позвольте прибавить к этому – Русь меня знает и любит» (с. IX–X).
Совершенно очевидно, что в этом заявлении, сделанном в пылу мысленного спора с недоброжелателями, чем и объясняется пафос автора и вызванное им преувеличение собственного значения,[223]223
Ср. те же мысли, но изложенные более сдержанно в написанном за год до выхода романа письме к А. А. Бестужеву: «Судьба дала мне средство сделаться почетным в ряду моих сограждан, драгоценное доброе имя в их глазах заменяет недостаток денег, и имя Полевого они считают честью… Чувствую свое прекрасное назначение содействовать благу отчизны… И в десять лет литературного бытия я уже успел во многом быть полезным – это я слышу, чувствую, понимаю…» (25 сент. 1831 г.) [Полевой 1986: 511].
[Закрыть] есть мысль, выражаемая крылатой фразой «Я знаю Русь, и Русь меня знает», есть весь необходимый материал для выражения этой мысли или, точнее, для создания формы выражения этой мысли, но нет еще самой фразы. Точно так же, как нет крылатого вопроса «Кто первый сказал “э”?» в гоголевском диалоге Бобчинского и Добчинского и как нет еще деревянной скульптуры Эрьзи в диком корне, в котором она позднее будет угадана и из которого будет вырезана.
Крылатая фраза «Я знаю Русь, и Русь меня знает» отливалась и выковывалась из материала, предоставленного Полевым, и закалялась и оттачивалась в журнальной полемике, в сатире, критике и публицистике 30-40-х годов XIX в.
Так, по указанию Ашукиных, через два года после выхода романа Полевого, в 1834 г., в Москве появляется анонимная сатира «Подарок ученым на 1834 год. О царе Горохе…», в которой представлено заседание философов и историков, обсуждающих вопрос о том, где и когда царствовал этот царь. Среди участников обсуждения выведен и Полевой. Отрицая значение тогдашних авторитетов исторической науки, он хвастливо и самонадеянно заявляет: «Я историк; с гордым сознанием говорю: Я историк! Я знаю Русь, – и меня знает Русь!» [Ашукины 1955: 624]. Здесь уже сделано почти все, что нужно: сырой материал обработан и убрано все лишнее. Но еще не определилась ритмика фразы, не сложилась расстановка сильных и слабых акцентов на определенных членах этой двух-колонной структуры.
Несколькими годами позднее, в рецензии на «Очерки русской литературы» Н. А. Полевого (1839 г.), В. Г. Белинский писал:«…Со-знание собственного величия свойственно всякому великому человеку… Полевой, упоминая о Гёте и Суворове, говорит о своих драматических пьесах… что ж тут удивительного? Это еще довольно скромно, а вот был на святой Руси человек, который печатно сказал о себе: “Я знаю Русь, а Русь знает меня”. Кто бы, вы думали, был этот великий человек?… Конечно, Петр Великий, который мощною рукою выдвинул Россию во всемирную историю, указал ей в будущем всемирное первое место и тем изменил грядущие судьбы целого мира, целого человечества?… Или Суворов?… Или, может быть, Пушкин… Нет, не они сказали о себе эту громкую фразу, а все он же, все господин же Полевой…» [Белинский 1953: 3, 500]. Поиск, как видим, продолжается.
И только в следующем, 1840 г., все окончательно становится на свои места и фраза обретает завершенную и совершенную форму. Воздавая должное Крылову, В. Г. Белинский писал: «Честь, слава и гордость нашей литературы, он имеет право сказать: “Я знаю Русь, и Русь меня знает”, хотя никогда не говорил и не говорит этого» [Белинский 4: 151].
В последующие годы и сам Белинский, и другие авторы (ср. цитированный выше текст Нового Поэта) пользовались, насколько можно судить по имеющимся данным, именно этим последним вариантом, получающим таким образом каноническую форму. Именно его и вложил Ф. М. Достоевский в уста своего героя, воспользовавшись им как готовым – прошедшим боевые испытания на ближних полигонах – публицистически заостренным языковым оружием и не имея никакой необходимости обращаться к далекому, четвертьвековой давности первоисточнику – роману Н. А. Полевого.
Однако в распоряжении Ф. М. Достоевского была не просто апробированная в боевых жанрах литературы готовая крылатая фраза – формула публичного осмеяния хвастовства, самонадеянности и гордыни. В его распоряжении было нечто значительно более сильное – готовый опыт ее художественного применения. Опыт ее использования в качестве одного из важнейших средств создания пародийного художественного образа. Помимо указанной В. В. Виноградовым в другой связи пародии Нового Поэта, здесь имеется в виду не привлекавшийся до сих пор к сопоставлениям роман И. И. Лажечникова «Басурман» (1838), пользовавшийся широкой популярностью и неоднократно переиздававшийся [Лажечников 1989].
В ряду персонажей второго плана особое место в этом романе занимает фигура Бартоломея (Варфоломея), «книгопечатника» и «переводчика великого государя». Уроженец Лейпцига-Липецка, он по неблаговидным причинам был вынужден бежать в Московию, где принял православие, «выучился по-русски и начал исправлять должность переводчика немецких бумаг и толмача немецких речей». Все в нем вызывает отвращение: «обнаженные поляны на голове», «множество иероглифов» на лбу, «маленькие глазки, выражающие неравнодушие к женскому полу», чудовищный нос («чудо из носов! он к корню сузился, а к ноздрям расширился наподобие воронки и был весь испещрен пунцовым крапом»), но зато не губы, а «губки, умильно вытянутые вперед», словно он готовился «играть на флейте» и т. п. Он нелепо сложен и хромает («одна нога, любя подчиненность, всегда дожидалась выхода другой»). Говорит он, «нежно осклабясь» и «с ужимками», «делая на каждом слове и едва ли не на каждом слоге запятые, как он делает их ногой». Он – чревоугодник и пьяница («частый посетитель виноградников господних»), развратник и сводник, собиратель и «разносчик вестей и сплетен», мелкая душонка, человек без чести, издевающийся над слабыми, пресмыкающийся перед сильными, готовый продать и предать, бесстыдный лжец и самонадеянный хвастун…
Этот гротескный образ, на создание которого Лажечников не пожалел самых ядовитых красок, – злая и злобная пародия на Н. А. Полевого. Тесно связанный с «Московским телеграфом» (1825–1834), редактором и издателем которого был Н. А. Полевой, И. И. Лажечников хорошо знал того, чей реальный облик получил столь резко недоброжелательное и искаженное отражение в нарисованном им портрете.
При том, что некоторые из отмеченных выше характеристик Бартоломея заведомо вымышлены, а другие представляют реальные признаки прообраза в извращенном до неузнаваемости виде, в соответствии с законами поэтики гротескового кривозеркалья, есть еще и третьи, обеспечивающие безошибочное опознание оригинала – цели и мишени, в которую метил автор. Так, Бартоломею – «сорок с походцем», и Н. А. Полевому (1796–1846) в 1838 г. сорок два года; Бартоломей прибыл в Московию из Липецка (Лейпцига), как Н. А. Полевой в Москву из Курска; Бартоломей – немец, и Н. А. Полевой из трех европейских языковых культур ориентирован прежде всего на немецкую (ср. его «Эмму», повесть из немец-кой жизни; «Блаженство безумия» и др.); Бартоломей – страстный собиратель русских народных песен, а Н. А. Полевой, как он сам себя называет, – «сочинитель русских былей и небылиц»; Бартоломей намеревается издать собранные им песни и уже подготовил для этого будущего издания «целый том предисловия», а Н. А. Полевой – известный издатель и автор романа с поразившим современников предисловием длиною в 10 страниц…
Обращает на себя внимание и то, что, представляя своего героя как переводчика великого государя, Лажечников постоянно называет его «книгопечатником», хотя сам же отмечает, что единственной продукцией его печатного станка были устные сплетни. Для других персонажей романа он также всегда переводчик, да и сам он, говоря о себе, называет себя переводчиком. Обращаясь к послу Фридриха III, барону Эренштейну («рыцарь Поппель»), он восклицает: «Без хвастовства сказать, высокомощнейший посол, мне стоит только намекнуть, уж во всех концах города кричат: быть посему! дворской переводчик это сказал. О, Русь меня знает, и я знаю Русь!»
Фраза о Руси – последняя точка в удостоверении личности Николая Алексеевича Полевого, стоящего за Бартоломеем. Она же – кульминационная вершина, то, что называется pointe, этого художественного образа. Проговорив ее, Бартоломей неизбежно исчерпывает свое романное существование и сходит со сцены, терпя полное и сокрушительное поражение.
С формальной стороны эта фраза – последний вариант обсуждаемой здесь формулы (осталось лишь изменить порядок частей) на пути к тому завершенному, каноническому ее виду который она получит, как уже говорилось, двумя годами позднее, под пером В. Г. Белинского в 1840 г.
Но этот вариант исключительно важен не только тем, что он последний. Именно здесь, в романе Лажечникова, в целостном кон-тексте художественного образа фраза о Руси напитывается таким ядом сарказма, получает такую экспрессивную силу, которых она не имела и не могла иметь на предшествующих этапах ее развития.
Используемая в журнальной полемике 1832–1838 гг., она, как бумеранг, постоянно возвращалась к тому, кто подготовил ее рождение, сказав о себе то, что в значительной мере соответствовало действительности, но сказав так, как не должен был, как не имел права говорить о себе, как о нем могли и имели право сказать толь-ко другие. Многократно адресуемая непосредственно самому Полевому, она упрекала в повышенном самомнении и иронизировала над нескромностью. Под пером Лажечникова, пройдя через образ полнейшего ничтожества, она получила силу издеваться над самонадеянностью, язвить хвастливое невежество, бичевать наглость. Именно такой и получил ее Достоевский, завершивший формирование ее внутреннего содержания в системе того нового художественного целого, каким является фигура Фомы Фомича Опискина.[224]224
Позднее – в 1863 г. – Достоевский перенес фразу Фомы в «фельетон» «Зимние заметки о летних впечатлениях», использовав ее для характеристики нового Молчалина: «Он посвятил себя отечеству, так сказать, родине… Теперь до него и рукой не достанешь… Он при делах и нашел себе дело. Он в Петербурге и… и успел. “Он знает Русь, и Русь его знает”. Да, уж его-то крепко знает и долго не забудет…» [Достоевский 1973: 5, 63].
[Закрыть]
Таким образом, крылатая фраза «Я знаю Русь, и Русь меня знает» не может и не должна приписываться Полевому. Он не был ее автором, и он давно перестал быть ее осмеиваемым адресатом. Кривое зеркало лажечниковского гротеска и течение времени, размывающего аллюзии и ассоциативные связи, настолько развели их, что уже в 1858 г. М. Н. Лонгинов вынужден был напомнить читателям о том, кто стоял первоначально за хорошо знакомой им фразой о Руси [Лонгинов1915: 510–511]. Она оторвалась от Полевого и зажила своей самостоятельной художественной жизнью. Как было показано выше, ее окончательная форма принадлежит Белинскому. Ее внутреннее содержание – Лажечникову и Достоевскому.[225]225
В этой связи становится особенно очевидной глубокая правота В. В. Виноградова в его мягко корректирующей полемике с Ю. Н. Тыняновым по поводу понимания им пародийной природы «Села Степанчикова…» Ф.М.Достоевского: «…из сопоставления автора совершенно ясно, что стилистической, т. е. словесной, пародии на приемы организации речи “Переписки” в “Селе Степанчикове” нет. Тематические совпадения и общность отдельных фраз речей Фомы и “Переписки с друзьями” говорят лишь об использовании “Переписки” в качестве материала для создания “типического характера”. И если говорить о пародии, то придется ее видеть не в системе словесных смещений, а в приурочении тем и фраз гоголевской “Переписки” к герою с отрицательной психологической характеристикой» [Виноградов 1976: 198].
[Закрыть]
Таким образом, следует прийти к выводу, что вопрос «Кто первый сказал “э”?» в отношении литературно-языковых явлений такого рода должен быть дополнен вопросом «Кто первый сказал “э” по-современному?». Поиск ответов на этот вопрос, какими бы мелкими и частными ни казались вызывающие его «э»-факты, оправдан уже потому, что «таким образом разыскиваются утерянные ключи к тем сторонам художественного произведения, которые были остро действенными в эпоху его появления» [Виноградов 1976: 67]. Как сказал когда-то В. О. Ключевский, «важно не только то, от чего что произошло; еще важнее то, что в чем вскрылось».
Литература
Алексеев 1921 – Алексеев М. П. О драматических опытах Достоевского //Творчество Достоевского. Одесса, 1921.
Ашукины 1955 – Ашукин Н. С. Ашукина М. Г. Крылатые слова. М., 1955.
Белинский 1953 – Белинский В. Г. Очерки русской литературы: Сочинение Николая Полевого. 1839. СПб., 2 ч. // Поли. собр. соч. Т. 3. М., 1953.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































