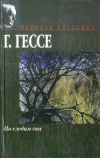Текст книги "Грешники"

Автор книги: Алексей Чурбанов
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
– Слушай, – сказал Валентин, заставив себя не обратить внимания на последние слова Совушки, – а может, тебе за немца замуж выйти? Хенде хох, нихт щиссен, пу-пу?
– Ну, хватит, – снова рассердилась Совушка. – Глупый ты всё-таки, Валя.
– Почему глупый? Замуж за немца. Что ж тут глупого?
– Я бы за тебя замуж пошла. Хоть сейчас. Берёшь?
– Я на серьёзные темы шутить не умею.
– А я и не шучу, Валя. Я тебя жениться на себе приглашаю.
– Сова, ну не надо. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Не ерничай, пожалуйста.
– А как ты ко мне относишься? Я вот тебя люблю, а ты можешь мне это сказать?
– Могу, наверное. Только не так наступательно.
– А как же твоя девушка из Боровичей? Ты что – нас двоих любишь?
– Почему нет?
– И кого больше?
– Сова, нам что – поговорить больше не о чем?
– Но если ты меня любишь, пусть и меньше, чем её, то почему бы нам не попробовать? Мы ведь не пробовали ещё жить вместе.
– Тебя со мной вообще в Германию не возьмут.
– А зачем нам с тобой в Германию? Нам с тобой Германия не нужна. Валюша, я с тобой хоть в Антарктиде жить буду.
– И в Боровичи поедешь?
– В Боровичи – нет. Ты гарем там будешь составлять, что ли? Смотри, не прокормишь.
– Шутка.
– А говоришь, на серьёзные темы не шутишь. Хотя, скажешь – и в Боровичи поеду.
– Уже смешно. Дай, я тебя поцелую.
– Отстань.
– Если ты даже целоваться не хочешь, то как мы жить-то будем?
– Потому что ты врёшь и жить со мной не будешь. Ты только с толку меня сбиваешь, а я снова иллюзии строю.
– Тогда давай дружить.
– Я готова дружить, я даже в постель с тобой лягу в любой момент, только позови. Хоть через день, хоть через год. Но я хочу дружить с тобой лично. Я люблю тебя и хочу с тобой личных отношений. Настолько близких, насколько ты готов. Я имею на это право. Только не семьями. Я видеть не хочу твою боровичскую подругу и слышать о ней не желаю.
– Сова, ты мудрая женщина. Только не злись. Я сейчас с тобой один, лично. И никого за спиной у меня нет. Я очень ценю наши с тобой личные отношения.
– Тогда пошли в постель. Ты же должен помнить, что я хорошая любовница.
– Помню, конечно. Но я твоё предложение воспринимаю как шутку. И шуткой же отвечаю, как в том кино: «Я тебя уважаю, но пить не буду».
Совушка замерла на секунду, потом замахнулась на Шажкова кулачком.
– Сейчас вот как дам! – проворчала она, одновременно и хмурясь и улыбаясь. – Пить он не будет. Гусь!
Устав от споров, заказали ещё по коктейлю. Шажков выбрал коктейль «Папа Хемингуэй». Из искусно спрятанных в зелени колонок зазвучала расслабляющая тема кубинской песенки «Гвантанамера».
– Надо было этот бар назвать по-другому, ну хоть «Гавана», – подумал разомлевший Шажков, никогда не бывавший в Латинской Америке, но чувствовавший что-то настоящее в этом нестандартном уголке декабрьского Петербурга. – А как ты открыла это божественное заведение? – спросил он у сидевшей напротив такой же расслабленной Совушки.
– Мне его Кривицкая показала, царство ей небесное.
– Как царствие небесное? Она что, умерла?
– Да. Пятнадцатого июля. От инсульта.
– Слушай, – Шажков не смог сразу подобрать слова, – жаль старушку-то. Что ж ты мне не сказала?
– Не успела.
– Так у вас на кафедре теперь пертурбация. Не потому ли ты в Германию собралась?
– Потому, не потому, какая разница. Главное, что собралась. Кривицкая, кстати, перед смертью тебя вспоминала.
– Меня?!
– Нас с тобой. Она почему-то решила, что мы поженились. Ну, ты понимаешь, инсульт всё-таки. Просила передать тебе привет.
Шажков был слегка ошарашен. Он хорошо помнил Совушкину начальницу, в целом симпатичную, хоть и не без признаков занудства старушку, которую он встретил всего один раз весной в филармонии. Она оказала тогда внимание лично ему, Шажкову, поэтому Валя не мог не почувствовать симпатию к ней. И вот её нет, а есть только запоздалый привет. Ответить на него уже нельзя, обсуждать – незачем. Валя почувствовал лёгкую обиду на Софью. Его в последнее время посещало чувство покинутости и одиночества, и непереданный привет кольнул именно в эту болевую точку. Помолчали.
– Ладно, Сова, – наконец поднял бокал свой Шажков, – помянем, не чокаясь. Ты ведь любила старушку?
– Она многому меня научила, – виноватым голосом произнесла Софья, – и вообще. Надо было сообщить тебе о её смерти. Моя ошибка, извини.
– Да ладно.
Снова помолчали.
– Ну, вот видишь, сколько нового мы узнали друг про друга сегодня, – задумчиво резюмировал Шажков, успокаивающе погладив Совушку по руке. – Нужно чаще встречаться.
– Да, Валюша. Расскажи теперь, как твоя наука?
– Нет никакой науки, Сова, – после паузы с досадой, как о наболевшем, произнёс Валя, вызвав у Совушки удивление.
– Что случилось?
– С наукой ничего не случилось. У нас на кафедре её как не было, так и нет. А вообще, надоела мне что-то европейская заумь. Философствование это, самолюбование. Гордыня.
– Что-то новое. С тобой как всегда интересно. Философу надоела философия?
– Типа того. Не сама философия даже, а равнодушие и жестокость, которые она плодит.
– В чём жестокость-то?
– Ну вот, например, пересматривал я на днях старый фильм Фрэнсиса Копполы «Апокалипсис сейчас». Не знаю, почему у нас его перевели «Апокалипсис сегодня». Я очень любил этот фильм, поэтому, когда включил, то зацепился и досмотрел до конца. Ты помнишь конец?
– Конечно.
– Помнишь, как убивали полковника?
– Ну да. Там убивали какое-то животное.
– Вот. Ты это запомнила.
– Кстати, неприятная сцена.
– Вот, Совушка. А режиссёр счёл это творческой находкой. Игровую сцену убийства человека он заменил документальной сценой убийства настоящего животного, в которой его живого рубят на части, и оно – это животное – не успевает умереть и продолжает жить и мучиться, уже будучи фактически разрубленным. Заживо изрубить перед камерой реальное животное, чтобы аллегорически показать смерть выдуманного человека! Вот тебе пример, когда человек, считавший себя интеллектуалом, а возможно таковым по европейским меркам и являвшийся, не справился с собственными страстями, не выдержал давления порока, который пёр у него изнутри. Знаешь, как не сдержался и пукнул в обществе. Или хуже, показал кончик дьявольского хвостика.
– Коппола – дьявол? – подняла брови Совушка, показывая, что приняла вызов и вступила в дискуссию.
– В каждом из нас свой дьявол. Он не справился со своим.
– Ты перегнул палку, признай.
– А ты что, не чувствуешь чертовщинку?
– Чертовщинку? Это режиссёрский приём, пусть и жестокий. Может быть, неоправданно жестокий, но он потрясает. Люди, посмотрев это, выходят другими.
– Лучше или хуже?
– Другими!
– И слюни у них не текут?
– С твоей логикой все великие художники – черти.
– Не все, но есть, есть такие! Понимаешь, это чувствуется. Читаешь книгу или смотришь фильм, и вдруг раз – копытца на секунду показались или хвост.
– Ну и? Например?
– Да пожалуйста. Вот пример из мира музыки – Бетховен.
– Кто? Бетховен – чёрт?!
– Сова, ты не горячись. Давай возьмём сначала того, по которому, на мой взгляд, есть консенсус во всех цивилизациях: Иоганна Себастьяна Баха. Почему он (как ни крути) – композитор номер один? А я тебе скажу. Он гармоничен Богу, он гармоничен природе, вселенной, говоря словами наших атеистов. Есть у него произведение, которое я могу назвать самым-самым из всех в природе. Как ты думаешь, какое?
– Какое?
– Но у тебя ведь нет сомнения, что самым-самым должен быть Бах?
– Ну… Допустим.
– Пожалуйста: самое-самое музыкальное произведение в мире – это «Мелодия на струне соль» Иоганна Себастьяна Баха. Это вот произведение – гармония Бога с человеком или нет?
– Валюша, я не настолько знаю Баха, но верю тебе сразу и безоговорочно. А Бетховен?
– А Бетховен – это другое. Бетховен – это великое напряжение человеческих сил, чтобы встать во главе мира, занять место Бога. Типа, «человек – это звучит гордо!» Только горьковскому мелкотравчатому ницшеанству далеко до бетховенского подъема человеческого духа. И до бетховенского трагического разочарования в том, что Бог побеждает, что человеческий дух не всемогущ. Хотя, может быть, и тайной радости от этого. Вот в ком великая борьба Бога и дьявола!
– Да, Валя. Что-то церковь плохо влияет на тебя. Такое впечатление, извини, складывается, что ты не в церковь ходишь, а в секту какую-нибудь. Что церковь ваша говорит об искусстве? Что это чертовщина, да?
– Не знаю, что она говорит. Причём здесь церковь? Я тебе рассказываю свои собственные ощущения. Я и раньше замечал, просто не рассматривал всё это с точки зрения чертовщины.
– Ну а причём здесь философия, тем более европейская? Коппола вообще американец.
– Европейский взгляд на мир не привязан к территории. В самой Европе много людей, не мыслящих по-европейски. И наоборот.
– И что?
– А то, что европейское, да и во многом мировое искусство есть продолжение европейской философии, а если шире, то европейского гордого взгляда на мир.
– Спорная мысль. Хотя и не новая.
– Но по-новому прочувствованная. Я всё больше внутренне спорю с европейской традицией, которая кажется мне эгоистической и занимающей чрезмерное место в мировой культуре. На вершине европейской культурной иерархии кто? Учёный, мыслитель, творец, который по мере отхода от духовной, религиозной первоосновы вырождается в гордеца и циника. Наука в том виде, как мы её знаем – это чисто европейское культурное явление, по существу, навязанное миру. Из средства познания мира эмпирическая наука в Европе превратилась в фетиш, подменила и религиозную веру и философию. Сейчас ничтоже сумняшеся философами объявляют себя все: математики, физики, биологи, не говоря уж о разного рода шаманах, прости господи. И снова всем кажется, что жар-птица схвачена за хвост, что мы можем всё, а значит, Бога нет. И мы сами разберёмся со своими страстями. Уже разбираемся: мы трудолюбивы, политкорректны, законопослушны, благочестивы, а значит – цивилизованны. Что ещё нужно? Зачем нам Бог? А ведь всё это – политкорректность, законопослушность, благочестие – суть несвобода. Это постоянное, сознательное и мучительное самоограничение. И наказание оступившихся. И вечный страх перед дьявольским стремлением человечества, осенённого научными знаниями, к саморазрушению. Как следствие – изоляция, боязнь мало-мальского конфликта, близкого душевного контакта, физического прикосновения, наконец. Скоро целоваться будет всё равно что за стол сесть с немытыми руками. А уж за неиспользование презерватива вообще будут посылать на принудительные работы! – Валентин возвысил голос, привлекая взгляды с соседних столиков.
– Ну ты, оратор, – полушёпотом перебила его Совушка. – Давай на полтона тише. Надо же! От Копполы и Бетховена до презерватива. Широкий, можно сказать, широчайший охват мысли.
– Я хочу закончить, – не остановился Шажков, но говорить стал тише. – Так вот, от истинной свободы – с Богом – европейская традиция отказалась. Выбрала ограничение, то есть несвободу. А когда ты с Богом… Я не могу пока в полной мере достигнуть этого состояния, но знаю: с Богом я органичен мирозданию, а значит, я свободен.
– То есть европеец несвободен, а ты свободен?
– Да не я лично. Мне до свободы как до луны пока. К сожалению.
– Значит, ты тоже вынужден ограничивать себя, как европеец?
– Да, да. К сожалению. Причём у европейцев это лучше получается.
– То-то же. Но в чём тогда разница?
– Может быть, не уверен полностью, но может быть – для меня, да и не только для меня, европейский подход не плодотворен. Может быть, естественнее было бы через Бога к свободе идти, а не через дисциплину и самоограничение.
– Слышали уже, ты не первый, – вдруг рассердившись, неожиданно резко отреагировала Совушка. – Особый путь опять, да? На самом деле есть культура и бескультурье, а не свобода и несвобода. Культура подразумевает самоограничение, естественное самоограничение. И не надо никаких больше слов.
– Не «культура», а «культуры», тогда уж. Кроме навязываемой всем европейской культуры есть много других культур. Чтобы закончить утомившую тебя дискуссию…
– Монолог, а не дискуссию. Дискутировать ты разучился, как я вижу, – с некоторой досадой в голосе вставила Софья.
– Чтобы закончить утомивший тебя монолог: европейская цивилизация не приемлет непонятные ей культуры, вот в чём её проблема. Более того, в европейской традиции – мы должны это признать – уничтожать всё непонятное. Примеры, надеюсь, приводить не надо? У них принято говорить о личной свободе и правах личности, но при этом уничтожать эти личности миллионами в больших и малых войнах по всему миру. Это происходит до сих пор. Что, не так?
– Ты вот, наверное, думаешь, что это оригинально. Что это бунт, как говорил Алёша Карамазов, – сердито-язвительно проговорила Софья, – а на самом деле это буря в стакане воды, бунтишко против цивилизации, которая, ты сам это говорил, тебя выпестовала. Что взамен-то? Русская духовность? Инопланетный разум? Мусульманский фанатизм? Что? – Совушка порозовела и стала очень красива в своём искреннем гневе.
– Не знаю пока, – залюбовавшись подругой и желая притушить страсти, сказал Валентин, – но часто думаю вот о чём: что может заменить в качестве основы цивилизации библейскую историю? Я в широком смысле говорю. У каждой живой цивилизации есть своя «библейская история». Так что может её заменить? Коммунизм, как мы знаем, не заменил, не стал спасением ни для души, ни для тела. Наука как движущая сила всего? Не смогла удержаться на Олимпе, перешла в сферу обслуживания. Свобода в светском понимании? Человек не свободен от порока и не имеет действенных светских инструментов противостояния ему. Это хорошо показывает европейская история и культура. Права человека? Никто не может даже сформулировать, что это такое, а потому всё сводится к обслуживанию сомнительных прав различных меньшинств с вопиющей дискриминацией мнения большинства. Получается, что ничто библейскую историю заменить не может, Сова. Она остаётся ядром всякой цивилизации, и разрушение этого ядра убивает саму цивилизацию.
– Валюша, я не философ, но думаю, что против такого, прости, расхристанного мнения можно найти серьёзные аргументы. И вообще, может быть, проблема вовсе не в европейской цивилизации, а в тебе самом, а?
– Конечно, во мне самом. А ты что думала, в цивилизации? – засмеялся Шажков, всем своим видом показывая, что его не надо принимать всерьёз. – Закончим, Сова. Я тебя люблю.
– Я тебя тоже. Но раз так, тебе надо что-то делать с собой, – упрямо продолжила Софья.
– Надо менять свою жизнь, – посерьёзнев, сказал Валентин.
– Вот. Я тоже к этому пришла. Только мы это понимаем каждый по-своему. Ты наплюёшь на европейскую цивилизацию, женишься, наплодишь детишек таких же талантливых, как ты, будешь ворчать на жену и чувствовать себя счастливым.
– Не уверен, но… может быть. А ты?
– А я уеду. Пусть не насовсем, а может быть, и насовсем. Не потому, что я не патриотка. Просто я другого мнения о европейской цивилизации. И я устала жить на её вечной границе, устала бороться с ветряными мельницами. Ты вот любишь это занятие, а я нет. Я хочу остаться в парадигме этой самой великой цивилизации. Вот и всё.
– Молодец, – одобрил про себя Валентин, – грамотно сказано.
– И я уважения хочу, – с жаром продолжала Совушка, – не чрезмерного, а такого, какое заслужила. Не больше, но и не меньше. И чтобы других людей вокруг меня тоже уважали. Вот это я и считаю цивилизацией.
– И чтобы мусора на улицах поменьше.
– В том числе.
– Я тебя понимаю, Сова. Я всё это чувствую про тебя, как будто я – это ты. Прекрасная огромная страна, Родина, можно сказать. Люди в целом добрые. Культура, опять-таки, великий-могучий русский язык. Но при этом грязь, свинство душевное и физическое, пьянство, коррупция, отставание вечное. Бессмысленная погоня за цивилизованными странами, а дело ведь не в странах (мы это понимаем), а в народах. Значит, за цивилизованными народами. Значит, мы здесь не цивилизованны. И дальше по кругу, из которого не вырваться. Остаётся уезжать. Я правильно рассказываю?
– Нет, неправильно. Это всё так, но это внешнее. А есть внутреннее. Я не в том месте, где должна быть, ты это понимаешь?
– Подумаешь. И я не в том. Пушкин тоже жаловался, что он не в том. Его место, наверное, было в Эфиопии. Да, может быть, мы все – не в том.
– А где ты должен быть? Ты лично – сейчас? В Питере?
– Да. Пока да.
– Пока всё-таки?
– Ну, на всю жизнь не зарекаюсь. Я тебе сейчас объясню. Ты вот по характеру и воспитанию – общеевропейка, а всю жизнь пытаешься быть сугубо русской, если можно так выразиться. А я по характеру и воспитанию – сугубо русский, но пытаюсь быть общеевропейцем. Мы оба устали от этого. Надо отдохнуть, вот и решение проблемы. А там каждый из нас посмотрит, кем быть и где жить. В этом смысле я очень симпатизирую твоему решению. Правда, Сова.
– Не знаю, какая из меня «сугубо русская», но ты на «общеевропейца» не очень тянешь, – неожиданно резюмировала Софья.
– Конечно, куда нам, – сделал печальное лицо Валентин.
– Не обижайся, сам начал. Я думала, для тебя это должен быть комплимент. Всё-таки я люблю тебя именно как русского.
– А ты уверена, что я являюсь таковым? Русским? В моей семье столько всего намешано.
– Это неважно, – Совушка, как показалось Валентину, по-особенному оценивающе глянула на Валентина и с видимым удовольствием сказала: – Для меня ты русский, каким он должен быть.
– Да? – с интересом спросил Шажков. – И чем же я отличаюсь от общеевропейца, на которого не тяну? Одним словом можешь обозначить?
– Могу. Идеализмом своим. Иногда трогательным, но чаще – занудным. Как я тебя терплю, сама не знаю. Но люблю, – Софья неожиданно для Валентина и тоном и всем своим видом показала, что дискуссия закончена.
– Спасибо на добром слове, Совушка, – сказал Валя без тени иронии и несколько растерянно, не будучи готовым быстро закруглить диалог. – Умеешь ты поддержать.
– Всегда готова, Валюша, – ответила Совушка, допивая свой коктейль.
К гардеробу Валентин Шажков и Софья Олейник подошли вместе с пожилой парой, своим традиционным видом не совсем соответствовавшей легкомысленной обстановке тропического рая. Седой мужчина в добротном сером костюме. Сквозь его внешнюю сдержанность проглядывали следы былой вальяжности, делавшие его в эти моменты весьма привлекательным (о чём он, очевидно, и сам знал). Мужчина этот напомнил Валентину советского чиновника выше среднего ранга на заслуженной пенсии. Его спутница – интеллигентного вида сдержанная женщина, похожая на петербургскую учительницу или, в крайнем случае, на сертифицированного (и от того несущего особенную печать на челе) гида Эрмитажа или Петергофского дворца. Женщина неожиданно для Валентина повернулась к нему и заговорила, при этом как-то сразу на повышенных тонах.
– Вот вы, молодой человек, рассуждали об европейской цивилизации. Прощения не прошу, так как не услышать вас было просто нельзя, уж не обессудьте. Как вы, находясь в нашем прекрасном городе, который весь от начала до конца есть дитя той самой хулимой вами цивилизации, позволили себе такие слова? Как у вас язык повернулся? Откуда берутся, не знаю, такие варвары, готы?
– Готы – это не мы, а вы, – парировал несколько удивлённый её наступательным тоном Шажков, – это ваши предки, мадам.
– Что? – не поняв, а потому разом оскорбившись и покраснев лицом, спросила женщина.
– Не надо, Жанна, не обращай внимания, – вступил в разговор мужчина, прикрывая спутницу не по-стариковски широкой спиной (это его естественное движение вызвало внутренне одобрение Шажкова, а вот последующие слова – нет). – Сие есть вопиющий результат нашей социальной политики, помноженный на общий недостаток культуры и воспитания. Люди приезжают, заканчивают столичные вузы и остаются в столице со своим каким уж есть, но на самом деле скромным багажом знаний и культуры. А им бы на село, где их скромный багаж достаточен и, более того, востребован в полной мере. Вы сами откуда, позвольте полюбопытствовать, молодой человек?
В интонации голоса мужчины не чувствовалось ни антипатии к Шажкову, ни любопытства к нему.
– Мы ме-е-стные, – проблеял Валя, подавая гардеробщице два номерка. Он снижал планку очевидно лишнего разговора, совсем не желая ни с кем ни о чём спорить, но желая лишь одеть, обнять и проводить до метро свою Совушку, а потом подумать обо всём услышанном и обговорённом с ней в сегодняшний вечер.
– Оно и видно, местные, – облегчённо выдохнула женщина, – сейчас таких «местных» полгорода, самолётов не хватает обратно отправлять.
«Идёт на обострение старая карга, – лениво и некорректно подумалось Вале, – зачем? Ну, точно – училка, причём именно питерская, с характером, безнадёжно испорченным советско-романовской системой вкупе с больным климатом».
– Это он местный, – вдруг сердитым голосом вступила в разговор Софья, подставляя плечи под раскрытую Валентином шубу, – а я приезжая, из Боровичей. Знаете такой городок?
– А, так вы из Белоруссии? Очень приятно, – с неожиданно проступившей на лице симпатией глянув на Совушку, произнесла женщина, – в первый раз у нас?
– Приходилось и раньше. По делам.
– У вашей родины большое будущее. Кончайте там с вашим батькой и идите в Европу. Вам откроют дверь, не сомневайтесь. А мы здесь тихо позавидуем, – произнесла она, просветлев лицом.
– А что ж с вами-то будет? – сдвинув брови, озаботилась Совушка.
– Сейчас главное – вас отпустить на свободу и другие порабощённые народы (всё это было произнесено со светлой печалью на лице, убеждённо и без тени иронии), а с нами будет, что заслужили: сгинем в рабстве, и я не заплачу.
– Мы не рабы, рабы не мы, – добродушно прогудел Шажков.
– Что-то красноречие вас подводит, молодой человек, – усмехнулся мужчина.
– На вас расходовать не хочется, – лениво огрызнулся Валя, одной рукой придерживая Совушку за талию, а другой открывая входную дверь и впуская внутрь облачко морозного воздуха.
– Густопсовость неискоренима, – удовлетворённым голосом резюмировал им вослед мужчина.
На улице Валентин с Софьей переглянулись единомышленниками и, сцепившись локтями, быстро пошли по морозному Каменноостровскому. Валя вспоминал, как трогательно Софья поддержала его, объявив, что она из Боровичей.
– Что-то густо всё заваривается вокруг этих Боровичей, – вдруг подумалось ему, и он удивился, неожиданно почувствовав острое любопытство. – Что же это за Боровичи такие, пуп земли, центр вселенной? Не пора ли, наконец, съездить, посмотреть?
– Дядька этот – москвич, – прервав его мысли, сказала Совушка, слегка задыхаясь от быстрой ходьбы и морозного ветерка, – из старой московской чиновничьей тусовки. Барин. Я тебе это как филолог говорю. «Густопсовость» – это из их лексикона.
– Видишь, эти двое с тобой согласны, – задумчиво ответил Шажков, – ехать нужно, а то погрязнешь здесь с нами… в рабстве.
– Ну-ну, – фыркнула Софья, – скажи-ка лучше, ты всерьёз про чертей-то рассуждал и про европейскую цивилизацию или в полемическом задоре?
– Задор был, конечно, чего уж там, – признал Валя, – но по сути это то, что меня волнует сейчас, и именно в этом ключе. Я, наверное, плохо формулирую, Совушка. Одни эмоции и больше ничего.
Софья помолчала, потом сказала нараспев: «Люблю, когда ты говоришь со мной так. Извинительно, по-человечески. Мне сразу так спокойно становится».
Через час, проводив Совушку, Валентин тихо щёлкнул замком и вошёл в свою квартиру. Эмоции последних часов вдруг отошли на самый дальний план. Он впервые в полной мере почувствовал дух и неизбывное ощущение семейного дома.
В прихожей было прибрано, со всех сторон лился мягкий полусвет. Из комнаты, смущённо улыбаясь, вышла Лена, обёрнутая в белый шерстяной платок. Шажков обнял её и вдохнул женский мускатный запах, перемешанный с запахом шерсти и еле слышным фантазийным запахом утренних духов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.