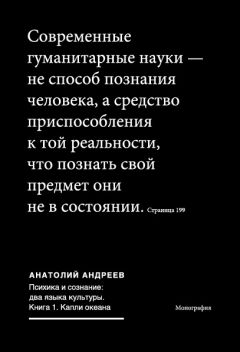
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Следовательно, нет более безнравственных и подлых существ, чем сластолюбцы, чревоугодники и мастера чарки.
Спору нет: жизнь, безусловно, любить не возбраняется; но надо же видеть антигуманную подоплеку культа жизнелюбия.
Мифу о гуманизме жизнелюбов, как всегда, противостоит трезвый анализ их игривой «философии» с ее вечно актуальным постулатом: не рассуждать. К жизнелюбам относятся с симпатией именно потому, что они, как дети, органически неспособны отдавать себе отчет в своих действиях. Строго говоря, мы восхищаемся их способностью не взрослеть, повиноваться позывам чудного легкомыслия (т. е. непосредственно инстинктам) и позволять себе игнорировать фиговые листки культуры с невинностью блаженных идиотов.
* * *
Семья держится борьбой за семью.
Поскольку для человека в равной мере естественно быть существом моральным и обреченно повиноваться программам, вложенным в него через инстинкты природой, регулирующей поведение детищ своих отнюдь не от морали, – постольку человеку в его многотрудной социальной жизни, регулируемой разными системами отсчета, уготовано множество ловушек. Вначале, на заре зрелой жизни, зов природы не только не противоречит моральным императивам здорового общества, но и находится с ними в трогательном согласии. Семья, основная ячейка общества, создается с санкции и общества, и природы.
Неизбежное рассогласование малосовместимых регулятивов обнаруживается позднее, тогда, когда человек уже, как правило, «нажил» себе почтенные права и обязанности, которые в один прекрасный день оборачиваются узлом неразрешимых проблем. Дело в том, что природа программирует вечную тягу к новизне, вследствие чего сексуальное влечение последовательно и неизбежно переключается на все новые и новые объекты – не потому, что «старые» становятся плохими, а потому, что природа заботилась о выживании рода человеческого, а не о его моральной чистоте.
Как бы то ни было жена – это не кукла Барби, от которой можно отмахнуться, словно от надоевшей забавы. Мужчина тайно или явно стремится к другим женщинам – а долг по отношению к жене и детям висит на нем цепями и веригами. Вот вечный сюжет нашей жизни.
В подобной ситуации, как говорится, возможны варианты. Кому-то легче остаться, чем уйти к другой, кому-то – наоборот. Кто-то вообще предпочитает со временем свободу и одиночество. (Оговорюсь: я имею в виду людей приличных, достаточно крупного нравственного калибра, для которых обрисованные экзистенциальные ловушки составляют реальную проблему в жизни.)
Во всяком случае, можно «понять» и природу, и мораль, целесообразность функций которых трудно отрицать. Расплачиваться за все приходится человеку. Альтернатива проста: или мыкай век с самой замечательной избранницей, которой невозможно предъявить ни одной мало-мальски обоснованной претензии (но охота пуще неволи. разлюбил – принимай к сведению), или уходи к другой, которая хороша пока только тем, что молода и не успела надоесть.
Человек оказывается без вины виноват. Уйдет – и невозможно избегнуть морального (авто)порицания: брошенные дети и жена, как тот пепел, вечно будут стучать в сердце и стоять в глазах.
Не уйдет – в глазах будет стоять собственная бесцветная жизнь, принесенная в жертву Высокому Долгу. Понимая, что он обречен бросить вызов либо природе, либо морали и осознавая также, что даже победа приведет его к поражению, нормальный человек часто вынужден идти на мучительный компромисс (мучительный, но, очевидно, в чем-то существенном более достойный, чем бездарное противостояние собственной двойной, культурно-естественной природе): сохраняя семью, иметь интерес на стороне. А дальше – возможны варианты…
Если уж от судьбы не уйти, то, смотря правде в глаза, предпочтительнее быть страдающим жизнелюбом, живой и творческой личностью, нежели замшелым лицемером-моралистом или животным эгоистом-циником, авторитетным типом духовного плебея (который сегодня активно прорабатывает культурный имидж «плэйбоя»).
Трудно остаться полноценным человеком в схватке с двумя стихиями. А по-другому им стать нельзя.
* * *
В мире, скроенном по лекалам идиотов, жить тем труднее, чем умнее ты становишься. С течением времени всё невыносимее нести на себе метку этого, родного и тебе, мира. Ведь жить в гармонии с лучшим из миров, далеким от совершенства, – значит самому поощрять в себе склонность к дисгармонии, т. е. к идиотизму. Нет в мире совершенства – означает дефицит регуляции от разума.
На фоне достаточно мрачной в отношении к приемлемым нравственно-философским критериям картины островками радости все более и более становятся ценности «низа». Гастрономические, амурные, телесно-оздоровительные соблазны уже не просто украшают и разнообразят жизнь, но несут на себе, по сути, философскую нагрузку, несводимую, конечно, к элементарному гедонизму. Речь идет о единственно эффективной защите жизни: витальном восторге, компенсирующем скудость ментальной эйфории.
* * *
Трезвый взгляд на женскую природу заставляет хладнокровно констатировать: женщины главным образом предназначены и приспособлены под нерассуждающую жизнетворящую и жизнесберегающую функцию – перемещение, движение генетической базы homo sapiens во времени. Природа не любит шуток, и женское начало всецело формировалось как самодостаточное звено в цепи жизнеобеспечения человека. Шутки шутить женщины начинают уже в зрелом социуме, когда они, униженные и оскорбленные, считают делом чести претендовать (со свойственным им где тонким психологизмом, а где истеричной агрессивностью) на роль культурного героя, демиурга. Узурпация роли и функции мужчины, отца не только потомства, но и культуры – самый настоящий абсурд. Женщина – мыслитель, творец культурных смыслов… Это, так сказать, божественная шутка. Она немало повеселила бы самого Творца, если бы он был, однако по меркам общества легчайший вселенский абсурд оборачивается подлинным социальным бедствием.
* * *
Женщина рожает дитя, т. е. часть ее тела начинает свою отдельную, самостоятельную жизнь. Это она сама, только предельно беззащитная, абсолютно беспомощная. Как уберечь, защитить свою ранимую плоть?
По отношению к детям в женщине развивается комплекс нежно-сентиментальных чувств. Вот откуда в женщинах, особенно имеющих детей, способность к эмпатии, вчувствованию, сочувствию. Возможно, это наиболее впечатляющий женский дар: чувствовать интересы другого, а иногда и жить ими.
С другой стороны, по отношению к потенциальной угрозе ее чаду в женщине развивается комплекс агрессивности, жестокости, я бы сказал, морально и психологически мотивированной наглой стервозности. Вот откуда двойственный лик прекрасной половины человечества: она и мадонна, и мегера одновременно.
* * *
Любой фанатизм, экстремизм, любое впадание в крайность – ложно и пагубно. Даже самое святое, самое целомудренное чувство в случае абсолютизации коварно истребляет само себя. Достоинство в «чистом виде» – это другое название порока. Реальное достоинство никогда не бывает беспорочным, истинное достоинство всегда с примесью своей противоположности.
Почему?
Умеющий отвечать на этот вопрос – всего лишь интеллектуал. Умеющий задавать его себе и всякий раз переживать фатальную несуразность ответа (сопровождающегося полным интеллектуальном блеском) – человек умный. Глубина вопроса в том, что это «больной» вопрос. Ответ есть, и ответ правильный, исчерпывающий. Но он не снимает вопроса, потому что это вопрос не только ума, но и чувства.
* * *
Вопрос о «положительно прекрасном человеке» очень тонко и глубоко решен Достоевским (независимо от того, что субъективно вкладывал в его решение писатель; модель – гениальна): святым, идеальным человеком может быть только «идиот». В широком смысле – человек ненормальный, ущербный, патологически кроткий. Он лишен (природа «выключила» эти программы) обычной человеческой агрессивности, а вследствие того – технологии удовлетворения хищных потребностей. Искомый идеал – психически и физически больной человек, кроткий в силу ошибки природы.
Нормальный человек обречен действовать по-хищному нормально: отвоевывать жизненное пространство, тяготиться моральными узами, быть послушным инстинктам. То есть быть существом в массе своей хитрым, коварным, безнравственным, практически беспринципным – до тех пор, пока бесы инстинктов не выработают ресурс. Тогда лишь можно подумать о душе. Такой вариант «душевного прозрения» может удовлетворить только слабоумных. При чем тут «душа»?
Для ясномыслящих невыдуманная святая кроткость, к сожалению, имеет один реальный облик: душевнобольного, идиота.
* * *
Что лучше: пессимизм или оптимизм?
Это вопрос, поставленный идеологически, ставший вопросом психологического отношения, оценки, а не познания сущности. Оптимистам подавай «фабрики грез», миражи, утопии, в которых они видят светлое будущее (или мрачное – но уже прошлое), так или иначе отвлекаясь от реальности. Нет ничего проще, чем быть оптимистом – если только бог смилостивился, и не слишком одарил интеллектом.
Пессимисты становятся таковыми тоже отнюдь не в силу глубокого постижения реальности. Они тоже видят то, что хотят видеть, а не то, что есть на самом деле: они тоже живут в мире иллюзий. Им нужна «фабрика антиутопий». Пессимистами, как, впрочем, и оптимистами, становятся тогда, когда это облегчает жизнь.
Указанные два способа манипуляции гаммами чувств есть просто форма психологической защиты, форма приспособления к реальности – путем ее «незамечания» или замещения. На самом деле действительно тяжелая ноша – это ноша реалиста, т. е. человека, умеющего отличать реальность от миражей и не боящегося делать это. Реалист не может позволить себе ни роскоши светлого идиотизма оптимиста, ни кокетничанья пессимиста. Реалист вынужден приспосабливаться к действительности не через миражи и соответствующие комплексы ощущений, а посредством глубокого самопознания.
Не унизиться до позиции оптимиста или пессимиста – вот задача человека мыслящего.
* * *
Интеллектуальная честность и добросовестность – вот межа, разделяющая людей на трудносовместимые духовные породы.
Если для одних «стать честным» означает обречь себя на общение с вечностью, живя в невыносимом мире людей, то для других этот же духовный императив содержит противоположный смысл: приятно пожить одним днем, сделав вечность вотчиной «духа святаго». Человеколояльные идеологии вторых считаются богоугодными, так как они облегчают жизнь детей Адама и Евы, вручая ее под покровительство небесных сил; трезвое и безбожное (следовательно, негуманное) отношение к миру первых – дерзкое безумие, ибо оно уничтожает посредника между человеком и вечностью, заставляя никому не обязанного своим появлением на свет homo sapiens’а принимать всю ответственность за жизнь исключительно на себя.
Первые – образец духа могучей личности, вторые – хилые интеллектуальные недоноски.
В жизни слабость вторых становится источником титанической силы, тогда как сила первых оборачивается полной неконкурентоспособностью в рамках правил игры абсолютного большинства – вторых.
Мир существует в двух пересекающихся измерениях, каждое из которых возможно благодаря другому, становится неполноценным, если представить себе исчезновение другого, и в то же время каждое из которых стремится к поглощению другого.
Вот почему мир един, что свидетельствует не только о его совершенстве, как принято считать, но и о несовершенстве.
Мир просто – един.
* * *
Благородство – качество трагическое, ибо рождается оно благодаря странной способности и склонности ежеминутно видеть и истреблять в себе скотоподобное начало. Начало же это, надо отдать ему должное, неистребимо, а указанная способность живет до тех пор, пока пульсирует неподкупное стремление знать всю правду о себе.
Став на стезю благородства, человек рискует потерять всякое уважение к себе и другим, поскольку уважение замешано на иллюзорном представлении, согласно которому благородство как «чистое» и «святое» качество всегда с успехом противостоит «нечистым». Благородство едва ли не приравнивается к воспитанности и воспринимается настолько легкомысленно-естественно, что неблагородство выглядит просто как недоразумение и конфуз.
При ближайшем рассмотрении благородство как черта мировоззренческая оказывается импульсом и итогом немилосердной акции саморазоблачения.
Остается уважать себя за честность, за мужество признать благородство человека мифом.
Вот на этом фундаменте может возникнуть здоровое отвращение к унизительной зависимости от натуры, а на основе отвращения – благородство как привычка преодолевать натуру культурными усилиями.
Такое мужественное и грубое благородство не имеет ничего общего с жеманной претензией прослыть благородным, т. е. при случае элегантно поступиться эгоистическим интересом, преследуя при этом другой свой интерес.
* * *
В сущности, человек есть нравственное существо. Но мы всегда ощущаем дефицит нравственности. Отсутствие же ее означает присутствие начала животного, которое всегда стремится вытеснить «врага», ослабить верховную духовную узду. Поэтому граница нравственного и животного, культуры и натуры в личности – зыбка, подвижна, проницаема.
Вот эту решающую особенность человека мы никак не можем принять к сведению в должной мере.
* * *
«Правильно думаешь – правильно поступаешь,» – примерно так считал Сократ.
Что значит правильно думать? Это непростой вопрос. Правильно ли думает рыбак, меняя маленький крючок на большой и скаля зубы в предвкушении богатого улова от своих правильных действий?
Правильно ли поступает человек, отпускающий на волю красивую рыбу?
Правильно распорядиться своей жизнью, этим случайным и бесценным даром, могут только мудрецы, ибо им дано видеть в жизни нечто большее, чем непрерывную охоту и наживу, и потому они часто поступают вопреки элементарной логике жизни-охоты, жизни-потребления. Им доступна жизнь-созерцание, жизнь-подвиг, жизнь-наслаждение, жизнь-трагедия… Правильное для одной жизни – неверно для другой.
Надо учиться думать, чтобы думать правильно, и только потом уже от человека можно ждать поступка, а не судорожных хватательных действий.
* * *
Проблема нравственного поведения заключается не столько в невозможности осознанного контроля за своими действиями, сколько в невозможности сдержать бессознательные влечения, всегда корректирующие поведение. Порядочный человек знает, что он должен делать; но выше его сил удержаться от того, что он делать не должен.
* * *
Благополучие и успех не очень способствуют глубокому и бескомпромиссному самопознанию. Философию жизни по-настоящему удается постичь тем, кого фортуна без всяких шуток ставила перед проблемой выживания и кому при этом удалось уцелеть.
Изучать же философию жизни в лабораторных условиях все равно, что штурмовать северный полюс по карте или знакомиться с проблемами семьи по учебнику.
* * *
Если труд создал человека – а эта версия представляется наиболее убедительной и всесторонне оправданной – то следует иметь в виду, что отсутствие труда ведет к разрушению самих основ человека, к деградации.
Труд души и интеллекта может при стечении благоприятных обстоятельств создать значительную личность. Видимо, существует прямая зависимость между количеством затраченных духовных усилий и качеством личности.
Если это так, то это означает только одно: отсутствие труда духовного влечет саморазрушение личности. Ибо труд, создав человека, становится условием его нормального существования.
* * *
Есть одиночество и одиночество. Одно из них является состоянием преимущественно психологическим, и разделить такое одиночество означает сопереживать, сочувствовать, душевно общаться. Такое одиночество – легко рассеивается при контакте с друзьями.
Другое – состояние из «регистра» мыслительного; чтобы перестать быть одиноким в этом случае, надо чтобы тебя хоть кто-то понимал, разделял всю глубину и сложность твоего миросозерцания. Такому одиночеству не поможешь обществом друзей. С таким одиночеством вообще бывает не к кому идти.
* * *
Переполненный автобус – модель ада для человека, который имеет представление о ценности достоинства.
Однако переполненный автобус, честно говоря, пустяк. В жизни есть еще тьма моделей ада. Жизнь превращает в ад не что иное, как полноценное чувство собственного достоинства; но отсутствие его не делает жизнь раем.
* * *
Редкие люди уникальной породы доживают до старости – и при этом продолжают развиваться, совершенствоваться, т. е. продолжают мыслить вглубь. Чаще всего развитие человека заканчивается гораздо раньше его физического исчезновения. Почему же так сложно в старости оставаться мыслителем?
Да потому, что отваживаться мыслить, т. е. быть выше жизни, когда ее уже фактически не осталось – это из области дьявольско-мефистофилевской гениальности. Ум-то ведь развивается и поддерживает кондиции «за счет» жизненных противоречий и коллизий, а не сам по себе. Значит надо сохранить в себе нечто от жизни, не имея стимулов жить.
Думаю, что чудес не бывает, и стимулом жизни может выступать только зов инстинктов, но никак не шелест ума. «Живу исключительно благодаря уму» – такого мыслитель не скажет.
А вот крепкая натура, чувствительная к сокам жизни, умеющая сберегать витальные ресурсы, имеет шанс и дальше беспощадно их истреблять. Обычно же стариков едва хватает на то, чтобы бессознательно тлеть, жить в режиме фактического возвращения в природу, а лучше «к Богу», из недр которой и промыслами которого они когда-то пришли в мир, чтобы дерзко порезвиться, ощущая бесконечный запас жизненной энергии. Так жизни придается несуществующий смысл. Молодой не боится умнеть, потому что не знает еще, что бросает вызов жизни и богу; старый вынужден глупеть, если хочет продлить жизнь вечно.
Откуда же, интересно, повелось изображать мудрецов дряхлыми редкобородыми старцами, с букетом явных признаков вырождения, самым невинным из которых можно считать слабоумие?
Миф о старцах придуман интеллектуальными младенцами, устами которых (а это уже плод измышлений старцев) почему-то решила глаголить истина. Детский лепет и старческий маразм, конечно, имеют много общего, но не стоит называть это мудростью. Допотопные старцы-мудрецы – это аргумент тех, кто умеет только верить, кто всю жизнь готовится умирать, не имея времени и сил думать и жить.
Мудрецов надо искать на спортивных и танцевальных площадках среди людей зрелого возраста – среди тех, кто ведет себя не по годам легкомысленно. Когорты солидных мумий-дегенератов, которых держат за эталон мудрости, – всего лишь месть жизни интеллекту. Шутки глупой жизни тоже бывают остроумны.
* * *
Чего боятся люди, когда они боятся смерти?
Физического уничтожения? Но психологически этот барьер преодолеть не более сложно, чем броситься в ледяную воду.
С умственной, отвлеченной точки зрения бояться тоже особо нечего: смерть в определенном смысле есть наилучшее, радикальное разрешение всех проблем.
Основное содержание неосознаваемого страха, помимо безотчетной воли инстинкта самосохранения, инстинкта жизни, составляет страх покинуть навсегда людей, то есть остаться одному. Это – духовно-психологический корень страха смерти.
А теперь спросим себя: когда человеку бывает хорошо с другими, когда он наиболее привязан к людям и жизни?
Тогда, когда в качестве главной регуляции межличностных отношений выступает не прагматически-утилитарный, а нравственный кодекс, когда люди ведут себя как люди. Уберите нравственный регулятор – и жизнь становится бесцветной, функциональной, недостойной человека. Перемолоть челюстями несколько тонн деликатесов и понежить тело в комфорте – вот кредо сегодняшней эпохи без идеалов, усталости от идеалов, а значит и усталости от жизни.
В сверхсложном духовном мире личности все сводимо вместе с тем к неким уровням простоты: единственно сдерживающим фактором, противостоящим хищному прагматизму, являются непрагматические, т. е. нравственные императивы. Уберите нравственность – и вы получите образцового прагматика. Напротив, нравственная ангажированность делает прагматика ущербным.
До сих пор человечество так или иначе ориентировалось и ориентируется на идеалы духовности; лучшие люди старались выдумать нечто такое, что делало бы жизнь человека духовно все более и более совершенной. М.Л. Кинг потряс прагматичную до мозга костей Америку золушкиной интонацией: «У меня есть мечта…».
А мы сегодня отказываемся от утопий, провозглашаем курс на прагматизм – и получаем то, что и должны были получить: породу людей, сладострастно продолжающих традиции пирроновой свиньи. Идеальная недостижимость благородного принципа «человек человеку брат» заменена девизами паханов: миром правит «братва» и «даешь пир во время чумы». И что самое печальное – «братва» легализовалась, подонкам никто не возражает; они почувствовали себя «людьми», поскольку их правила игры ничем не отличаются от правил вождей «в законе». В обществе не осталось нравственных авторитетов, их сменили просто «авторитеты»; уголовщина, т. е. абсолютные прагматики, правят бал.
Разочарование в людях приводит лучших, элитных человеков к катастрофическому преодолению страха смерти. Если что и держит на плаву, так это точно не любовь к людям; отвращение же ко всеобщему свинству – не лучший стимулятор жизни.
Любовь к природе, редкое общение с избранными близкими, возможность порадовать тело – вот скудные удовольствия приличных людей. Жизнь, лишенная нравственного смысла, становится бесцветной, пустой, бессодержательной, скучной…
* * *
Благодаря чувству целостности во мне зреет и обостряется чувство маргинальное. Именно маргинальность как оборотная сторона универсальности становится способом существования. Я не вписываюсь целиком и без остатка ни в одно из известных мне измерений – не из каприза, а из нравственно-познавательной потребности. Я – русский, но вырос в Таджикистане, а живу в Белоруссии; будучи филологом, склонен к философии (разумеется, и там, и там я одинаково чужой); живя семьей – стремлюсь к одиночеству; занимаюсь наукой, предмет которой в силу своей специфичности не является научным в традиционном смысле: вот почему изложение материала требует более чуткого внимания к проблемам стиля, чем это принято в собственно науке; взращен я на традициях западного рационализма, а приходится существовать в среде во многом азиатского менталитета; я отнюдь не аскет, но пальцем не шевелю, чтобы приблизить достаток; не уважая коллег, вынужден заручаться их поддержкой и благорасположением, чтобы войти в круг так называемых избранных: это лучший способ оградить себя от общения с коллегами; чувствуя мощь аналитического ума, я вынужден прикидываться интеллектуальной овцой; и т. д. Короче говоря, свой среди чужих, чужой среди своих.
Мне дано не просто видеть относительность всего, но жить по принципу дополнительности. В результате у меня сформировался комплекс «человека познания» (Ницше), комплекс мудреца. Дело в том, что если человек действительно и с вескими на то основаниями считает себя «аристократом духа», то со временем у него неизбежно проявляются черты особой духовной породы. (В данном случае я рассматриваю это не как предмет гордости или тщеславия, а как объект для изучения.)
Что роднит Сократа, Платона, Шопенгауэра, Ницше?
Чувство избранности. Их могучий интеллект настолько очевидно не соразмерен здравому рассудку, необходимому, чтобы прожить «достойную» жизнь, что проблема своей ниши превращается в их крест. Они безо всякого кокетства буквально чувствуют себя богоравными среди самых обычных людей. Каким-то образом им удается обнаружить главный человеческий «механизм» – и потом всю жизнь делиться сокровенным знанием, вначале с недоумением, а потом и с ужасом понимая, что мозги окружающих устроены на какой-то удивительный манер, не позволяющий им видеть и воспринимать, казалось бы, очевидное. Сталкиваясь с дремучим мифологическим сознанием, мудрецы рано или поздно приходят к выводу, что люди вокруг них – «всего лишь человечество», стадо умственно ограниченных существ. На смену благим порывам «послужить» людям приходит культ личности, избранности, уникальности, с присущей этому мироощущению трагической изнанкой.
По-человечески легко понять тех, кто, осознавая свой дар, вынужден считаться с мнением идиотов. Известная озлобленность, а то и брезгливость по отношению к духовному «быдлу» так естественна со стороны тех, кого всю жизнь ничтожество третирует, объявляя ненормальными, сумасшедшими, недоумками.
Чувство избранности приходит не от ущемленного тщеславия, не от неоправданно завышенного самомнения (это было бы неполноценное чувство избранности, даже лжеизбранности) – а как приговор, как трезвый и беспощадный диагноз. Мудрец начинает чувствовать себя обязанным только по отношению к истине, мнение же окружающих для него превращается в пустой звук, и даже в отсутствие звука. В известном смысле он становится выше людей. При желании можно и поиронизировать над «сверхчеловеками», королями без королевства; с другой стороны, достойна сочувствия их способность к познанию, безжалостно возвысившая их над людьми.
В таких случаях, как мне кажется, спасает все то же чувство маргинальности: чем дальше ты в духовном смысле дистанцируешься от непосвященных (процесс, увы, неизбежный и оправданный), тем более необходимо спутывать себя нитями общественных связей. В определенном смысле надо всегда быть «как все».
Мне как маргиналу хочется побывать и быть во всех шкурах: в молодости – шалопаем, в зрелые годы ощутить силу мысли, но одновременно в молодости предчувствовать свою незаурядность, а по зрелости не утратить некоторой склонности к легкомыслию.
Сила моя, как я ее ощущаю, проявляется в том, что я способен понять всех, давая при этом прочувствовать другим мою установку на принципиальность: понимать еще не значит одобрять, а тем более разделять. Слабость моя, если угодно, вытекающая из так обозначенной «силы», таится в осознании того, что вряд ли я могу быть понят в настоящих масштабах, а потому моим делам житейским так не хватает пафоса амбициозности.
Я восхищаюсь, если распространить мое чувство целостности на высокую культуру, оригинальными и глубокими подходами всех настоящих мыслителей, которые в своем культурном климате и контексте сумели обнаружить сногсшибательный ракурс и перевернуть, по отношению к общепринятым догмам, мир с ног на голову. Но до сих пор мыслители полемично увлекались акцентами, абсолютизируя верный, но тем не менее один в ряду равноправных других, момент. Целостная картина мира всегда карикатурно искажалась в угоду «акценту». Таков результат мышления от противного.
Все мыслители, противоречащие друг другу, правы. Теперь необходима правота иного порядка, которая могла бы объединить их всех, указав на относительную правоту каждого. Человечество накопило и в политике, и в экономике, и в области нравственности и философии столько программ-вариантов и такого качества, что настало время разглядеть их внутреннюю зависимость и взаимообусловленность.
Маргинал-сверхчеловек всегда был, есть и будет; он всегда противостоял норме, которая является таковой только в известном отношении. Пора уяснить, что путь к истине лежит не только через борьбу и противостояние (мы же привыкли: борьба за истину, в споре рождается истина) – но и через способность к согласию, компромиссу; путь к истине маргинален, как маргинальна и сама истина. Установка на конфронтацию выдает воинствующих идеологов, духовность которых зиждется на изжившем свой позитивный ресурс архетипе: пусть мир рухнет, а истина останется. НЕмаргинальное мышление фанатиков, допускающее, что из двух истин одна всегда неистина, что «истина» важнее «неистины» настолько, что последнюю можно объявить вне закона без ущерба для первой, – такое мышление становится самым тяжелым недугом культуры.
Мир – един, а потому да здравствуют мыслители-маргиналы, которые и истиной не поступятся, и мир при этом сохранят.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































